На скосе века
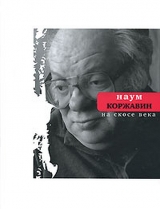
Текст книги "На скосе века"
Автор книги: Наум Коржавин
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
Реминисценция
И вот живу за краем света,
В тот мир беспечный занесён,
Где редко требует поэта
К священной жертве Аполлон.
Где редко Феб и вспоминает
О ней… А спит, забыв про Суд.
Поскольку трезво понимает:
Здесь этой жертвы – не поймут.
И где поэт – ничто до срока:
Запел, заглох и вышел весь…
Где больше дела – для пророка.
Но только камни есть и здесь.
1978
Грустная самопародия ( cм.)
Нелепая песня
Заброшенных лет:
«Он любит Её,
А Она Его – нет».
Ты что до сих пор
Дуришь голову мне,
Чувствительный вздор,
Устаревший вполне?
Сейчас распевают
С девчоночьих лет:
– Она Его любит,
А Он Её – нет.
…Да, Он – её знамя,
Она – его мёд.
Ей хочется замуж,
А Он – не берёт.
Она бы сумела
Парить и пленять.
Да Он не охотник
Глаза поднимать.
И дать Ему счастье
Не хватит Ей сил:
Сам призрачной власти
Её Он лишил…
…Всё правда. Вот песня
Сегодняшних дней.
Я сам отдаю
Предпочтение ей.
Но только забудусь —
И слышу в ответ:
«Он любит Её,
А Она Его – нет».
И вновь повторяю,
Хоть это не так,
Хоть с этим не раз
Попадал я впросак.
Ах, песня! Молчи,
Не обманывай всех.
Представь, что нашёлся
Такой человек.
И вот Он, поверя
В твой святочный бред,
Всё любит Её,
А Она Его – нет.
Подумай, как трудно
Пришлось бы Ему.
Ведь эти пассажи
Ей все ни к чему.
Совсем не по чину
Сия благодать.
Ей тот и мужчина,
Кому наплевать.
Она посмеётся
Со злостью слепой
Над тем, кто Её
Вознесёт над собой.
Иль встанет с Ним рядом,
Мечтая о том,
Как битой собакой
Ей быть при другом.
А этот – и в страсти
Он, видимо, слаб…
Ведь нет у Ней власти,
А Он – Её раб.
Вот песня! Ты слышишь?
Так шла бы ты прочь!
Потом ты ему
Не сумеешь помочь.
А впрочем, что песня?
Её ли вина,
Что в ней не на месте
Ни Он, ни Она,
Что всё это спорит
С подспудной мечтой
И в тайном разладе
С земной красотой…
Но если любовь
Вдруг прорвётся на свет,
Вновь:
Он Её любит,
Она Его – нет.
Хоть прошлых веков
Свет не вспыхнет опять,
Хоть нет дураков
Так ходить и страдать.
Он тоже сумел бы
Уйти от Неё,
Но Он в Ней нашёл
Озаренье своё.
Но манит, как омут,
Её глубина,
Чего за собой
И не знает Она.
Не знает, не видит.
Пускай! Ничего.
Узнает! Увидит! —
Глазами его.
Есть песня одна
И один только свет:
Он любит Её,
А Она его – нет.
1962
* * *
Могу в Париж и Вену.
Но брежу я Москвой,
Где бьётесь вы о стену,
О плиты головой,
Надеясь и сгорая,
Ища судьбы иной.
И кажется вам раем
Всё то, что за стеной.
Где, все сместив оценки —
Такие времена, —
Я так же бьюсь о стенку,
Хоть стенка
из говна.
1980
Песня отдельной лейб-казачьей сотни неизвестного эскадрона
Но настала та минута,
Паруса вовсю надуты,
Грузим пушки в трюм.
Здравствуй, Дон! И здравствуй, Терек!
Покидаем дальний берег
И плывём в Арзрум.
И плывём в Арзрум.
Что ж вы, братцы лейб-казаки!
Иль впервой менять биваки?
Так о чём тужить?
Что за страх – края чужие!
Раз мы войско, мы в России,
Где б ни вышло жить.
Где б ни вышло жить.
1982
* * *
Горожане в древнем городе Содом
Были заняты развратом и трудом.
Рос разврат и утончался… И всегда
С ним росла производительность труда.
И следил всё время строго их Сенат,
Чтоб трудом был обеспечен их разврат.
Телевидение в городе Содом
Просвещение вносило в каждый дом.
Дух Прогресса всех учило постигать:
Наслаждаться, но расплаты избегать.
Пусть кто хочет превращает в матерей
Их одиннадцатилетних дочерей.
Что пугаться? – были б в деле хороши!
В том и жизнь. И нет ни Бога, ни души.
Наслаждайся!.. А к вакханкам охладел, —
Есть в запасе свежесть юношеских тел.
Что там грех – забвенье смысла и лица
Перед скукой неизбежного конца?
Все ли думали так в городе Содом?
Может быть… Да кто расскажет нам о том?
Остальные ведь молчали – вот напасть! —
В ретрограды было стыдно им попасть…
И от всех, кто прямо чтил не Дух, а плоть,
Их потом не отделял уже Господь.
Чем всё кончилось – известно без меня.
Что вникать в природу Божьего огня.
Все сгорели в древнем городе Содом,
А при жизни размышляли не о том,
Не о том, за что сожгут, на что пенять…
Лишь – куда себя девать и чем занять.
Рочестер, Нью-Йорк, 14–25 ноября 1993 – Бостон, 1–2 декабря 1993
Воспоминание о «Белом доме»
Как в России напоследок
Сатана творил содом.
Хор несчастных людоедок
Плакал: «Смело в бой пойдём!»
Хор постигших с малолетства
В звуках горна и трубы,
Как прекрасно людоедство
Вечной классовой борьбы.
Так и жили – век на взводе,
Всё в борьбе. За годом год.
Вроде в классовой… А вроде
И в другой – словарь не тот.
В общем, жизнь была иная.
Пыл всё гас… Напор всё тих…
Ложь сгущалась… Сам не знаю,
Чем питалась верность их.
Кто смущал их, этих малых?
К власти путь кто им торил?
Соблазнял их, поднимал их:
Их руками зло творил?
Кто учил, тишком иль с ходу,
Брать бодливо на рога,
Всех инаких – тех, кто воду
Лил на мельницу врага?
Научились. Строго звали
Светом тьму. И сверх того…
Но порой добры бывали,
Выручали кой-кого…
Всё же бабы… Вдруг жалели…
Но – вели. Вели всегда.
Поднимались – к дальней цели,
Оказалось – в никуда…
Всё распалось. Не в столетьях,
А при них. Само собой…
…И в глазах у женщин этих
Злость, растерянность и боль…
Нет ни ясности, ни роли.
Лишь одно при них всегда —
Страсть топтать ту злую волю,
От которой вся беда.
Им не в бой, им в день вчерашний,
В царство веры и мечты…
И теснят они бесстрашно
Милицейские щиты.
И кричат про гнев народа,
Нищету, разврат, разброд —
Всё, к чему вели все годы,
Что теперь плоды даёт.
Обнажают все печали
Ими сбитой с ног страны.
Лишь виня. Не ощущая
Никакой своей вины.
Смело в бой! На смерть хотя бы!
Прут и прут, входя в азарт.
Людоедки? Нет – партбабы!
Те же бабы, только – «парт».
Но горит в них, как горела,
Гордость верностью своей, —
Всё тому ж Большому Делу,
Пожиравшему людей.
Ну и лжи… В ней стыд? Едва ли!
Всю-то жизнь от всей души
Лжи внимали, сами лгали,
Так бы век дожить во лжи!
Не дают… Но напоследок
Вновь, – что было, всё не в счёт —
Хор несчастных людоедок
В бой за власть людей зовёт.
И душа молчит в бессилье.
«Смело в бой!» – в ушах звучит.
Словно впрямь так вся Россия,
Потеряв себя, кричит.
И тогда спасенья нету:
Все сгорят, и я сгорю…
…А начав писать про это,
Сам я думал, что острю.
Рочестер, Нью-Йорк, 15 ноября 1993 – Бостон, январь 1994
Западное, культурное
Гнёт некультурности неистов,
Всегда он рад врагов крушить…
Жалейте, люди, террористов:
Цыплёнок тоже хочет жить.
1989
Идиотские опусы
(Старческое баловство Н. Коржавина)
Семьдесят летКрасногвардейская
К обращенью «старик» с юных лет я привык…
…Не входя в смысловые детали,
«Как ты съездил, старик?», «Ладно, выпьем, старик!» —
Только так мы друг друга и звали.
И никто не перечил нам даже смешком,
Были все подыграть нам готовы.
…А теперь, чуть себя назовёшь стариком,
Все вокруг возмущаются: «Что вы!»
Московским дикторам
Говорят: в венке из роз
Впереди Исус Христос.
А вокруг пурга и дым,
Мы в рядах спешим за ним.
Рядом знамя развернул
Наш товарищ Вельзевул.
Стихи отставного батальонного Замполита капитана А. Лебёдкина
Хоть эксклюзивен Moscow-river City,
Но с языком, ребята, не дурите.
1. Нравоучение Киплингу [10]10
Основано на чистой напраслине.
[Закрыть]
Ах ты, Киплинг, пресловутый Редиард!
Не играл бы ты по целым дням в бильярд
И с цыганками ночами б не плясал, —
Может, путное бы что и написал…
…А не славил бы как проклятый всю жизнь
Свой британский – плюнь да брось! – имперьялизм.
2. Жизнь человека
Он в среду водку пил,
В четверг жену лупил,
А после во фрайдей
Ходил искать блядей.
3. Отповедь Г. Гессе
Полно, Гессе!.. Не обманешь нас, Герман!
Что тебе колхозный сев? Что промфинплан?
Ты в подробностях прельстительных застрял.
На тебя пора готовить матерьял.
4
Совковая баллада
Пусть Сталин мёртв – сгодится брат его.
В России ночь, все кошки серы.
За Родину, за Хасбулатова! —
Пойдут в атаку офицеры.
Гумиста. И Карабах.
Всюду бой, и всюду страх.
Всюду правит злобный рок —
На совка пошёл совок.
Делом заняты совки —
Рвут отчизну на куски.
Разрушая (для чего?)
Стены дома своего.
Пусть!.. Вожди ведут их в бой.
Каждый движется мечтой
Стать отдельным Глав-совком
Над оторванным куском.
Разгорается борьба,
Расширяется пальба.
И становятся всё злей
Люди разных лагерей.
Им друг друга не понять.
И ничем их не унять:
Расхожденья глубоки:
Те совки, и те совки.
ПОЭМЫ
Танька
Седина в волосах.
Ходишь быстро. Но дышишь неровно.
Всё в морщинах лицо —
только губы прямы и тверды.
Танька!
Танечка!
Таня!
Татьяна!
Татьяна Петровна!
Неужели вот эта
усталая женщина —
ты?
Ну а как же твоя
комсомольская юная ярость,
Что бурлила всегда,
клокотала, как пламень, в тебе! —
Презиравшая даже любовь,
отрицавшая старость,
Принимавшая смерть
как случайную гибель в борьбе.
О, твоё комсомольство!
Без мебелей всяких квартира,
Где нельзя отдыхать —
можно только мечтать и гореть.
Даже смерть отнеся
к проявлениям старого мира,
Что теперь неминуемо
скоро должны отмереть…
…Старый мир не погиб.
А погибли друзья и подруги,
Весом тел
не влияя ничуть
на вращенье Земли.
Только тундра – цвела,
только выли колымские вьюги,
И под мат блатарей
невозвратные годы ушли.
Но опять ты кричишь
с той же самою верой и страстью.
В твоих юных глазах
зажигается свет бирюзы.
– Надо взяться!
Помочь!
Мы вернулись – и к чёрту несчастья…
Ты – гремишь.
Это гром
отошедшей,
далёкой грозы.
Хочешь в юность вернуться.
Тебе до сих пор непонятно,
Что у гроз,
как у времени,
свой, незаказанный путь.
Раз гроза отошла,
то уже не вернётся обратно, —
Будут новые грозы,
а этой – твоей – не вернуть.
– Перестань! —
ты кричишь, —
ведь нельзя,
ничего не жалея,
Отрицать-обобщать.
Помогай,
критикуй,
но – любя! —
Всё как раньше:
идея,
и жизнь – матерьял для идеи…
Дочкой правящей партии я вспоминаю тебя.
Дочкой правящей партии,
не на словах, а на деле
Побеждавшей врагов,
хоть и было врагов без числа.
Ученицей людей,
озарённых сиянием цели, —
Средь других,
погружённых всецело
в мирские дела.
Как они тормозили движенье,
все эти другие,
Не забывшие домик и садик —
не общий, а свой.
Миллионы людей,
широчайшие массы России,
Силой бури взметённой
на гребень судьбы мировой.
Миллионы на гребне,
что поднят осеннею ночью
К тем высотам, где светит
манящая страны звезда.
Только гребень волны —
не скала
и не твёрдая почва.
На такой высоте
удержаться нельзя навсегда.
Только партия знала,
как можно в тягучести буден
Удержать высоту
в первозданной и чистой красе.
Но она забывала,
что люди —
и в партии люди.
И что жизнь – это жизнь.
И что жизни подвержены – все.
А ты верила в партию.
Верила ясно и строго.
Без сомнений.
Отсутствием оных
предельно горда.
И тебе не казалось,
что раньше так верили в Бога…
Слишком ясные люди
тебя окружали тогда.
Танька! Танька!
Ты помнишь, конечно,
партийные съезды.
И тревогу в речах меньшинства
за любимый твой строй.
И в ответ на тревогу
глумливые выкрики с места:
– Не жалаим!
– Здесь вам не парламент!
– С трибуны долой!
В тех речах было всё
так тревожно,
запутанно,
сложно:
Хорошо бы пройти в эти дали,
да вряд ли пройдём.
Ну, а Вождь отвечал
очень ясно:
– Для нас —
всё возможно!
Коммунисты – пройдут!..
Ты, конечно, пошла за Вождём.
Тебе нравилось всё:
высший смысл…
высший центр…
дисциплина…
Пусть хоть кошки скребут,
подчиняйся,
зубами скрипя.
Есть прямая дорога.
Любые сомненья —
рутина…
Дочкой правящей партии
я вспоминаю тебя.
Помнишь, Танька,
была ты в деревне
в голодное лето?
Раскулаченных помнишь,
кто не был вовек кулаком?
Ты в газету свою написать
не решилась про это,
Чтоб подхвачено не было это
коварным врагом.
Создаются колхозы,
и их возвеличивать нужно.
Новый мир всё вернёт
расцветающим жителям сёл.
А ошибки – простят…
Эти фразы сгодились для службы
Людям старого мира —
он быстро сменять тебя шёл.
Старый мир подступал,
изменяя немного личину.
Как к нему подошло
всё, что с болью создали умы:
Высший смысл.
Высший центр.
И предательский культ
дисциплины,
И названья идей…
Танька, помнишь снега Колымы?
Танька,
Танечка,
Таня!
Такое печальное дело!
Как же ты допустила,
что вышла такая беда?
Ты же их не любила,
ведь ты же другого хотела.
Почему ж ты молчишь?
Почему ж ты молчала тогда?
Как же так оказалось:
над всеми делами твоими
Неизвестно в какой
трижды проклятый
месяц и год
Путь, открытый врагам, —
эта хитрая фраза: «во имя» —
Мол, позволено всё,
что, по мысли, к добру приведёт.
Зло во имя добра!
Кто придумал нелепость такую!
Даже в страшные дни,
даже в самой кровавой борьбе
Если зло поощрять,
то оно на земле торжествует —
Не во имя чего-то,
а просто само по себе.
Все мы смертные люди.
Что жизни —
все наши насилья?
Наши жертвы
за счёт ослеплённых
ума и души!
Ты лгала – для добра,
но традицию лжи подхватили.
Те, кто больше тебя
был способен к осмысленной лжи.
Все мы смертные люди.
И мы проявляемся страстью.
В нас, как сила земная,
течёт неуёмная кровь.
Ты любовь отрицала
для более полного счастья.
А была ль в твоей жизни
хотя бы однажды любовь?
Никогда.
Ты всегда презирала пустые романы.
Вышла замуж.
(Уступка —
что сделаешь: сила земли.)
За хорошего парня…
И жили без всяких туманов.
Вместе книги читали,
а после и дети пошли.
Над детьми ты дрожала…
А впрочем – звучит как легенда —
Раз потом тебе нравился очень,
без всяких причин,
Вопреки очевидности, —
худенький,
интеллигентный
Из бухаринских мальчиков
красный профессор один.
Ты за правые взгляды
ругала его непрестанно.
Улыбаясь, он слушал
бессвязных речей твоих жар.
А потом отвечал:
«Упрощаете вещи, Татьяна!»
И глядел на тебя.
Ещё больше тебя обожал.
Ты ругала его.
Но звучали слова как признанья.
И с годами бы вышел, наверно,
из этого толк.
Он в политизолятор попал.
От тебя показаний
Самых точных и ясных
партийный потребовал долг.
Дело партии свято.
Тут личные чувства не к месту.
Это сущность.
А чувства, как мелочь,
сомни и убей.
Ты про всё рассказала
задумчиво,
скорбно и честно.
Глядя в хмурые лица
ведущих дознанье людей.
Что же – люди как люди.
Зачем же, сквозь эти
«во имя»
Проникая
в сомнений неясных
разбуженный вал,
Он глядел на тебя,
добрый, честный,
глазами родными
И, казалось,
серьёзный и грустный
вопрос задавал.
Ты ответить ему не могла,
хоть и очень хотела.
Фразы стали пусты,
и ты стала немой, хоть убей.
Неужели же мелочь —
интимное личное дело —
Означало так много
в возвышенной жизни твоей?
Скоро дни забурлили в таинственном приступе
гнева.
И пошли коммунисты на плаху,
на ложь и позор.
Без различья оттенков:
центральных, и правых,
и левых —
Всех их ждало одно впереди:
клевета и топор.
Ты искала причин.
Ты металась в тяжёлых догадках.
Но ругала друзей,
повторяла, что скажет печать…
«Было б красное знамя…
Нельзя обобщать недостатки.
Перед сонмом врагов
мы не вправе от боли
кричать…»
Но сама ты попала…
Обиды и мрачные думы.
Всё прощала.
Простила.
Хоть было прощенье невмочь.
Но когда ты узнала,
что красный профессор твой умер,
Ты в бараке на нарах
проплакала целую ночь.
Боль, как зверь, подступала,
свирепо за горло хватала.
Чем он был в твоей жизни?
Чем стал в твоём бреде ночном?
Жизнь прошла пред тобой.
В ней чего-то везде не хватало.
Что-то выжжено было
сухим и бесплодным огнём.
Ведь любовь – это жизнь.
Надо жить, ничего не нарушив.
Чтобы мысли и чувства
сливались в душе и крови.
Ведь людская любовь
неделима на тело и душу.
Может, все коммунизмы —
одна только жажда любви.
Так чего же ты хочешь?
Но мир был жесток и запутан.
Лишь твоё комсомольство
светило сквозь мутную тьму
Прежним смыслом своим,
прочной памятью…
Вот потому-то,
Сбросив лагерный ватник,
ты снова рванулась к нему.
Ты сама заявляешь,
что в жизни не всё ещё гладко.
И что Сталин – подлец:
но нельзя ж это прямо в печать.
Было б красное знамя…
Нельзя обобщать недостатки.
Перед сонмом врагов
мы не вправе от боли кричать.
Я с тобой не согласен.
Я спорю.
И я тебя донял.
Ты кричишь: «Ренегат!» —
но я доводы сыплю опять.
Но внезапно я спор обрываю.
Я сдался.
Я понял —
Что борьбе отдала ты
и то, что нельзя ей отдать.
Всё: возможность любви,
мысль и чувство,
надежду и совесть, —
Всю себя без остатка…
А можно ли жить
без себя?
…И на этом кончается
длинная грустная повесть.
Я её написал,
ненавидя,
страдая,
любя.
Я её написал,
озабочен грядущей судьбою.
Потому что я прошлому
отдал немалую дань.
Я её написал,
непрерывной терзаемый болью, —
Мне пришлось от себя отрывать
омертвевшую ткань.
1957
По ком звонит колокол
Эрнесту Хемингуэю
Когда устаю, – начинаю жалеть я
О том, что рождён и живу в лихолетье,
Что годы растрачены на постиженье
Того, что должно быть понятно с рожденья.
А если б со мной не случилось такое,
Я смог бы, наверно, постигнуть другое, —
Что более вечно и более ценно,
Что скрыто от глаз, но всегда несомненно.
Ну, если б хоть разумом Бог бы обидел,
Хоть впрямь ничего б я не слышал, не видел,
Тогда б… Что ж, обидно, да спросу-то нету…
Но в том-то и дело, что было не это.
Что разума было не так уж и мало,
Что слуха хватало и зренья хватало,
Но просто не верило слуху, и зренью,
И собственным мыслям моё поколенье.
Не слух и не зрение – с самого детства
Нам вера как знанье досталась в наследство,
Высокая вера в иные начала…
О, как неохотно она умирала!
Мы знали: до нас так мечтали другие.
Но всё нам казалось, что мы – не такие,
Что мы не подвластны ни року, ни быту,
Что тайные карты нам веком открыты.
Когда-нибудь вспомнят без всякой печали
О людях, которые меры не знали.
Как жили они и как их удивляло,
Когда эта мера себя проявляла.
И вы меня нынче поймёте едва ли,
Но я б рассмеялся, когда б мне сказали,
Что нечто помимо есть важное в мире,
Что жизнь – это глубже, страшнее и шире.
Уходит со сцены моё поколенье
С тоскою – расплатой за те озаренья.
Нам многое ясное не было видно,
Но мне почему-то за это не стыдно.
Мы видели мало, но значит немало,
Каким нам туманом глаза застилало,
С чего начиналось, чем бредило детство,
Какие мы сны получили в наследство.
Летели тачанки, и кони храпели,
И гордые песни казнимые пели,
Хоть было обидно стоять, умирая,
У самого входа, в преддверии рая.
Ещё бы немного напора такого —
И снято проклятие с рода людского.
Последняя буря, последняя свалка —
И в ней ни врага и ни друга не жалко.
Да! В этом, пожалуй что, мудрости нету,
Но что же нам делать? Нам верилось в это!
Мы были потом. Но мы к тем приобщались,
Нам нравилось жить, о себе не печалясь.
И так, о себе не печалясь, мы жили.
Нам некогда было – мы к цели спешили.
Построили много и всё претерпели
И всё ж ни на шаг не приблизились к цели.
А нас всё учили. Всё били и били!
А мы всё глупили, хоть умными были.
И всё понимали. И не понимали.
И логику чувства собой подминали…
Мы были разбиты. В Москве и в Мадриде.
Но я благодарен печальной планиде
За то, что мы так, а не иначе жили,
На чём-то сгорели, зачем-то дружили.
На жизнь надвигается юность иная,
Особых надежд ни на что не питая.
Она по наследству не веру, не силу —
Усталое знанье от нас получила.
От наших пиров ей досталось похмелье.
Она не прельстится немыслимой целью,
И ей ничего теперь больше не надо —
Ни нашего рая, ни нашего ада.
Разомкнутый круг замыкается снова
В проклятие древнее рода людского.
А впрочем, негладко, непросто, но вроде
Года в колею понемножечку входят.
И люди трезвеют и всё понимают,
И логика место своё занимает,
Но с юных годов соглашаются дети,
Что Зло и Добро равноправны на свете.
И так повторяют бестрепетно это,
Что кажется, нас на Земле уже нету.
Но мы – существуем! Но мы – существуем!
Подчас подыхаем, подчас торжествуем.
Мы – опыт столетий, их горечь, их гуща,
И нас не растопчешь – мы жизни присущи.
Мы брошены в годы как вечная сила,
Чтоб Злу на планете препятствие было!
Препятствие в том нетерпенье и страсти,
В той тяге к добру, что приводит к несчастью.
Нас всё обмануло: и средства, и цели,
Но правда всё то, что мы сердцем хотели.
Пусть редко на деле оно удаётся,
Но в песнях живёт оно и остаётся.
Да! Зло развернётся… Но, честное слово,
Наткнётся оно на препятствие снова,
Схлестнётся… И наше с тобой нетерпенье
Ещё посетит не одно поколенье.
Вновь будут неверными средства и цели,
Вновь правдой – всё то, что мы сердцем хотели,
Вновь логика чувствами будет подмята,
И горькая будет за это расплата.
И кто-то, измученный с самого детства,
Усталое знанье получит в наследство.
Вновь будут несхожи мечты и свершенья,
Но будет трагедия значить – движенье.
Есть Зло и Добро. И их бой – нескончаем.
Мы место своё на Земле занимаем.
1958








