На скосе века
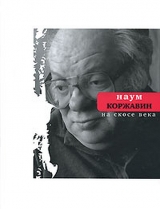
Текст книги "На скосе века"
Автор книги: Наум Коржавин
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
* * *
На жизнь гневись не очень —
Обступит болью враз.
Всё высказать захочешь,
А выйдет – пересказ.
И будешь рваться с боем
Назад – сквозь тьму и плоть, —
От жизни этой болью
Отрезанный ломоть.
Начнёшь себе же сниться
От мыслей непростых.
И в жажде объясниться
Тонуть в словах пустых.
Как будто видя что-то
В себе – издалека…
Расплывчатое фото,
Неточная строка.
То ль свет застрял слепящий
В глазах – как зов мечты,
То ль жизни отходящей
Стираются черты.
1981
* * *
Давно б я убрался с земли.
Да Бога боюсь и петли.
Не стану храбриться, юля.
Мне очень страшна и петля.
Но всё не кончается с ней,
И Бога боюсь я сильней.
Вот явишься… Пена у рта…
Тебе ж вместо «здравствуй» – «Куда?
В творении замысел есть,
Ты должен быть там, а не здесь.
А ну-ка, поддайте орлу!..»
И тут же потащат к котлу.
И бросят – навек, не на срок —
В бурлящий крутой кипяток.
А вскрикнешь: «За что мне казан?» —
И вспыхнет в сознанье экран.
И выйдут из мира теней
Все мерзости жизни твоей.
Всё то, что, забывшись, творил,
Что сам от себя утаил,
Предстанет на этом холсте
В бесстыдной твоей наготе.
Как жил я – судить не берусь.
Но вспомнить всё это – боюсь.
Да всё ли Господь мне простил,
Что я себе сам отпустил?
Нет, лучше пока подожду,
Не буду спешить за черту.
Ко всем, не нарушившим черт,
Господь, говорят, милосерд…
1980
Флоридское
Мне будто вправду ничего не надо.
Взволнует что-то – тут же мысль: «Пустяк!»
Флоридский берег. Всюду след торнадо.
Барашки волн ползут на скоростях.
Купаться трудно. Лезу как для вида.
Всё взять спешу – здесь ненадолго я…
Но что за бред? Торнадо и Флорида.
И рядом – я… Но это – жизнь моя.
Рождён я там, где взорвалась планета,
Откуда смерч гудит по всем местам.
Пусть это здешний смерч, – неважно это:
Раз он мешает жить, возник он там.
Шучу, наверно… Или брежу прошлым.
Но взрыв тот был. Здесь всё – его дела.
Его волной я был сюда заброшен,
В его тылах вся жизнь моя прошла.
Наш быт при нас всегда был зыбок, вспенен,
Спокойных дней – почти ни одного…
«Тот ураган прошёл»! Не знал Есенин,
Как этот век вобрал в себя его.
Как от него страдать придётся людям
На всей земле не за свои грехи,
Но стоп, – уважим высший вкус, не будем
Вводить социологию в стихи.
Но дни идут. И время всё смягчает.
Торнадо скрылся. Над Флоридой зной.
И даже волны скорости снижают…
Что ж, можно жить… Но я хочу домой.
14 июля 1986
На вечере поэтов
Стихи все умерли со мной
Давно… А зал их – ждал.
И я не плыл за их волной —
По памяти читал.
И было мне читать их лень,
И горько душу жгла
Страсть воскресить вчерашний день,
Когда в них жизнь была.
Тогда светились их слова
В подспудной глубине…
Теперь их плоть была мертва.
И смерть жила во мне.
Они всю жизнь меня вели
И в них – вся жизнь была.
И вот живыми не дошли
Сюда… А жизнь – прошла.
14 июля 1986
Мечты исполнились
Сон
Я вернулся… Благодать!
Больше не о чем мечтать.
Сон свершился наяву,
Паровоз летит в Москву.
…Но с тоской в окно гляжу:
В вагонзаке я сижу.
Январь 1987
Брайтонские брюзжания
Я в Брайтоне свой кончу век,
Где за окном почти до лета
На тротуарах скользок снег,
А на уборку денег нету.
Верней – расчёта… Трезв расчёт.
Впрямь большинство спасёт сноровка
А шею кто себе свернёт —
Дешевле выплатить страховку.
А мне-то что? Но вот в окно
Гляжу… И злюсь. Брюзжу с чего-то.
Как будто мне не всё равно,
Какие в Брайтоне расчёты.
Что злиться, если жив-здоров?
И твёрдо ведаешь к тому же,
Что здесь ты в лучшем из миров,
А остальные – много хуже.
Всё так, но страх меня гнетёт,
Что и когда беда накатит,
Здесь тот же скажется расчёт
И на спасенье средств не хватит.
1987
Виктору Некрасову
К его 75-летию
Взлёт мысли… Боль тщеты… Попойка…
И стыд… И жизнь плечом к плечу…
– Куда летишь ты, птица-тройка?
– К едрёной матери лечу…
И смех. То ль гордый, то ли горький.
Летит – хоть мы не в ней сейчас…
А над Владимирскою горкой
Закаты те же, что при нас.
И тот же свет. И люди даже,
И тень всё та же – как в лесу.
И чьё-то детство видит так же
Трамвайчик кукольный внизу.
А тройка мчится!.. Скоро ухнет —
То ль в топь, то ль в чьи-то города.
А на московских светлых кухнях
Остры беседы, как всегда.
Взлёт мысли… Гнёт судьбы… Могу ли
Забыть?.. А тройка влезла в грязь.
И гибнут мальчики в Кабуле,
На ней к той цели донесясь.
К той матери… А в спорах – вечность.
А тройка прёт, хоть нет пути,
И лишь дурная бесконечность
Пред ней зияет впереди.
А мы с неё свалились, Вика,
В безвинность, правде вопреки.
…Что ж, мы и впрямь той тройки дикой
Теперь давно не седоки.
И можно жить. И верить стойко,
Что всё! – мы люди стран иных…
Но эти мальчики!.. Но тройка!..
Но боль и стыд… Что мы без них?
Летит – не слышит тройка-птица,
Летит, куда её несёт.
Куда за ней лететь стремится
Весь мир… Но не летит – ползёт.
А мы следим и зависть прячем
К усталым сверстникам своим.
Летят – пускай
к чертям собачьим.
А мы и к чёрту не летим.
И давней нежностью пылая
К столь долгой юности твоей,
Я одного тебе желаю
В твой заграничный юбилей,
Лишь одного, коль ты позволишь:
Не громкой славы новый круг,
Не денег даже…
А того лишь,
Чтоб оказалось как-то вдруг,
Что с тройкой всё не так уж скверно,
Что в жизни всё наоборот,
Что я с отчаянья неверно
Отобразил её полёт.
Лето 1985
Джон Сильвер [6]6
Президент Бостонского университета.
[Закрыть]
Подражание английской балладе
Забыть я это не смогу —
хоть всё на свете прах.
Был за морями МГУ,
а Гарвард – в двух шагах.
Была не сессия ВАСХНИЛ —
церковный строгий зал,
Где перед честными людьми
Джон Сильвер речь держал.
Был честен зал, добро любил,
пришёл за правду встать.
Но, словно сессия ВАСХНИЛ,
хотел одно – топтать.
Шли те же волны по рядам,
был так же ясен враг.
Ну, в общем, было всё как там…
А впрочем, нет, не так.
Здесь – честно звали злом добро,
там – знали, кто дерьмо.
Там был приказ Политбюро,
а здесь – всё шло само.
Само всё шло. В любви к добру,
в кипенье юных сил
Был втянут зал в свою игру
и в ней себя любил,
И, как всегда, сразиться он
был рад со злом любым.
Но главным злом был Сильвер Джон,
стоявший перед ним.
Джон худощав был, сухорук,
натянут, как стрела,
Но воплотил для зала вдруг
всю власть и силу Зла.
Джон точен был и прав кругом,
но зал срывался в крик.
Не мог признать, что зло не в том,
в чём видеть он привык.
И злился в такт его словам,
задетый глубоко.
Не мог признать, что зло не там,
где смять его легко.
За слепоту вступался он
из жажды верить в свет.
Хоть на него был наведён
незримый залп ракет.
Хоть, как всегда, с подземных баз,
из глубины морей
Следил за ним недобрый глаз,
глаз родины моей.
О, этот глаз… Он – боль моя
и знак глухой беды.
В нём след обманов бытия,
сиротство доброты.
В нём всё, чем жизнь моя ярка,
всё, что во мне своё:
Моя любовь, моя тоска
и знание моё.
Всё испытал я: ложь и сталь,
узнал их дружбы взлёт…
И знанью равная печаль
в душе моей живёт.
Но залу был сам чёрт не брат,
и плыл он по волне,
Как плыли много лет назад
и мы в своей стране.
И я, доплыв, на зал глядел
и жизни был не рад.
Казалось: дьявол им вертел —
мостил дорогу в ад.
И всё сияло – вдоль и вширь
в том буйстве светлых сил,
И «пидарас», борец за мир,
плечами поводил.
И рёв стоял. И цвёл Содом.
И разум шёл на слом.
И это было всё Добром.
И только Сильвер – Злом.
Но Джон стоял – и ничего.
А шторм на приступ шёл,
И волны бились об него,
как о бетонный мол.
Стоял и ту же речь держал.
И – что трудней всего —
Знать в этом рёве продолжал,
что знал он до него.
Геройство разным может быть.
Но есть ли выше взлёт,
Чем – то, что знаешь, не забыть,
когда весь зал ревёт?
А я сидел, грустил в углу, —
глядел на тот Содом.
Был за морями МГУ,
а Гарвард – за окном.
Но тут сплелись в один клубок
и Запад, и Восток.
Я был от Гарварда далёк
и от Москвы далёк.
Тогда в Москве сгущался мрак.
Внушались ложь и страх,
И лязг бульдозерных атак
ещё стоял в ушах.
И, помня сессию ВАСХНИЛ,
храня святой накал,
Там кто-то близкий мне любил
за честность этот зал.
А может, любит и сейчас,
сияньем наделив.
Так всё запутано у нас,
так нужен светлый миф.
Знать правду – неприятный труд
и непочётный труд.
Я надоел и там и тут,
устал и там и тут.
Везде в чести – чертополох,
а нарушитель – злак.
И голос мой почти заглох —
ну сколько можно так?
Но только вспомнится мне Джон,
и муть идёт ко дну,
И долг велит мне встать, как он —
спасать свою страну.
Да, мне!.. Хоть мне и не избыть
побег в сии края,
Я тоже в силах не забыть
того, что знаю я.
И вновь тянуть, хоть жив едва,
спасительную нить —
Всем надоевшие слова
банальные твердить.
Твержу!.. Пусть словом не помочь,
пусть слово – отметут.
Пусть подступающую ночь
слова не отведут.
Но всё ж они, мелькнув, как тень,
и отзвучав, как шум,
Потом кому-то в страшный день
ещё придут на ум.
И кто-то что-то различит
за освещённой тьмой…
Так пусть он всё-таки звучит,
приглохший голос мой.
8 января – 22 мая – 3 июня 1988
Оторопь
Где тут спрятаться? Куда?
Тихо входит в жизнь беда,
Всех спасает, как всегда,
От страданий слепота —
лучший друг здоровья.
И в России тоже бред:
Тот – нацист, а тот – эстет.
В том и в этом смысла нет.
Меркнет опыт страшных лет —
пахнет новой кровью.
8 марта 1987
В Африке
Нет, август тут не стал суровым,
Хоть он февраль для южных стран.
Лишь – дань зиме – несётся с рёвом
На нас Индийский океан.
Здесь Африка, хоть Крым по виду.
И даже помнишь не всегда,
Что меж тобой и Антарктидой
Нет ничего… Одна вода.
Всё на экзотику похоже,
Но чушь. Экзотика – заскок.
Здесь нет её… А есть всё то же —
Наплывы волн… морской песок…
И даже эти обезьяны,
Что у дороги сели в ряд.
Всё быт!.. Из дома на поляну
Спустились – дышат и глядят.
Кто любит всюду жизнь живую,
Тот прав: Господь нигде не скуп.
Зима!.. Коржавин, торжествуя,
В Индийских волнах моет пуп.
Сиджфилд, ЮАР, август 1987
Стихи о верёвке
Были с детства мы вежливые
И всю жизнь берегли свои крылья:
Жили в доме повешенного —
О верёвке не говорили.
Крылья нашей надеждою
Были… Воздух… Просторные дали…
Но над домом повешенного —
Лишь над ним! – мы на них всё летали.
И кружились как бешеные,
Каждый круг начиная сначала.
То верёвка повешенного
Нас на привязи прочно держала.
Всё мы рвались в безбрежие…
А срывались – сникали в бессилье.
Душным домом повешенного
Было всё, что вокруг, – вся Россия.
…Так же сник в зарубежье я…
Смолк ворот выпускающих скрежет,
Но верёвка повешенного
Так же прочно и здесь меня держит.
Обрывает полёт она…
Трёт – лишь только о ней позабуду.
Тяжесть гибнущей родины,
Как судьба наша, с нами повсюду.
Тем и жив я пока ещё…
Той верёвкой… Той связью дурацкой…
В пустоте обступающей
Даже страшно с неё мне сорваться.
Предоставлен насмешливо нам
Страшный выбор как дело простое:
Жить с верёвкой повешенного
Или падать в пространство пустое.
И кривая не вывезет…
И куда вывозить? – Всё впустую.
Глянь – весь мир, как на привязи,
Сам на той же верёвке танцует.
Всё счастливей, всё бешенее,
Презирая все наши печали, —
На верёвке повешенного,
О которой мы с детства молчали.
1987
* * *
Дети, выросшие дети,
Рады ль, нет, а мы в родстве.
Как живётся вам на свете —
Хоть в Нью-Йорке, хоть в Москве?
Как вам наше отливалось —
Веры, марши, плеск знамён?
Чем вам юность открывалась
В дни почти конца времён?
И какими вам глазами
Видеть жизнь теперь дано? —
Хоть в Париже, хоть в Казани,
Хоть в Кабуле – всё равно.
Что для веры остаётся
Вам?.. Над чем скорбеть уму?..
Как обжить вам удаётся
Мир, сползающий во тьму?
1987
Пекинские надежды
После Тяньаньмыня
Когда уже не было слова «потом»,
Блеснула возможность, как капелька влаги,
Раскаяньем честным и тяжким трудом
Купить себе право на вечный концлагерь.
Когда, словно шапку, надвинули тьму,
Просветом в сознании начало брезжить,
Что если заслужит, заменят ему
Мгновенную гибель на вечную нежить…
А был он таким же, как в юности мы,
Кипел… Но смертельная мгла обступила.
И странно ль, что мёртвое лоно тюрьмы
Ему показалось милей, чем могила.
Конец застучал сапогами солдат,
Когда предложили ему эту милость,
И то, с чего в ужасе ночью кричат,
Вдруг робкой надеждою в нём засветилось.
Мне страшно – хоть я на свободе, в тепле.
Ведь в мире уже всё иное, чем прежде,
Раз кто-то такой же у нас на земле
Вдруг радость находит в подобной надежде.
1989
* * *
Пошли болезни беспросветные,
Без детских слёз – пора не та.
Последнее и предпоследнее
Перед уходом навсегда.
Не вспыхнет свет за плотной мутностью.
Не тщусь ни встать, ни дверь открыть.
Пришла пора последней мудрости —
Прощаться и благодарить.
За то, что жил, за ослепление,
За боль и стыд, за свет и цвет,
За радость позднего прозрения,
За всё, чего вне жизни нет.
Но странно – нету благодарности,
Хоть жизнь – была, и свет был мил.
Какой-то впрямь наплыв бездарности
Волной тяжёлой память смыл.
Прощанье с жизнью. Что ж не грустно мне,
Все связи рвутся. Всё что есть.
Но здесь я этого не чувствую.
Был с жизнью связан я – не здесь —
Где я живу ещё, Бог милостив.
И рад, что здесь сегодня я.
Прощаться? С чем?.. Не здесь открылось мне
Всё то, чем жизнь была моя.
И равнодушие отчаянья
Гнетёт. И тем сильней оно,
Что, может, даже боль прощания
И та пережита давно —
Там, на балконе в Шереметьево,
Перед друзей толпой родной,
Где в октябре семьдесят третьего
И уходил я в мир иной.
1989
News
Последние известья —
Россия на краю.
Все топчутся на месте
И тешат злость свою.
За крах внушённой веры
В блаженство на земле,
За то, что всё – и мера,
И дом, и хлеб – в золе.
И остаётся скука,
Химера на костях.
И злоба друг на друга
За то, что это так.
И труд невыносимый —
И дальше быть людьми.
И – Господи, спаси нас,
Прости и вразуми.
Но, как скребок по жести,
Опять сквозь жизнь мою —
Последние известья:
Россия на краю.
В ком – страх, в ком – жажда мести.
Страстей – хоть отбавляй.
Все топчутся на месте,
И всех несёт за край.
Кричу: «Там худо будет!
Там смерти торжество!»
Но все друг друга судят,
И всем не до того.
1989
Вагон
А время гонит лошадей.
А. Пушкин
Да, нашей жизни бред и фон
От века грохот был железный.
Вошли мы на ходу в вагон,
Когда уже он нёсся к бездне.
И жили в нём, терпя беду, —
Всю жизнь… Всё ждали… Ждать устали…
И вот выходим на ходу,
Отпав – забыв, чего мы ждали.
Но будет так же вниз вагон
Нестись, гремя неутомимо,
Всё той же бездною влеком,
Как в дни, когда в него вошли мы.
Когда и лязг, и жар, и дым,
Моторы в перенапряженье, —
Всё нам внушало: вверх летим
Из пут земного притяженья.
Но путь был только под уклон.
И на пороге вечной ночи,
Отпав, мы видим – наш вагон
Не вверх ползёт, а вниз грохочет.
Вразнос, всё дальше, в пропасть, в ад.
Без нас. Но длятся наши муки…
Ведь наши дети в нём сидят,
И жмутся к стёклам наши внуки.
1989
Наше время
Несли мы лжи и бедствий бремя,
Меняли, тешась, миф на миф.
А самый гордый, «Наше Время»,
Был вечен – временность затмив.
Само величие крушенья
Внушало нам сквозь гнёт стыда,
Что пусть не наше поколенье,
Но Наше Время – навсегда.
А Наше Время, как ни странно,
Как просто время – вдруг прошло.
На неизлеченные раны
Забвенье пластырем легло.
Но доверять забвенью рано,
Хоть Наше Время – век иной.
Все неизлеченные раны
Всё так же грозно копят гной.
20 мая 1988
СТИХИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ
Попытка начала
Страх временности – вкуса бремя.
И как за временность судить,
Раз ей по силам нынче
время
Само —
затмить иль прекратить.
Сменить бы бремя на беспечность —
Вздыхать, порхать, огнём гореть.
И вдруг сквозь это в чём-то вечность
Почти случайно рассмотреть.
Ах, временность!.. Концы… начала… —
Всё здесь. Всё быт одной поры…
…Но в наши дни она пленяла
Соблазнами другой игры.
И властью путать всё, внушая,
Что видим свет за плотной тьмой,
Энтузиазмом окружая
Наш дух, как огненной тюрьмой.
Ах, временность!.. Ах, вера в благо!
Борьбы и веры жаркий вихрь.
А рядом трупы у продмага
И мухи панцирем на них.
Комната Мандельштама
Когда Мандельштаму дали комнату, венгерский писатель Матэ Залка, комбриг, в будущем – легендарный «генерал Лукач», заявил по этому поводу протест.
По мемуарам Н. Я. Мандельштам
Незаметно, но всё ж упрямо
Революции выцветают.
Дали комнату Мандельштаму —
Фальшь, как плесень, дух разъедает…
Ни к чему ордена и шрамы.
Всюду стройки, а тянет в пьянство.
Дали комнату Мандельштаму —
Уступили опять мещанству.
Всё не так, как было когда-то.
Стихли даже все перепалки.
…И сошлись погрустить ребята
У товарища Матэ Залки.
Хоть комбриг он, и пишет книги,
Славный век ими вместе прожит.
И его нашей жизни сдвиги
Так же радуют и тревожат…
Он молчит, ни на что не ропщет.
Но при случае спросит прямо:
«Как так вышло, что вы жилплощадь
Дали этому… Мандельштаму?
Вы, наверно, забыли, где вы!
Что за наглость – давать квартиры
Не поэтам борьбы и гнева,
А жрецам буржуазной лиры.
Как вам хочется бросить кость им,
Приобщиться, пусть ненадолго.
Коммунисты вы? Хватит! Бросьте!
Обыватели вы, и только».
Не ответят… Но их изнанка
Вся всплывёт – когда ночью чистой
Из той комнаты на Лубянку
Мандельштама свезут чекисты…
Наша истина – меч разящий!..
Пусть пощады чужой не просит!..
…А чекисты теперь всё чаще
Так же точно своих увозят.
Муть на сердце, но в мыслях – строго:
Всё издержки, на солнце пятна.
Минут годы. В конце дороги
Что-то станет и им понятно.
Нет, не то, что за гонку в небыль
Так взимается неустойка…
Лишь одно: штурмовали небо —
Взяли лагерную помойку…
Но и это поймут не скоро,
Хоть и боль будет жечь упрямо:
Как же так – сажать без разбору
Коммунистов и Мандельштама?
Тех, кто полон лишь сам собою,
С храбро шедшими в бой за братство…
Святотатство!..
Но дух наш стоек.
И комбриг снесёт святотатство.
Он не сдастся… Но всё на свете
Вдруг ощерится неприятно.
И в Испанию он уедет —
Снова видеть врага понятным…
И забыть про те казематы,
Где и нынче идут дознанья.
Где, быть может, его ребята
На него дают показанья.
Растворить в пулемётном треске
Подозренья и основанья.
И погибнет он под Уэской,
Страшной правды не сознавая.
Веря в то же: в свои-чужие,
В то же право силы рабочей,
Той, которой поэты в России
Не нужны, а квартиры – очень!
И не будет знать, умирая,
Что и тут зря вставал он грудью:
Что рабочие проиграют,
Но потом будут жить как люди…
Что без власти его оружья
И без веры его могучей
Было б всюду никак не хуже, —
А как правило, всё же лучше.
И что очень давно всё это, —
Как ни крой буржузность лиры, —
Было ясно душе поэта,
Им гонимого из квартиры.
Что игралась другая драма.
И в её исчисленье строгом
Эта комната Мандельштама —
Чья-то луковичка перед Богом.
Начало 1990-х
Надежда
Нет, не сама стопы направила
Ты в эту тьму – волос не рви.
Была проиграна ты дьяволу
Во имя Света и Любви.
То дальний блеск, то лужи строек лишь…
Да знал ли тот игрок шальной,
С кем и на что играл – и проигрыш
Какой оплачивал ценой.
Не знал… Но верил в даль, в движение.
И в споре с веком и судьбой
Полёт души и напряжение
Всю жизнь поддерживал борьбой.
Теперь глядит глазами шалыми,
Как бьётся, ужаса полна,
В когтях чертей страна усталая,
Проигранная им страна.
И на душе-то – ох не весело.
Но есть надежда – Божий суд.
Где с подписью его все вексели,
Как при мошенстве, – не учтут.
Начало 1990-х
* * *
Простите все, кого я не любил.
Я к вам несправедлив, наверно, был.
Мне было мало даже красоты
Без высоты и строгой простоты.
Мой суд был строг… Но даже след сгорел
Высот, с которых я на вас смотрел.
К чему тот суд? Теперь, как вы, и я
Стою в конце земного бытия.
И вижу вас… Как я, кто вас судил, —
В свой страшный век доживших до седин.
Ему плевать, что думал кто о ком, —
Всех, как клопов, морил он кипятком.
И, как картошку, пёк в своей золе,
Но, как и я, вы жили на земле.
И извивались каждый день и час.
Я ж красоту любил – судил я вас…
А если б не судил – то кем бы был?..
Простите все, кого я не любил.
Начато в Норвиче в июле 1992, закончено в Бостоне 7 августа 1992.
* * *
Дни идут… а в глазах – пелена.
Рядом гибнет родная страна.
Мало сил… Всё тусклей боль и стыд.
Я кричу, а душа не кричит.
Я свой крик услыхать не могу,
Словно он – на другом берегу.
Нортфилд, Вермонт, июль 1991
Тем, кто моложе
Наш путь смешон вам? – Думайте о нём…
Да, путались!.. Да, с самого начала.
И да – в трёх соснах. Только под огнём.
Потом и сосен никаких не стало.
Да, путались. И с каждым днём смешней,
Зачем, не зная, всё на приступ лезли.
…И в пнях от сосен. И в следах от пней.
И в памяти – когда следы исчезли.
Ах, сколько смеху было – и не раз —
Надежд напрасных, вдохновений постных,
Пока открыли мы – для вас! для вас! —
Как глупо и смешно блуждать в трёх соснах.
11 сентября 1991
* * *
Клонит старость к новой роли,
Тьму наводит, гасит свет.
Мы всю жизнь за свет боролись
С тьмой любой… А с этой – нет.
Мало сил, да и не надо,
Словно впрямь на этот раз
Тьмою явлен нам Порядок,
Выше нас, мудрее нас.
Словно жизнь и ход событий
Нам внушает не шутя:
Погостили – уходите,
Не скандальте уходя.
1990-е
* * *
Вариант
Клонит старость к новой роли,
Тьму наводит, гасит свет…
Мы всю жизнь за свет боролись
С тьмой любой… А с этой – нет…
Нет, не бунт – покорность боли.
Что тут можем – ты иль я?
Против нас – не злая воля,
А пределы бытия.
Тьмою возраст обступает.
Что ж, смирись – в душе, в уме…
И не верь, что утопает
Вся Россия в той же тьме.
А – похоже! Смотрим с болью
На неё, свой крест неся.
Примиряться с этой ролью
Нам к лицу, а ей нельзя…
Ей нельзя: она – Россия,
Вот и бредим, ищем путь…
Хоть уходим, хоть бессильны
Даже пальцем шевельнуть.
1990-е








