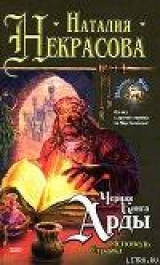
Текст книги "Исповедь Стража"
Автор книги: Наталья Некрасова
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 44 страниц)
« – Выпей воды, ты устал, Учитель…
– Тысячи лет без сна…
– Знаю, ведь я всегда рядом…»
Спать… Уснуть… Он впервые почувствовал, что бесконечно устал. Железная корона гнула его голову к земле – так, словно вся тяжесть мира, все его заботы, страсти и тревоги были возложены на его чело. «Больно глазам, да? Опусти веки… вот так… Если бы ты мог уснуть…»
«Вся тяжесть мира – на эти плечи… постарайся уснуть, Учитель… краткие мгновения покоя на бесконечном пути… Я возьму твою боль, спи… спи…»
Черный Вала и сам не заметил, как соскользнул в сон, и милосердная Тьма – без мыслей, без сновидений – прохладным покровом одела его…
…Очнулся от того, что чья-то ледяная рука коснулась его лица. Он открыл глаза, и вместе со зрением к нему вернулась боль. Правую скулу жгло так, словно к ней приложили раскаленное железо. И он вспомнил.
Уже в полусне он встал с трона и сделал шаг вперед, но оступился и упал. Подняться не было сил. Не было сил даже открыть глаза. И, гася боль, забытье снизошло на него.
Черная корона со звоном скатилась с его головы.
И, шагнув к замершему у колонны Берену, Лютиэн легко коснулась его плеча, пробудив от полусна-полугрезы. Достав из ножен клинок Ангрист, он разжал железные когти, державшие в короне один из Сильмариллов. И камень не обжег руку Смертного. Тогда подумал Берен, что сможет он унести из Ангбанда все три камня Феанора, наследие рода Финве. Но, как видно, судьба оставшихся Сильмариллов была иной, и Берену не удалось осуществить задуманное. Со звоном сломался клинок – черное железо оказалось тверже, – и острый обломок впился в лицо Валы. Тот застонал во сне, и, страшась его пробуждения, Берен и Лютиэн бросились прочь…
Минутой позже в зал вошел Гортхауэр.
…Он лежал в какой-то мучительно-неудобной, беспомощной позе, и безумная мысль обожгла Фаэрни: мертв?! Гортхауэр рванулся к Мелькору, упал на колени, приподнял его.
– Учитель, что с тобой… что с тобой?!
Мертвенно-бледное лицо залито кровью.
Дрожащими руками Гортхауэр извлек из раны обломок клинка.
Медленно расплывается багровое пятно на черных одеждах.
«Такая маленькая рана… просто не может быть столько крови… Что с тобой сделали?!»
Гортхауэр разорвал одежду на груди Учителя – и замер от ужаса.
Отметины Финголфина. Только вот странно – как ему удавалось эти раны так долго скрывать? Если они не заживали? Есть такая болезнь, когда кровь не свертывается. Тогда и вправду от царапины можно умереть. У него были, как я понимаю, изрядные раны, так что одежда должна была постоянно пропитываться кровью – ему приходилось бы постоянно переодеваться, чтобы не видели. Да и одежду тайком стирать. Или кто-то хранил тайну, чтобы потом Мелькор мог произвести на своих учеников впечатление посильнее своими скрытыми от них страданиями?
Лицедей…
Как же этого никто не замечал? А вечно окровавленный вид довольно противен, да кровь еще имеет свойство загнивать… Пахнет, стало быть… Но он же Вала. У него кровь не такая, как у нас, смертных.
Как же я зол!
Как же мне все это надоело!
Он не сразу понял, что не теперь были нанесены эти раны. Он стискивал зубы, пытаясь подавить бьющую его дрожь. «Что с тобой сделали, за что, будьте прокляты…»
Никогда не говорил – никому. Забыли и те, кто знал. Ни стона, ни жалобы.
Гортхауэр опустил веки. Он медленно вел рукой над раной, не касаясь ее, но ладонь жгло так, словно положил руку на раскаленные угли.
«Ничего, это ничего… сейчас все пройдет…»
Открыл глаза.
Сумел только остановить кровь.
Мелькор открыл глаза. Резко приподнялся. Чтобы встать, пришлось опереться на плечо Фаэрни.
– Учитель… – Голос не повиновался Гортхауэру.
– Ничего… Все прошло.
– Они умрут, – тяжело проговорил Гортхауэр.
– Нет. И никто не тронет их. И ты не тронешь – ты ведь сам знаешь, что не сможешь убить ее. Ты уже не смог ее убить – и пусть так будет. И его ты не станешь убивать. Пусть уходят. И с затаенной горечью добавил:
– Они ведь Люди…
А Лютиэн, вообще-то, эльф… А если бы они не были людьми? Оба были бы эльфами? Он не отпустил бы их? Убил бы? За что?
Гортхауэр опустил взгляд. Помолчал.
– Ты прав.
– Теперь – оставь меня. Мне нужно побыть одному.
Гортхауэр вышел.
Мелькор тяжело поднялся по ступеням трона. Сел, ссутулившись, опустив голову. Венец лежал перед ним на каменных плитах.
«Проклятый камень… Если бы я мог… если бы я только мог, я бы отдал им его, но ведь это смерть… Не-Свет и мое проклятье – я вынесу, но они… Они гибель унесли с собой. Ведь я не хотел… Я ведь не хотел!»
Не хотел… Да, все мы считаем, что творим добро, что поступаем правильно, – а потом только и остается это – я не хотел… Хорошо, что все же признал свою неправоту. Только как же Борондир-то этого не видит?
«Пусть бы они все ушли, куда угодно: на юг; на запад – в Валинор, но не здесь, только не здесь, где жили Эльфы Тьмы..! Кому молиться – нет для меня богов… И эта кровь на руках – не смыть… Или я – воистину Зло, и только горе от меня… Кто ответит, кто будет мне судьей… Может, я смог бы что-то изменить…»
Эру, твой отец, будет тебе судьей. Намо, твой брат, будет тебе судьей. Люди будут тебе судьями. Или такого суда ты не признаешь? Мелковаты для тебя? Только сам себя можешь судить? По своим законам?
Нет, ты слишком любишь себя, даже наказывая.
Двери распахнулись. Гортхауэр.
Фаэрни показалось – что-то надломилось в душе Учителя. Перед ним был сейчас совершенно измученный, растерянный человек. И на лице боль, которую он в эту минуту был не в силах скрыть, мешалась с горькой обидой, такой огромной, какой она кажется только ребенку. Фаэрни понимал, что ему нельзя сейчас быть здесь, – и не мог сделать ни шагу, хоть на миг оставить Учителя.
«Я жалею тебя. Да, жалость тяжела тому, кого привыкли считать властелином. Но я – таков, как есть. Хочешь – прими мою жалость. Не хочешь – что ж, я все равно не уйду. Сейчас я тебя не оставлю».
– Отец.
И тот, кто сидел на троне, внезапно согнулся, закрывая лицо руками; плечи его вздрагивали, и глухо вырывались из горла рыдания.
«Так надо. Тебе станет легче. Никто не узнает, что ты был слаб».
Он поднялся еще ступенью выше. Изуродованная рука ощупью нашла его руку и судорожно стиснула ее, словно Мелькор боялся, что Гортхауэр уйдет.
«Никто не увидит твоей слабости. А я буду молчать. Люди говорят: слезы смывают боль и горе. И сильнейшим иногда бывает очень горько. Это ничего, ты плачь, я возьму твою боль…»
Потом они долго сидели напротив друг друга, и Гортхауэр бережно держал в ладонях руки Учителя. Наконец Мелькор тихо встал и, остановившись за спиной Гортхауэра, чтобы тот не видел его, сказал негромко:
– Благодарю тебя, сын. За все. Только не называй меня больше отцом. Прости. Так надо. Потом поймешь.
Гортхауэр молча кивнул.
Я не очень понимаю, почему Мелькор так не хочет, чтобы Гортаур называл его отцом. Странное отчуждение. Или он так бережет себя? Свое спокойствие? В наших некоторых преданиях майя Эонвэ считается сыном Манвэ – и что? Что дурного в том, чтобы быть чьим-то отцом? Или стыдился Гортхауэра Жестокого и не хотел, чтобы его обвиняли в том, что ТАКОЕ породил?
Впрочем, мне, тупому нуменорцу, приверженцу Света, неспособному узреть Свет истинный и понять величие Тьмы, вообще следует заткнуться. Как я смею рассуждать о деяниях самого Учителя!
Кстати, а если бы сейчас не я допрашивал Борондира, а он меня, чем бы я кончил? Тут слишком часто говорится о распятии на скале и о кострах… А?
Берен сидел, вернее, полулежал, прислонившись к стволу большого дуба. Он чувствовал себя страшно утомленным и в то же время – почти счастливым. Все, что было до того, казалось невероятным страшным сном, в котором почему-то была и Лютиэн. Но здесь-то был не сон, и Лютиэн была рядом – настоящая, та, которую он знал и любил. Та, что сопровождала его на пути в Ангбанд, невольно пугала его своей способностью принимать нечеловеческое обличье, своей страшной властью над другими – даже над самим Врагом. И еще – где-то внутри была потаенная злость на самого себя – ведь сам-то ничего бы не смог. Сейчас же ему было просто до боли жаль ее. Все, что он ни делал, приносило лишь горе другим. Сначала – Финрод. Почему он не отказал Берену в его безумной просьбе? Только эти слова: «Ты же не знаешь, почему я согласился…» Прав, видно, был Тингол. Что сделал сын Барахира? – погубил друга, измучил Лютиэн… «Ведь я гублю ее, – внезапно подумал Верен. – Принцесса, прекрасная бессмертная дева, достойная быть королевой всех Элдар, продана отцом за проклятый камень… А я – покупаю ее, как рабыню, да еще не гнушаюсь ее помощью… Такого позора не упомнят мои предки. Бедная, как ты исхудала… И одежды твои изорваны, и ноги твои изранены, и руки твои загрубели. Что я сделал с тобой? Все верно – я осмелился коснуться слишком драгоценного сокровища, которого не достоин. Вот и расплата».
Он посмотрел на обрубок своей руки, замотанный клочьями ее платья. Теперь Сильмарилл в чреве Кархарота. Он усмехнулся. Лютиэн спала, свернувшись комочком, прямо на земле, и голова ее лежала на коленях Берена. Здесь, в глухих лесах Дориата, едва добравшись до безопасного места, они рухнули без сил оба: он – от раны, она – от усталости. И все-таки она нашла силы остановить кровь и унять боль. Берен, как мог, осторожно погладил ее по длинным мерцающим волосам; это было так несовместимо – ее волосы и его потрескавшаяся грубая рука с обломанными грязными ногтями… «И все-таки камень не дался мне.. Неужели этот камень действительно проклят и все, что случилось со мной, – месть его? Тогда хорошо, что он пропал… Но мне придется расстаться с Лютиэн. Может, так и надо… Ведь я люблю ее. Слишком люблю ее, чтобы позволить ей страдать из-за меня…»
Лютиэн вздрогнула и раскрыла свои чудесные глаза.
– Берен?
– Я здесь, мой соловей.
– Берен, я есть хочу.
Это прозвучало настолько по-детски жалобно, что Берен не выдержал и расхохотался. Право, что ж еще делать – он, калека, огрызок человека, не мог даже накормить эту девочку, этого измученного ребенка, который сейчас был куда сильнее его.
– Что ты, Берен? – Она опустилась на колени рядом с ним.
Берен внезапно помрачнел.
– Лютиэн, мне надо очень многое сказать тебе. Выслушай меня.
Он взял ее руки – обе они уместились в одной его ладони.
– Постарайся понять меня. Нам надо расстаться.
– Зачем? Если ты болен и устал – я вылечу, выхожу тебя, и мы снова отправимся в путь. Я не боюсь. Мы что-нибудь придумаем…
– Нет! Ты не поняла. Совсем расстаться.
– Что… – выдохнула она. – Ты – боишься? Или… разлюбил… Гонишь меня?
– Нет, нет, нет! Выслушай же сначала! Поверь – я люблю тебя, люблю больше жизни. Но кто я? Что я дам тебе? Что я дал тебе, кроме горя? Ты – дочь короля. Я же… у меня, считай, не осталось родичей… Ничего не осталось. И все, что я совершил, – лишь благодаря тебе. Что я сделал сам? Даже если я стану твоим мужем – как будут смотреть на тебя? С насмешливой жалостью? Жена пустого места. Жалкая участь. Ты – бессмертна. А мне в лучшем случае осталось еще лет тридцать. И на твоих глазах буду я дряхлеть, впадать в слабоумие, становясь гнилозубым согбенным стариком. Я стану мерзок тебе, Лютиэн.
Откуда такая боязнь старости? Как говорят наши старинные предания, доживший до старости считался мудрым и удачливым. Старость страшна тому, кто остался один, – а у Берена было много родичей, живших в Дор-Ломине, да и мать его была еще жива. Он, по праву вождь своего народа, был не одинок в мире. Такое отношение к старости, когда в ней видели только скорби да немощь, появилось куда как позже, когда Тень пала на Нуменор.
– Я и сейчас слабый калека. Я прикоснулся к проклятому камню, Лютиэн. Когда я держал его, мне казалось – кровь в горсти…
– Берен, как ты смеешь? Я никогда не брошу тебя, даже там, в чертогах Мандоса, я не покину тебя! Проклятый камень… Ты раньше был совсем другим, ты был похож на… на водопад под солнцем…
– А теперь я замерзшее озеро.
– Это все вражье чародейство. Ты ранен колдовством. Я исцелю твое сердце! Мы останемся здесь. Мне ничего не нужно. Только ты. Что бы ни было – только ты. И да будут мне свидетелями небо и земля и все твари живые – ныне отрекаюсь я от своего бессмертия! Я клянусь быть с тобой до конца. Нашего конца.
– Нет, Лютиэн. Может, честь и позволяет эльфам не считаться с волей родителей, но Люди так не привыкли. Тингол – твой отец. Я уважаю его. Я не могу его оскорбить. Да и скитаться, словно беглые преступники, словно звери… Нет. У меня есть гордость, Лютиэн.
– Что же… Пусть так. Хорошо хоть что мы дома. Здесь – Дориат. Сюда Злу не проникнуть…
– Оно уже проникло сюда, Лютиэн. Зло – это я. Из-за меня Тингол возжелал Сильмарилла. Вы жили и жили бы себе за колдовской стеной в своем мире. А теперь я навлек на вас гнев Врага и Жестокого.
– Нет, нет! Это все его страшные глаза, его омерзительное, уродливое лицо, это все его черные заклятия…
– Нет, Лютиэн. Он не уродлив. Он устрашающе красив, но это чужая красота, опасная для нас – ибо нам не понять ее. И его. А ему – нас. Никогда. Белое и Черное рвутся по живому, и от того все зло, – бессмысленно-раздумчиво промолвил он, сам не понимая своих слов.
Ага. Берен узрел его красоту, а Лютиэн – нет. Она же эльф, куда ей…
– Берен… что с тобой? – в ужасе прошептала Лютиэн.
– А? – очнулся он. И вдруг закричал: – Да не верь, не верь мне, я же люблю тебя, превыше всего – ты, ты, Тинувиэль! Пусть презирают меня, пусть я умру, пусть ты забудешь меня – я люблю тебя. Ты уйдешь в блистательный Валинор, там королевой королев станешь, забудешь меня, я – уйду во Тьму, но я люблю тебя…
Не уйти ей в Валинор. Путь закрыт – еще не отправился Эарендил в свое плаванье, нолдор еще не прощены…
Эльфы – стражи границы Дориата – набрели на них через два дня. И, словно лавина, прокатилась по всему Дориату весть о возвращении, и неправдоподобные слухи об их деяниях, что приходили из внешнего мира, стали явью.
Они – в лохмотьях – стояли среди толпы царедворцев, как возвратившиеся из изгнания короли, и придворные Тингола с великим почтением смотрели на них. А Берен ныне смотрел на Тингола с жалостью. «Ты дитя, король. Тысячелетнее дитя. Ты сидишь в садике под присмотром нянюшек и требуешь дорогих игрушек… И не знаешь, что за дверьми теплого дома мрак и холод. А играешь-то ты живыми существами, король… Двух королей видел я. Один умер за меня, другой послал меня на смерть. Отец той, что я люблю…»
– Государь, прими свою дочь. Против твоей воли ушла она – по твоей воле снова здесь. Клянусь честью своей, чистой ушла она и чистой возвращается.
Берен подвел Лютиэн к отцу и отступил на несколько шагов, готовый уйти совсем.
– Ты не исполнил своего слова?
Берен невесело улыбнулся.
– Исполнил.
– Где же Камень Света?
– Он и ныне в моей руке, – усмехнулся Берен. Он повернулся и протянул к королю обе руки. Медленно разжал левую руку – пустую. А что было с правой, видели все. Шепот пробежал по толпе. Тингол долго молчал. Затем резко выпрямился, и голос его зазвучал по-прежнему – громко и внушительно.
– Я принимаю выкуп, Берен, сын Барахира! Отныне Лютиэн – твоя нареченная. Отныне ты – мой сын. Да будет так…
Голос короля упал. Он понимал – судьба одолела его. «Пусть. Зато Лютиэн останется со мной. И Берен, кем бы ни был он, – достойнее любого эльфийского владыки. Будь что будет…»
Все понимали мысли короля. Берен тоже.
Стало быть, и тот, кто писал это, тоже знал мысли Тингола. Только вот кто ему их поведал? Тингол? Мелиан? Не верю!
…Он стонал и вскрикивал во сне, и Лютиэн чувствовала – что-то творится с ее мужем, что-то мучает его. Однажды, проснувшись вдруг среди ночи, она увидела, что Берен, приподнявшись, напряженно смотрит в раскрытое окно. Он не повернулся к ней, отвечая на ее безмолвный вопрос.
– Судьба приближается.
Она не поняла.
– Прислушайся – как тревожно дышит ночь. Луна в крови, и соловьи хрипят, а не поют. Душно… Гроза надвигается на Дориат…
Он повернулся к жене. Лицо его было каким-то незнакомым, пугающе-вдохновенным. Он медленно провел рукой по ее волосам и вдруг крепко прижал к себе, словно прощаясь.
– Я прикоснулся к проклятому камню. Судьба проснулась и идет за мной. Какое-то непонятное мне зло разбудил я. Может, не за мою вину камень жаждет мести, но разбудил ее я. И зло идет за мной в Дориат…
– Это только дурной сон, – попыталась успокоить его Лютиэн.
– Да, это сон. И скоро я проснусь. Во сне я слышал грозную Песнь, и сейчас ее отзвуки везде … – как в бреду говорил он. – Я должен остановить Зло. Моей судьбе соперник лишь я сам…
Они больше не спали той ночью. А утром пришла весть о том, что Кархарот ворвался в Дориат. И Берен сказал:
– Вот оно. И чары Мелиан теперь не удержат моей судьбы. Она сильнее…
…Кто не слышал о Великой Охоте? Кто не знает знаменитой песни Даэрона? Кто не помнит о последнем бое Берена?..
Берен умирал, истекая кровью, на руках у Тингола. Король не хотел терять Смертного, которого уже успел полюбить. Но Берен понимал, что все кончено. Сильмарилл стал злой судьбой его.
И вот – Маблунг вложил Сильмарилл в уцелевшую руку Берена. Странное чувство охватило его. Словно все неукротимое неистовство камня вливалось в него, но это было уже неважно – он умирал и не мог принести зла никому. Сильмарилл был укрощен кровью человека. Теперь в нем не было мести. Теперь он мог отдать его. Он протянул камень Тинголу.
– Возьми его, король. Ты получил свой выкуп, отец. А моя судьба получила свой выкуп – меня.
И когда Тингол взял камень, показалось ему, что кровь в горсти его и тусклым стеклом плавает в ней Сильмарилл. Берен больше не говорил ничего. И, глядя на камень, подумал Тингол – скорбь и память…
Так что все же было в том камне? Что было в нем ужасного? В чем же для них смысл подвига Берена? Если все проклятие камня искуплено человеком – то почему же потом продолжались войны и вражда? Почему? Почему же после этого Мелькор не пришел к Валар и не сказал – все искуплено, я отдаюсь на ваш суд?
У Элдар и Людей разные пути. Даже смерть не соединяет их, и в обители Мандоса разные отведены им чертоги. И Намо, Повелитель Мертвых, Владыка Судеб, не волен в судьбах Людей, хотя судить Элдар ему дано. Он знал все. Он помнил все. Он имел право решать. Никто никогда не смел нарушить его запрет и его волю. И только Лютиэн одна отважилась без зова предстать перед троном Намо.
– Кто ты? – сурово спросил Владыка Судеб. – Как посмела ты прийти без зова?
И ответила Лютиэн:
– Владыка Судеб… Я пришла петь перед тобой… Как поют менестрели Средиземья…
Намо вздрогнул. Он знал, кому и когда были сказаны эти слова и что случилось потом. Но он не успел сделать ничего – Лютиэн запела.
Она пела, обняв колени Намо, пела, заливаясь слезами, и Намо изумлялся – неужели она еще не умерла, ведь она плачет живыми, горячими слезами – тогда откуда она здесь? Почему?
Пела Лютиэн, и слышал он в песне ее то, чего не было в Музыке Творения, чего не видел Илуватар – чего не видел никто из них, разве что Мелькор. И летели ввысь, сплетаясь, мелодии Элдар и Людей, и видел, как, соединяясь, Черное и Белое порождают великую Красоту, и понял – эту Песнь он не посмеет нарушить никогда, ибо так должно быть….
– Чего просишь ты, прекрасное дитя?
– Не разлучай меня с тем, кого я люблю, Владыка Судеб, сжалься, ведь я знаю – ты справедлив..
Намо склонил голову. Он призвал одного из своих майяр.
– Приведи Берена. Если он еще не ушел…
– Нет, о великий! Он не мог уйти, он обещал ждать меня… «Я подожду тебя», – из окровавленных уст… Как похоже на – тех…
Они ничего не говорили – просто стояли, обнявшись, и слезы катились по их лицам. Намо молчал. И наконец, после долгого раздумья, заговорил он:
– Ныне должен изречь я вашу судьбу. Я даю вам выбор. Лютиэн, ты можешь в Валиноре жить в чести и славе, и брат мой Ирмо исцелит твое сердце. Но Берена ты забудешь. Ему идти путем Людей, и я не властен над ним. Или ты станешь смертной и испытаешь старость и смерть, но уйдешь из Арды вместе с ним…
– Я выбираю второе! – крикнула она, не дав ему договорить, словно испугавшись, что Намо передумает.
– Тогда слушайте – никто из Смертных еще не возвращался в мир из моих чертогов. И если вы вернетесь – нарушатся судьбы Арды. Потому – ни одному из живущих, будь то эльф или человек, вы не расскажете о том, что узнали здесь. Вы пойдете по земле, не зная голода и жажды, и настанет час, когда вы найдете землю, где вам жить. Судьба сама приведет вас туда.
И вы не покинете ее. Отныне ваша жизнь – друг в друге. Судьба ваша отныне вне судеб Арды, и не вам их менять. Я сказал – так будет.
А Намо куда осторожнее с судьбами Арды, чем Мелькор…
И стало так – по воле Владыки Судеб. И Сильмарилл, искупленный их болью и кровью, не погиб в море или в огне земли, а светит ныне Памятью в ночном небе. Правда, для всех эта память разная…
Да, разная. И больше я ничего не скажу…
Ничего!
Я просто не хочу ничего говорить.
НАРН И ХУРИН – ПОВЕСТЬ О ХУРИНЕ
Заглавие написано иной рукой, чем вся повесть.
Начало утрачено, но почерк тот же, и пергамент той же выделки. Все из одних рук. Уже клонящийся в пучину гибели Нуменор. Да, именно так. Иначе просто не может быть. Не имеет права быть.
…Вот любопытно – почему здесь нет истории Турина или Туора? Может, потому, что они не встречались с Мелькором лицом к лицу и нельзя написать об их сомнениях, о том, что случилось с ними, когда они подпали под его обаяние?
И почему тут ничего нет о гномах? Разве они не были могучими союзниками эльфов и эдайн? Ведь – ни слова, словно и не было этого народа, словно не сражались они против Моргота, потом – против Саурона…
Наверное, потому, что с гномами он потерпел неудачу. Ну, что делать, твари Ауле, недобитки…
…Конечно, любое событие можно объяснить с разных точек зрения. Побуждения героя неизвестны нам, мы можем только предполагать в меру своего понимания, кто и почему так или иначе поступил. И каждый, кто пытается своим учением оказать влияние на умы, стремится истолковать поступок так, как ему выгодно.
Так поступил бы я в те дни, когда владыки Острова предали Правду Земли. Когда они творили зло от имени Света. Тогда древняя Тьма стала бы противоположностью и примером… Но предал бы я Свет? Не знаю…
Как в этом обрывке повести о Хурине, который не предал то, чему был верен душой, хотя пытка сомнением – одна из самых страшных…
…Как же тяжко мне…
«…Свершилось. Наконец-то свершилось. Господин мой, Финголфин, если из Благословенной Земли видишь ты это – возрадуйся. Наконец-то Элдар выступят вместе! Ты хотел этого, как и твой родич Маэдрос. Что ж, он сможет отомстить за себя. Жаль, не ты. Но я выполню свою клятву – если судьба будет благосклонна ко мне, то я расправлюсь с Врагом не хуже, чем ты. Враг еще пожалеет…»
– Господин!
Хурин резко поднял голову, оторвавшись от своих мрачно-торжественных дум.
– Господин, король зовет тебя.
– В чем дело?
– Совет будет. Надо что-то решать – Маэдрос задерживается, и нет от него знака.
– Они что, хотят без него выступать?
– Не знаю, господин мой, но слухи ходят.
Хурин быстро зашагал к шатру Фингона. На душе у него было тревожно. «Нельзя допустить этого. Сущее безумие. Враг раздавит нас поодиночке. Он только и ждет этого разобщения. Столько мы ждали – неужели не подождем еще немного? Даже мы, Смертные, готовы ждать. А годы Бессмертных долги, что им время?»
На совете из смертных был только Хурин. Это считалось великой честью – Фингон уважал Хурина и прислушивался к его слову. Впрочем, Хурин прожил год у самого Тургона в потаенном городе Гондолин и многое узнал из мудрости Элдар. Вернее его не было вассала – иначе не доверял бы ему король. Да и много ли кто даже из Элдар бывал в Гондолине? Может, поэтому на совете только один Хурин стоял на том, чтобы выждать. Эльфийские военачальники требовали боя. Но все решало слово фингона. Король тоже явно рвался в бой, да и было от чего. И все же он решился ждать. Хотя с Хурином он говорил холодновато.
Хурин вернулся к себе затемно. На душе было тяжело. Словно недоверие и даже неприязнь бессмертных тяжелым грузом повисли на плечах. Почему так? Разве он не верен им? Разве мечи Дор-Ломина не вместе с мечами Элдар? Впрочем, Смертному трудно понять бессмертных и не дано мерить их своей меркой…
Эльдар роптали. Но когда – сверх всякого ожидания – трубы возвестили о приходе Тургона, когда Фингон в восторге крикнул: «Смотрите, день наступает, день гонит ночь!» – все поняли мудрость смертного. Фингон крепко обнял своего вассала.
А Хурин чуть не расплакался, увидев встречу братьев. Он обоих знал и любил – как ученик любит своего учителя. Вековая мудрость – и вечная юность. Как не восхищаться ими? И как забыть радушие и ласку Тургона? Разве не от него Смертный узнал о Благословенной Земле и Могуществах Арды, о страданиях и подвигах Элдар и о жестокости и коварстве Врага? Разве не он указал ему путь, каким надлежит следовать Людям? И, словно мальчишка, кричал он в восторге хвалу, приветствуя знамена владыки Гондолина.
Тургон тоже был готов ждать Маэдроса. Но кто же знал замыслы Врага? Оказалось достаточно одной искры… Когда орки зарубили у всех на глазах брата Гвиндора Нарготрондского, попавшего в плен еще в прошлой битве, Хурин бросился к королю, пытаясь хоть что-то сделать.
И после этого мне будут говорить, что в Ангбанде не было пленных? Что их там всячески холили и лелеяли? Орки привели ослепленного Гельмира – так там милостиво обращались с пленными? Или опять – случайно произошло это, орки, мол, что с них взять, – а я, Мелькор, не виноват? Как он к оркам-то попал? Кто им позволил его забрать для убийства? А если они его держали с самого начала – стало быть, не так уж хорошо Гортхауэр ими повелевает. Или Мелькор сам им эльфа отдал?
И если Мелькор за орков не отвечал – он вообще за что-нибудь отвечал? Верно Гортхауэр говорит – «у тебя руки останутся чистыми». Сдается мне, он этого и хотел – остаться чистым, пусть в крови мараются другие. Но вина от этого меньше не станет.
– Останови их! Задержи! Нельзя давать волю гневу, это смерть!
Фингон смотрел мимо Хурина, и лицо его было застывшим и бледным.
– Поздно. Уже поздно, – после тяжелого молчания выдохнул он.
…Долги часы богов. И не дано им забывать. Который раз Хурин вращал жернов воспоминаний, сызнова бередя свою рану…
…Четыре дня побоища. Сначала казалось – победа близка, столь яростен был напор. Гвиндор, ослепленный гневом, несся вперед… Где он теперь, что с ним сделали в черных застенках Врага? А эти Черные Воины, словно не ведающие боли и страха – может, и вправду живые мертвецы, – что отбросили их от врат Ангбанда? Их было немного, но они поражали своих врагов цепенящим страхом сильнее, чем оружием…
Борондир рассказывал мне о Даре Твердыни – когда воины Аст Ахэ шли в бой, Мелькор давал им нечувствительность к боли. Легко так сражаться и умирать… Но милосердно ли это по отношению к своим воинам? Отсюда видно, КАК он их любил – они для него лишь послушное, преданное оружие…
…Проклятое тяжелое отступление. И вновь – надежда. Угрюмый яростный Маэдрос наконец пришел, хотя и поздно. Мрачный однорукий красавец с темным пламенем гнева в глазах был равно страшен и своим, и врагам. Может, и удалось бы свести битву к равному исходу, если бы не предатели. Предатели – Люди. Люди! Грязные восточные дикари, будь они прокляты!
А потом – лучше не вспоминать. Безнадежное отступление вместе с Тургоном. И какая-то странная горечь на душе, когда Тургон вновь исчез в своих колдовских горах, и Человек снова остался один на один со своей смертной судьбой…
Как-то здесь забыто о пророчестве Хуора, погибшего в той битве. А в нем – надежда. И не мог не знать о нем Хурин. И надежда эта помогла ему выдержать – так что не был он один на один с судьбой.
Хурин был могучим воином, но кто устоит против Валарауко? Человек был готов к смерти.
– Приказ Властелина: взять живым и доставить к нему.
Ахэро поклонился и отступил: «Гортхауэр…»
Черный помог Хурину подняться и оценивающе посмотрел на воина. Бледное красивое лицо Гортхауэра было бесстрастным. Да, хорошо его отделали… Идти сам он не сможет. Ну что же…
Фаэрни положил руки на плечи Человеку. Даже сквозь одежду Хурин ощутил ледяное прикосновение. Боль и усталость постепенно покидали его тело.
В руке Хурин все еще продолжал сжимать рукоять боевого топора. Заметив это, Гортхауэр слегка надавил на правое плечо воина, и пальцы Хурина разжались.
– Следуй за мной, – спокойно и властно проговорил Гортхауэр. – Властелин ждет тебя.
И, поражаясь своей покорности, Хурин последовал за ним. По бесконечным лестницам и темным галереям спускались они в сердце Ангбанда, в тронный зал Властелина Тьмы. И Хурин предстал перед троном Мелькора. Гортхауэр занял место по правую руку Властелина и застыл в молчании, опираясь на меч.
Почему не убили? Зачем он Врагу? Может, ищет дорогу в Гондолин, расправившись с остальными? Пусть тогда не надеется. Что ж, этот замысел Врага Смертный разгадал. Может, потому эти живые мертвецы так почтительны с пленником. Хурин был готов ко всему.
– Вот ты каков, Хурин из Дор-Ломина. Рад видеть тебя.
Человек не отвел глаз, с вызовом глядя в изуродованное лицо.
– И я рад видеть, каким ты стал. Жаль, что не я это сделал!
– Да, жаль. Человека я бы мог понять. И, может, простить. Впрочем, не об этом речь, Хурин. Я велел привести тебя, дабы предложить тебе выбор. Ты можешь уйти, куда пожелаешь, если твое сердце стремится к эльфам. Но можешь и остаться здесь, если захочешь. Если на то будет твоя воля – будь моим воином. Узнай их – может, ты сможешь понять меня и избрать свой путь…
– Мой путь избран давно! А те, кто служит тебе, коварно обмануты тобой, и ты еще возьмешь с них свою плату кровью! Я знаю все о тебе!
А ведь он прав. Взял он плату кровью, да еще какую… И не только кровью.
Я не терял родины. Но все равно гибель Нуменора для меня – боль. А что должны были думать те, для кого родиной был Белерианд, им изуродованный, потому погрузившийся в море?
– Вижу, что не все.
– Ты – видишь? Ты в слепой злобе своей способен только тьму видеть, и только ее и будешь видеть! А сердец Людей тебе не знать никогда. Ты никогда не поймешь, к чему стремятся они, а и знай ты это, никогда ты не сможешь Людям этого дать. Не в твоей это воле… Мне жаль тех, кто поддался обману и служит тебе. Тысячу раз безумен тот, кто принимает дары Врага! Ты возьмешь сначала плату, а потом не сдержишь слова. Сделай я то, что ты желаешь, смертью ты заплатил бы мне!
– А ты разве знаешь, чего я хочу? И уверен ли ты, что не запросишь смерти из-за своей слепой веры в эльфов? Иди за мной!
Вся равнина была устлана трупами – эльфы, орки, люди, звери… Страшное, невиданное побоище. Пир смерти. Казалось, больше в мире не осталось живых. И застыла кровь в жилах Хурина, когда увидел он холм из отрубленных голов людей Дор-Ломина. Как из небытия, послышался голос Мелькора:








