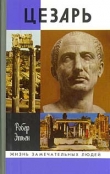Текст книги "Триумвиры"
Автор книги: Милий Езерский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 26 страниц)
XXIII
Шли месяцы.
Как предвидел Цезарь, так и случилось: заговор против республики был открыт, – Сулле и Автронию не удалось захватить власть. Народ и сенат требовали наказать преступных магистратов, но вмешался Красс, опиравшийся на сенаторов, которые были его должниками, и спас заговорщиков.
– Отцы государства, – говорил он в сенате, и голос его звучал глубокой искренностью, обманувшей многих мужей, – злые люди распространяют гадкие сплетни против высокопочитаемых мужей, .но кто может поверить им? Ни я, ни ты, ни он… Никто! А между тем злодеи запутали в это дело и меня, и Цезаря, и Суллу, и Автрония! Потеха.
Он смеялся и, продолжая издеваться над легковерием квиритов и магистратов, напомнил о поражении Помпеем пиратов:
– Не так же ль верили вы Помпею, когда он доносил о блестящих победах над разбойниками? А ведь каждая битва, каждая стычка преподносилась нам в виде большого сражения увенчивавшего славой римское оружие… Недалеко время, когда из Азии примчатся гонцы с Донесениями, и вы будете радоваться, как дети, повторяя: «Победа, победа, победа!» А какая может быть еще победа после Лукулла? Всё им завоевано, он трудился и воевал около десяти лет, а Помпею одно остается – захватить Митридата и вывезти сокровища…
Хотя в словах Красса было много правды, однако плебс и оптиматы чувствовали, что за этими речами хитрый богач скрывает иную правду, свою, которая может вылиться в кровавый– мятеж или захват власти. Может быть, иной смысл таила эта правда, потому что, прикрывшись ею, Красс, с пеною на губах, требовал замять «клеветническое дело». ;
И сенат решил никого не преследовать.
Выбранные один эдилом, а другой – цензором, Цезарь и Красс сблизились еще больше: Цезарь, нуждаясь в деньгах для подкупа квиритов (мечтал о претуре и об управлении богатой провинцией) и не имея возможности брать их в долг у публиканов, принужден был обращаться к Крассу, не порывая с Помпеем, а Красс, видя приниженное положение своего соучастника, властвовал над ним, не отказываясь от мысли завоевать Египет.
Возбуждая плебс к завоеванию Египта, Красс и Цезарь заискивали у народа: Красс предложил даровать транспадцнцам права гражданства, а Цезарь стал устраивать народные празднества: после ludi Megalenses и ludi Romani последовали роскошные гладиаторские игры в память его отца, на которых рабы сражались серебряными копьями и пускали серебряные стрелы, а затем – пиры, пиры…
Происки Цезаря вызывали негодование аристократов, но сенат молчал, боясь Красса. А когда Цезарь выставил ночью в Капитолии военные трофеи Мария, поверженные Суллой, и на другой день толпы плебса стали сбегаться, чтобы взглянуть на памятники войны с Югуртой, кимбрами и тевтонами и послушать речь Цезаря о Марии, ненавидевшем нобилей и всю жизнь боровшемся с ними (ветераны Мария плакали, а народ волновался), сенат безмолвствовал, не решаясь выступить против плебса.
Цезарь понимал опасность этого шага: борьба с аристократией! Но он, опираясь на Красса, надеялся на свою счастливую звезду.
Договорившись с народными трибунами, Цезарь внес рогацию о завоевании Египта. Сенат был против: магистраты кричали, что «завещание Александра II подделано»; помпеянцы отказались поддерживать Красса, а всадники, получив отмененные Суллой права, перешли на сторону аристократов; плебс колебался.
«Дуумвиры», как насмешливо величали Цезаря и Красса в Риме, принуждены были взять свое предложение обратно.
Полулежа у Красса в таблинуме, Цезарь говорил:
– Меня возмущает Цицерон своими связями с всадниками, ростовщиками, публиканами, дружбой с Аттиком, на сестре которого женился Квинт, брат Цицерона, а в особенности лицемерной речью «Об империи Гнея Помпея»…
Красс не верил речам Цезаря.
«Лжет», – думал он, исподлобья наблюдая за ним, и вдруг, прервав его, злобно сказал:
– Сенат получил сведения, что Лукулл заявил Помпею:
«Я начал войну и кончу ее. Полководцы перессорились, оскорбляли друг друга. А когда легионы изменили и перешли на сторону Помпея, Лукулл принужден был уехать. Вскоре он будет в Риме – величайший полководец! И я возблагодарю богов от всего сердца, если они доставят мне радость прижать к груди сподвижника нашего императора!
– Что же Помпей? – спросил Цезарь, не любивший душевных излияний Красса.
– Помпей вторгся в Понт, разбил Митридата… А ведь это дело мог бы завершить доблестный Лукулл, равный величием Сулле
– Лишь бы Помпей подольше оставался в Азии! – воскликнул Цезарь и прибавил; – Как думаешь, Крез, не следует ли привлечь на нашу сторону Лукулла?
«Хитрит», – усмехнулся Красс и, кивнув, ответил, точно предложение Цезаря приходило ему не раз в голову:
– Я переговорю с ним, как только он возвратится… Он должен ненавидеть Помпея за несправедливость…
Цезарь встал. Не понимал – притворялся Красс или действительно хотел начать переговоры с Лукуллом.
А Красс думал, посмеиваясь:
«Теперь он раскаивается… Конечно, выгоднее стоять у власти дуумвирам, чем триумвирам. Но я предпочел бы иметь дело с Лукуллом, чем с Помпеем – да поразит его Юпитер в Азии!»
XXIV
Манлий и Сальвий находились постоянно в разъездах, и Лициния скучала в вилле ветерана. Кругом нее суетились рабы и невольницы, занятые по хозяйству, плохо говорившие по-латыни, и не с кем было побеседовать, излить свою душу.
Пролетали недели и месяцы, точно Хронос гнал их при помощи Эола, и эта поспешность радовала Лицинию: скорее вернется Сальвий!
Не заметила, как влюбилась. Дни он стоял перед глазами, а по ночам снился веселый, влюбленный. И она томилась, ожидая, и не спускала глаз е пыльной дороги, пропадавшей за виноградниками. А когда Сальвий приезжал и она робко поглядывала на него, возлежавшего за столом, забывалось одиночество, скучные дни, и жизнь казалась солнечной равниной.
Однажды он приехал ночью. Проснулась от стука в дверь, услышала его громкий голос, ржание коня, уводимого рабом, но не вышла к нему из кубикулюма. Только приказала невольнице подать в атриум вина, свинины и хлеба.
Утром встретились в саду. Сальвий приветствовал ее низким поклоном, назвал госпожой и спросил, когда приедет из Рима Манлий.
Она ответила, что не знает, и села на скамью, опустив голову.
Сальвий стоял перед ней, не осмеливаясь сесть. Он не спускал с нее глаз, и она, чувствуя его взгляд, боялась поднять голову.
– Госпожа…
Сделала над собой усилие, взглянула: в глазах Сальвия было что-то такое, чего она еще не видела.
– Что скажешь, Сальвий? Молчал. И наконец тихо вымолвил:
– Помнишь, госпожа, день, когда я увозил тебя из той виллы? Тогда я назвал тебя перед Манлием своей женою..,
Вспыхнула. Сердце забилось. Опустила глаза. А он говорил:
– Госпожа моя, я свободнорожденный… Римляне называют иберов варварами; они так же величают и эллинов. Скажи, разве постыдно быть ибером, греком, галлом или германцем? Мы, варвары, умеем бороться за свободу и независимость… Вот ты, госпожа, разве ты не знаешь, над чем трудится наш господин Катилина, Манлий и я?
– Знаю.
– И ты, госпожа… Подняла голову:
– Я с вами. И с тобою, Сальвий…
Сёл рядом с нею, взял ее руку, сжал и погладил.
– Дни и ночи ты перед мною, – сказал он, – ты стала моей жизнью… Будь же в самом деле моей женою… Молчишь? О, неужели я тебя обидел, неужели…
Улыбнулась сквозь слезы:
– Нет, Сальвий! Не обидел ты меня… Я тоже… ты тоже стал моей жизнью…
Склонилась к нему, он обнял ее. Не видели подошедшего к ним человека, не слышали его слов. Это был Манлий.
Узнав о приезде Сальвия, он, спешившись, весь в пыли, прошел в сад, чтобы поговорить с ним.
– Очнись! – закричал он, тряся Сальвия за плечо. – С женой успеешь нацеловаться, а у меня важные дела…
Лициния вскочила и быстро скрылась за деревьями. А Манлий, сев на скамью, стал с увлечением говорить о деньгах, привезенных из Рима, о заказанном оружии и о людях, которых ему удалось завербовать. Он был доволен. Глаза его сверкали юношеским блеском. Смех звучал громкими раскатами.
Слушая его, Сальвий тоже увлекся. Впереди была борьба – вспоминал Малу, Мульвия, Сертория, Спартака, и сердце билось сильнее и сильнее. А когда подумал о Лицинии, радость захлестнула душу:
«Будем бороться вместе», – подумал он и пошел в дом вслед за Манлием.
XXV
Возвратившись в Рим, Лукулл занялся распределением несметных сокровищ, вывезенных из Азии, а в особенности золота и серебра в монете и слитках. Весь Рим говорил о бронзовой статуе Феба-Аполлона, вышиною в тридцать локтей, поставленной в Капитолии, о вишневом дереве из Кераза, об ониксовых амфорах, величиной с бочку, о девочках-Невольницах, отправленных в Мизенскую виллу, где некогда жила Корнелия – мать Гракхов, а потом Марий.
– Теперь приют добродетели станет приютом роскоши, удовольствий и телесных наслаждений, – насмехались популяры, нападая на Лукулла: со злорадством они вспоминали его богатства, войны, веденные без разрешения сената, обвиняли в грабежах, а народные трибуны налагали veto, как только сенат ставил вопрос о триумфе полководца.
Лукулл был взбешен. Ярость его увеличилась, когда он узнал, что любимая жена Клавдия была в связи со своим братом Публием Клодием, который возмутил против него полководца, легионы. Он не пожелал видеть ее, не захотел слышать лукавых уверений, плаксивых оправданий и развелся с нею. А однажды, встретившись у Катона с его сестрой Сервилией, он, очарованный ее красотой, умом и изяществом, решил на ней жениться. Катон был польщен выбором патриция и дал согласие.
Став женой Лукулла, Сервилия продолжала вести прежний образ жизни: часто встречалась с Цезарем и принимала в отсутствие мужа развратных юношей.
Так пролетали месяцы. Родив сына, она не изменила своего поведения, и Герон намекнул господину о непотребствах матроны. Лукулл был взбешен. Муть не избив Сервилию, он выгнал ее из дому, а сына отослал к Катону.
Скучно стало в обширном доме. Унылые дни тянулись неторопливой чередой – государственные дела, занятия философией, издание «Достопамятностей» Суллы не могли заполнить гнетущего одиночества. И он думал, как превратить остаток своей жизни в шумный праздник, чтобы видеть постоянно веселых людей, слышать смех женщин и пение под звуки лир и кифар.
Однажды, позвав скрибов, он повелел писать приглашения на пиршество, которое должно было состояться ровно через неделю, многим магистратам, невзирая на то, что некоторых подозревал во вражде, а иные открыто выказывали ему свою неприязнь.
Просторный, атриум, недавно перестроенный и украшенный с восточной роскошью, был залит огнями и заставлен столами, к которым с трех сторон прижимались ложа, покрытые пурпуром. Гостей еще не было, и рабы поспешно скользили между столов, уставляя их посудой и вазами с цветами, а ложа – венками. Потолок, покрытый свисавшими кусками белой ткани, казалось, дышал – то ли от ветра, проникавшего через комплювий, то ли от мехов, искусственно нагнетавших воздух, и длинные языки пламени мигали в светильнях.
Вошел Лукулл в сопровождении Герона, быстрым взглядом окинул атриум, внимательно осмотрел ряд статуй, колонны, увитые плющом и виноградом, амфоры на абаках и на мозаичном полу (здесь они плохо выделялись) и приказал места, где они стояли, покрыть испанским полотном. Затем заглянул в таблинум, где уже сидели флейтистки, кифаристки, арфистки и египтянки с систрами, спросил подбежавшего атриенсиса, накормлены ли они, и направился к распахнувшейся двери: входили претор Мурена, поэт Архий и Котта, разрушитель Гераклеи, названный сенатом Понтииским и преследуемый популярами. Это были друзья и сподвижники, с которыми Лукулл совершил походы в азийские царства.
– Привет дорогому амфитриону и второму Александру Македонскому! – радостно воскликнул Мурена, обнимая Лукулла и целуя ему руку. – Без тебя, лучший друг диктатора, скучно дома и невесело на улице. До сих пор не могу забыть о смерти Метелла Пия, хотя времени прошло много… Только в твоем доме оживает и весело пляшет сердце.
И, возвысив голос, выговорил нараспев:
Радость мне в сердце с Олимпа слетела воздушной Иридой,
Вестницей ярких щедрот, Зевсом даруемых нам…
– Верю тебе, дорогой Люций, – приветливо ответил Лукулл, зная искренность друга, – я всегда рад тебе, как гонцу, спешащему с радостной вестью о победе…
–…или о разрушении города, – хрипло рассмеявшись, прибавил Котта. – Признайся, дорогой, что в душе ты не очень досадовал на меня…
– Не ты один разграбил Гераклею, тебе значительно помог мой наварх Триарий, – нахмурился Лукулл. – Что говорить? Дело прошлое, но тогда я, действительно, порицал вас обоих. Разве мы разбойники, чтобы грабить города, насиловать женщин и продавать их в рабство?
– Ты совершил большую ошибку, возобновив политику Рутилия Руфа и раздражив публиканов, – перебил Котта, – Ограничение их алчности привело к тому, что они стали строить против тебя козни, сблизились с Помпеем и могущественными всадниками;..
– Знаю, – махнул рукою Лукулл. – Хотя я и презираю торгашей, но сегодня у меня в гостях будет афинский ростовщик Тит Помпоний Аттик; это муж умный, и с ним приятно побеседовать.
– Корнелий Непот удивляется, что Аттик не имеет еще ни одной виллы, – засмеялся Мурена, – а между тем иметь виллу в деревне или в купальной местности, как, например, в Байях, значит не отставать от обычаев общества…
– Так же, как скупать произведения греческого искусства, – подхватил Котта, – дельфийские столы, коринфские вазы, статуи, картины, чеканные чаши, бронзу…
– Ты прав, – перебил Лукулл, – но я ничего этого не скупаю, потому что имею. А чего не имею, то буду иметь. Я построю роскошный дворец с приемными и гостиными, с библиотекой, палестрой, банями; стены украшу гипсовыми изображениями и живописью… Всякий желающий найдет у меня отдых, развлечение… И Архий, одаренный Фебом-Аполлоном, будет импровизировать свои элегии.
– Нет, лучше я прочту фрагменты из своей эпической поэмы написанной в честь тебя… Описание осады Кизика и битва при Тигранокерте будут сладостны твоему сердцу…
Вошли Аттик, Валерия, вдова, и Фавста, дочь Суллы, а вслед за ними – Тит Лукреций Кар, прославившийся поэмой «De rerum natura». [4]4
«О природе вещей».
[Закрыть]
Аттик, муж пожилой, скупой на слова, с хитростью в глазах, слегка насмешливый, преклонялся, подобно Цицерону, перед умершим недавно Сизенной, которого считал величайшим историком. Он расхваливал, входя в атриум, его последнюю книгу. Лукреций кивал головою, слушая его. Валерия, очень постаревшая, но красивая той старческой красотой, которая придает женщине благообразную величавость, беседовала о Фавстве с его сестрой – некрасивой девушкой с длинным носом и чувственными губами.
Получив свою долю наследства в день совершеннолетия, Фавста жила у мачехи, замуж не стремилась и вела самостоятельный образ жизни: у нее были любовники, и брат, посещавший мачеху до отъезда своего в Азию с Помпеем (он обручился с его дочерью), подшучивал над Фавстой: «Удивляюсь, что моя сестра хранит пятно, когда у нее есть сукновал», намекая на двух ее любовников: Макулу, что по-латыни значит пятно, и Фульвия, сына сукновала.
На беззаботном лице Лукреция была скука, может быть, пресыщение. Эпикуреец, он посвятил жизнь удовольствиям, но они надоедали не хуже, чем тетрактида или пентаграмма пифагорейцев («Если основа бытия в числе, как учил Пифагор, – -думал Лукреций, – то основа любви в поле»); чревоугодие было возведено в наслаждение утонченными яствами: мышление – в созерцательность.
Подойдя к Лукуллу, он приветствовал его, похвалил роскошь атриума и, повернувшись к гостям, сказал, указывая на Аттика, со смехом в голосе:
– Если друг и почитатель знаменитого историографа и переводчика басен Аристида не забудет маленького поэта Тита Лукреция Кара, то, несомненно, упомянет о нем в своей переписке с Цицероном, иначе стрела Сребролукого поразит тебя в самое уязвимое место…
– Увы, – вздохнул Аттик, – не мне упоминать о тебе, знаменитом поэте. Мое имя поглотит Лета, хотя Цицерон и Варрон предсказывают противное… О, если бы ты захотел назвать мое имя в своей новой поэме, я стал бы бессмертным! Но – клянусь Зевсом Ксением! – не будем утруждать амфитриона скучными беседами…
Однако Лукулл, улыбнувшись, вымолвил:
– Вы забываете, друзья, о бессмертном труде нашего богоравного императора: его «Достопамятности» переживут тысячелетия, а слава о его подвигах и величественное имя будут сиять, как яркие звезды…
– Ты прав! – вскричал Мурена. – Имя его увековечено, и мы…
Слова его потонули в шуме голосов: вошли ученый и писатель Парфений, гистрионьг Эзоп и всадник Квинт Росций, историк Корнелий Непот и молодой поэт Катулл, сопровождавший Клодию, в которую был безумно влюблен и от которой не отходил ни на шаг.
Красавица Клодия, дочь Аппия Клавдия Пульхра, сестра жены Лукулла и супруга Метелла Целера, славилась на весь Рим необузданным распутством, и Цицерон, называя ее «волоокой Герой», «Медеей Палатинских садов», «Клитемнестрой», намекал на ее кровосмесительную близость с братом и с женой Лукулла, которую она совратила с. добродетельного пути матроны. И эта женщина осмелилась явиться в его, Лукулла, дом! Не хватало еще, чтобы она привела с собой изгнанную Клавдию!
Лукулл негодовал, но выпроводить супругу Метелла Целера было бы невежливо, и он сдержался.
«Теперь времена не те, – думал он, – свобода и равенство отравили души матрон; у Клодии – десятки любовников… И, конечно, прав был Цицерон, назвав ее «квадрантарией».
Вспомнил, что во время судебного разбирательства, которым закончилась связь ее с оратором Целием Руфом, обе стороны бесчестили друг друга оскорбительными обвинениями, и Целий кричал на весь форум о ее корыстолюбии…
Одетая в прозрачную ткань, сквозь которую просвечивал пленительный изгиб бедер, а из разреза, как из лопнувшей почки, выглядывало юное тело, похожее на раскрывшийся цветок, с грудью Дианы, Клодия казалась богиней, и сам Лукулл невольно залюбовался ею. Вспомнил Клавдию, ее наряды, щегольство, уход за телом – употребляла пемзу с Эольских островов для сглаживания пушка на лице, чистила зубы порошком, приготовленным из мелосской и низиросской пемзы: белила щеки родосскими свинцовыми белилами, притирала хийской или самосской землею… «Прежде она не была такою! Подлая развратница растлила ее душу…»
Старый Росций и Эзоп спорили с молодым Парфением о бессмертии души. Парфений утверждал, что с Платоном можно согласиться уже потому, что Сократ, учитель божественного философа, познал самого себя путем внутреннего созерцания, а Платон углубил это познание до возможного предела.
– А еще раньше, – прибавил он, – мудрый Пифагор развил учение о метапсихозе и вечном возвращении в мир… Мы жили уже много раз, иногда проблески воспоминаний о предыдущих существованиях пролетают в нашей душе, часто мы слышим некогда слышанное, видим некогда виденное, и душа содрогается от удивления и трепета. А то, чему мы учимся, не есть изучение, а повторение того, что мы знали и что замерло в душе тысячелетия назад…
– Неужели ты пифагореец? – спросил подошедший Лукулл .
– Нет, – задумался Парфений, – но я готов принять эту великую мудрость, которой внимаю с затаенным трепетом.
– Удивительно, – перебил его Росций, – что после Демокрита возможна еще вера в сверхъестественное. Неужели тебе не известно учение мудреца из Абдеры, который отрицал богов и таинственные силы?
– Истинные мудрецы вырождаются – Демокрит жеу превозносимый тобою, заблуждался, и вихрь атомов, созданный им, унес его в подземное царство Аида, где он даст ответ…
Мурена и Котта, перешептываясь, отошли от них. Но Лукулл остался. Подобно Сулле, он любил «умственные удовольствия», и рассуждения Парфения тронули в его душе неведомую струну, о существовании которой он даже не подозревал.
– Кто же тебя поучает всем этим премудростям? – спросил он и не удивился, услышав ответ:
– Публий Нигидий Фигул.
Имя сенатора-писателя, пифагорейца и волшебника, было широко известно в Риме: оптиматы считали его наделенным сверхъестественной силой, а плебеи – посредником между патрициями и богами.
«Я посажу их рядом с собою, – подумал Лукулл о Парфении и Фигуле, – и их беседа будет, несомненно, приятнее глупых самовосхвалений пьяных гостей».
Взглянул в глубину атриума: прислонившись к колонне, Катулл с жаром беседовал с Клодией, – на детски-невинном лице красавицы покоилась мечтательная улыбка, в глазах вспыхивал затаенный смех. Катулл убеждал ее в чем-то, а она отрицательно покачивала головою.
– Взгляни, дорогой амфитрион, как влюбленный поэт соблазняет развратницу, которая прикидывается девственницей, – сказал Аттик, указывая на них глазами. – Клянусь Афродитой Пандемос, я не видывал такого бесстыдства даже в афинских диктерионах!..
Лукулл пожал плечами.
– Надеюсь, ты не считаешь моего дома одним из диктерионов, которые ты привык посещать? Аттик вспыхнул, побледнел, растерялся.
– Клянусь Адонисом, я не хотел… Язык мой выговорил глупость, прежде чем разум успел остановить его…
Лукулл отвернулся и поспешил навстречу входившим гостям. Это были Прецйя и Цетег, молодые Антоннй и Курион, оратор Квинт Гортензий Гортал – соперник Цицерона, ученые Марк Теренций Варрон, тучный, безбородый, и Публий Нигидий Фигул, муж бородатый, мрачный, сосредоточенный.
Атриенсис возгласил:
– Просим снять обувь!
Это означало, что гости могут занимать места за столом. Все бросились к пурпуровым ложам.
Блюда сменялись блюдами, – их было так много, чтопредусмотрительный хозяин приказал положить возле каждого прибора рвотный порошок.
После острой закуски, состоявшей из морских ежей, спондил, устриц, дроздов со спаржей, ракушек, морских жолудей, дичи, запеченной в муке и оленьего жаркого приступили к обеду. Сначала была подана свиная грудинка, вареные утки и чирки, жареные гуси, куры, цыплята, журавли, фригийские рябчики, самосские павлины, амбракийские ягнята, затем – пессинунтская рыба, халкедонские скумбрии, гадитанские мурены, родосские осетры, киликийские скаты и тарентские устрицы.
Атриум гудел от голосов, смех и восклицания нарушали говор.
После нескольких часов беспрерывной еды мужи вставали и направлялись в комнату, где курились на треножниках благовония, чтобы принять порошок или сесть на золотой горшок, услужливо придвигаемый невольником; женщины быстро скрывались за занавесом, разделявшим комнату на две половины.
Звуки кифар и арф, резкий звон систров, хоровые песни юношей и девушек – все это заглушало голоса собеседников; а с потолка медленно сыпались лепестки роз, ложась на жареных павлинов и троянских свиней, на окорока, колбасы, рыб и десятки иных яств.
Когда началась пирушка и рабы, убрав со столов блюда, расставили кубки, усыпанные драгоценными камнями, и подали сыры, мед, пирожные, понтийское печенье, яблоки, груши, виноград, вишни, тазосские орехи, египетские финики и испанские желуди; когда вино полилось из амфор в фиалы, и атриум зашумел возбужденными голосами, провозглашавшими здравицы, – Лукулл обратился к Нигидию Фигулу и, указывая на сцену, где плясали в глубине раздвинувшейся стены полунагие девушки, сказал:
– Взгляни, мудрейший из мужей, на этих прелестниц и похвали их.
– Скажу словами Гомера:
– Прекрасно! – воскликнул Лукулл, – твоя ученость всем известна, а о чудесах, которые ты способен совершать, говорит весь Рим. Не скрой же от нас, что знаешь о гидромантии, леканомантии, предсказаниях и магии?
Нигидий Фигул усмехнулся:
– Я удивляюсь, что теперь, когда падает вера даже в богов, – пожал он плечами, – находятся римляне, которые верят способности магов вызывать дождь, град, грозу и засуху. По законам XII таблиц должно строго преследовать лжепророков и уличных предсказателей по Сйбиллиным книгам, а между тем толпы этих обманщиков пользуются легковерием плебеев и морочат им головы… Я не особенно доверяю чудесам тосканских гаруспиков и совершенно не верю фессалийским колдуньям, которые якобы могут посредством магических песен заставить луну сойти с неба. Но в астрологию, а отсюда – в предсказание будущего, верю… Верю также в Фатум, или предопределение. Даже пытался вместе с Варроном вызывать умерших… Но об этом после… Ты спрашиваешь, благородный Люций Лициний, о гидромантии и леканомантии? Ну, так слушай. Гидромантия – это ворожба на воде, способная вызвать изображение лиц богов… Я употреблял глиняный сосуд, опускал в него камень ампелит: блестящий, он, очевидно, придавал остроту зрению, и я однажды увидел Юпитера…
– Возможно ли? – вскричал с недоверием Лукреций Кар, возлежавший против Лукулла, и толкнул локтем Парфения.
– Леканомантия, – продолжал Нигидий Фигул, не обращая внимания на восклицание Лукреция, – это ворожба при помощи воды. Наполнив цистерну водой, я бросил туда золотые и серебряные дощечки, чашу, щит, лезвие меча, и вскоре появлялись предметы и фигуры, о которых я долго думал; я даже слышал ответы вызванных существ.
– Удивительно, – сказал Лукулл, задумавшись. – Но скажи, благородный мудрец, верно ли то, что утверждает Парфений? А говорит он, что Варрон, подобно пер 1сйдским магам, употребляет зеркала, чтобы вызвать сон, а ты пользуешься заколдованными детьми.
– …усыпленными, – поправил Нигидий Фигул.
–…пусть усыпленными, – согласился Лукулл, – и их вопрошаешь о будущем…
– Это верно, Я вопросил о судьбе Митридатской войны;..
Лукулл нахмурился, но тртчае же, улыбнувшись, воскликнул:
– Разве судьба ее не была известна Риму до моего возвращения из Азии? Ты напрасно потерял, благородный Публий Нигидий, дорогое время…
Фигул пожал плечами.
– Говорят, ты излечиваешь меланхолию при помощи музыки, – вмешался Лукреций, – но нашел ли ты средство против эпилепсии? Этой болезнью страдает Юлий Цезарь, и, говорят, врачи предписали ему есть собачье мясо, сваренное с разными травами, вином и миррой…
– Но эпилепсия – сумасшествие, – заметил Лукулл, – следовательно, Цезарь – сумасшедший…
Нигидий Фигул рассмеялся.
– Нет, он не сумасшедший, ибо не одержим ларвами… поп est larvatus, – повторил он, – но близок к помешательству, – и, омочив губы в чаше с вином, переменил разговор. – Будущее скрыто во тьме, и трудно предсказывать предначертанное Фортуною. Однако нам помогает астрология, и я, сблизившись с халдеями, вкусил от их премудрости. Я вынул гороскоп младенцу Октавию, племяннику Цезаря, и предсказал ему славную будущность…
– Ты назвал его императором! – вскричал Парфений.
– Так оно и будет, если лучи звезд не отвратятся от него.
Помолчали.
– Над чем ты теперь работаешь? – рассеянно спросил Лукулл, прислушиваясь к откровенной беседе Катулла с Клодией.
– Пишу книгу о мудрости и учености халдеев.
– Увы! – вздохнул Лукреций. – Я не настолько учен, как ты, и потому люблю прославлять только доблестных мужей.
Гремели кроталлы, арфы, веселая греческая песня, нарастая, ширилась.
Лукулл встал с ложа и пошел между столов; он подходил к собеседникам, спрашивая, всем ли они довольны и не желают ли еще– чего-нибудь. Гости громко благодарили, восхваляя его за радушие, доброжелательство и дружбу.
Проходя мимо Катулла и Клодии, Лукулл остановился: красавица делала поэту знак языком и губами, но Катулл растерянно смотрел на нее, не понимая. Глаза его беспомощно мигали.
Лукулл с негодованием отвернулся.