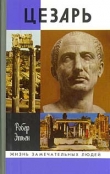Текст книги "Триумвиры"
Автор книги: Милий Езерский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 26 страниц)
XXI
Два мужа провели по-разному вечер и ночь накануне мартовских ид. После философской беседы с членами своего кружка Брут лег спать. Порция проснулась, когда он ложился, но муж не прикасался к ней. Это ее взволновало. Слушала, как он, ворочаясь, вздыхал, и подвинулась к нему, умоляя открыться ей; Брут рассказал прерывистым шепотом о заговоре, взяв с нее страшную клятву молчания.
– Как я рада, что нашелся, наконец, мститель за республику! – вскричала матрона, порывисто вскочив сложа. – О боги, благодарю вас за милость и доброту. Он отомстит за Катона и Бибула!..
Мигала одинокая светильня, и тень женщины ломалась на стенах и потолке. Села на ложе, заглянула мужу в лицо: на нее смотрели чужие глаза, в которых не было мысли, и ей показалось, что рот его кривится.
Быстро легла, натянула на себя одеяло. Но не спала, – всю ночь слышала вздохи мужа, испытывая гнетущее беспокойство о судьбе «великого дела».
А Цезарь, пообедав у Лепида в обществе Антония, Гиртия и Пансы, недавно назначенных консулами на будущий год, и нескольких галлов-сенаторов, возобновил беседу о смерти, прерванную скрибом, который принес государственные папирусы.
– Ты говоришь, Лепид, что сознание смерти само по себе страшно? – говорил император, подписывая папирусы. – В боях, когда смерть, стояла перед моими глазами, я забывал о ней, работая мечом…
– Какая же смерть, по-твоему, самая лучшая? – прервал Лепид, любуясь мужественным лицом друга, изборожденным морщинами.
– Неожиданная! – вскричал Цезарь и, подписав последний папирус, протянул его скрибу. – То, что называется смертью, продолжал он, – есть только изменение материи под влиянием твердого тела (железо), жидкого (вода) или эфирного (воздух). Материя разлагается, а душа испаряется, чтобы слиться с душой Космоса или улететь на Противуземлю, которая, по учению Пифагора…
Антоний с удивлением взглянул на диктатора.
– Неужели ты, Цезарь, не верящий в богов, веришь в существование Противуземли? – вскричал он. – Разве Пифагор не мог ошибиться?
Цезарь засмеялся.
– Ты хочешь сказать, что каждый человек должен иметь свое миросозерцание и не обязан верить знаменитостям. Это так. Но поскольку они философы и посвятили всю свою жизнь размышлениям, то нужно верить им…
– Что ты говоришь? – с шутливым смехом вскричал Лепид. – Остается учредить у нас республику Платона…
– …или демократическую монархию Аристотеля! – заключил Антоний. – Завтра в сенате ты, Цезарь, получишь диадему царя провинций и отправишься в поход против парфян!..
Возвратившись в domus publica, где Цезарь жил как великий понтифик, он прошел в кубикулюм, разделся и, по обыкновению, лег спать нагим.
Не мог заснуть. Лежа в объятиях Кальпурнии, слушал, как она вздыхала и что-то шептала во сне, и старался уловить смысл загадочных слов, но они были незначащи и противоречивы.
Проснувшись утром, он нашел жену бледной, испуганной.
– Умоляю тебя, Гай, не выходи сегодня из дома, отложи заседание сената, – говорила она. – Дурной сон привиделся мне, – я вся дрожу от страха и волнения…
– Пустяки, – засмеялся Цезарь. – Мало ли дурных снов снится нам?
– Умоляю тебя, прибегни к мантике или жертвоприношениям…
Цезарь молча одевался.
Когда жрецы возвестили, что знамения неблагоприятны, а гаруспик, советовавший остерегаться мартовских ид, многозначительно взглянул на диктатора, Цезарь вызвал Антония и приказал объявить сенаторам, что заседание отложено.
Антоний, такой же суеверный, как и Цезарь, сказал:
– Если боги предостерегают своего потомка, то не следует пренебрегать предзнаменованиями.
Заговорщики торопились умертвить Цезаря, опасаясь наплыва в Рим ветеранов, которые должны были составить почетный отряд при выезде диктатора из столицы. И убийство было назначено на мартовские иды.
– Мы поразим тирана в сенате, – говорил Кассий. – Он будет убит восьмьюдесятью сенаторами, подобно Ромулу, казненному самим Римом…
– А разве не весь Рим в заговоре с нами? – вскричал Брут. – Каждый из нас должен нанести только один удар…
Он волновался, боясь измены. В душе его шла тяжелая упорная борьба, но любовь к Цезарю и любовь к республике были несовместимы. Даже решившись на убийство, он колебался. И только молчаливая поддержка жены укрепляла его решение выполнить долг республиканца до коша. Временами ему казалось, что заговорщики преследуют личные цели, что им нет дела до республики и что Кассий, советовавший иметь кинжал под тогами, ненавидит Цезаря потому только, что тот сумел возвыситься, а он Кассий, сподвижник Красса, остался маленьким человеком.
В назначенный день заговорщики чуть свет собирались к портику Помпея. На улицах было почти безлюдно. Брут слушал, как Децим размещал в театре, находившейся возле курии, нанятых гладиаторов, которые должны были защитить заговорщиков в случае внезапного на» падения ветеранов. Подозвав Требония, он тихо заговорил, поручая задержать Антония на улице, и губы у него дрожали.
– Завяжи с ним разговор, задержи как хочешь… Антоний страшно силен и, если проникнет в курию, будет защищать Цезаря…
Брут дрожал, как в лихорадке. Подозвав раба, он приказал принесть холодной воды из источника Эгерии.
Вода освежила его, привела мысли в порядок.
Солнце золотило Капитолий, храмы Весты и Кастора, общественные здания. Брут взошел на трибунал и начал разбирать судебные дела. Он совсем успокоился, и, казалось, забыл о деле – том страшном деле, которое истерзало сердце, легло на него непосильной тяжестью, но голоса соучастников, беседовавших под портиком… но гладиаторы, укрытые в театре… но толпы народа, заполнившие улицы… но зрители, спешившие в театр, где началось представление…
Понял, что спокойствие – напускное. Из глубины души поднялась темная волна ужаса. Не слышал людей, излагавших жалобы: свинцовые глаза стали невидящими, рука ухватилась за бороду и, точно окаменев, застыла.
Усилием воли взял себя в руки. Прервав разбирательство дела, он подошел к Каске, с которым беседовал сенатор, не заговорщик, и, видя испуг на лице соучастника, спросил:
– О чем вы шепчетесь, коллеги?
– Удивляюсь, – смеясь, говорил сенатор, – отчего Каска скрывает свою тайну? Но, поскольку ты, Брут, доверил ее мне, она уже не тайна, и я рад кандидатуре Каски в эдилы…
Каска и Брут вздохнули с облегчением. Когда сенатор ушел, к ним подошли почти одновременно Кассий и Ленат.
– Надеясь на успех, – сказал Попиллий Ленат, – нужно торопиться…
Брут взглянул на солнце – оно было уже высоко. Никогда Цезарь так не опаздывал. Нетерпение заговорщиков превращалось в ужас – мысль об измене охватила их.
– Не преданы ли мы? – шепнул. Кассий Бруту на ухо.
– Пошли за ним Децима, – решил вождь заговорщиков.
Отозвав Децима Брута в сторону, Кассий беседовал с ним. Сперва Децим колебался, но потом согласился и с деланно-веселым видом зашагал к форуму.
Кассий и Брут не спускали с него глаз: вот он достиг узеньких уличек Марсова поля, вот свернул вправо, потом влево, и его крепкая фигура пропала среди бедных домиков плебеев.
XXII
Децим Брут, поднявшись на форум, вбежал в domus publics и приказал рабу доложить о себе Цезарю.
«Я мог бы поразить его здесь, – подумал Децим, – но, поскольку тирана должен казнить весь Рим, он получит все восемьдесят ударов в курии Помпея».
Цезарь вышел к нему в одной тунике – тогу он снял, решив не выходить из дому.
– Великий Цезарь, – сказал Децим Брут, целуя после приветствия у него руку, – как твое здоровье? Сенаторы собрались и ожидают тебя…
– Дурные предзнаменования, дорогой Децим, принудили меня остаться дома. Жена видела зловещий сон, а жрецы предсказывают…
– И ты, равный богам, веришь глупым жрецам? И сновидениям жены? О, Цезарь! подумай, что скажут твои недоброжелатели, узнав, что государственные дела зависят от хороших или дурных снов твоей жены.
Цезарь молчал.
– Сенат будет оскорблен, если ты не явишься, – продолжал Децим Брут, поглаживая полные красные щеки, – а ведь он собирается провозгласить тебя царем провинций с правом носить диадему на суше и на море… О Цезарь, мы любим тебя и боготворим, и неужели ты не желаешь блага отечеству?..
– Децим Брут, посмотри мне в глаза…
Брут, не моргнув глазом, выдержал взгляд Цезаря.
– Все такой же честный, верный, – шепнул диктатор, обнимая его.
Дрожа от стыда и презрения к себе, чувствуя ужас в сердце, Децим освободился из объятий Цезаря.
– Император, я тороплюсь, меня ждут… Но не лучше ли, если ты сам пойдешь в сенат и отложишь заседание?
И, взяв Цезаря под-руку, вышел с ним на улицу.
– Займи место в лектике, – предложил ему диктатор. Но Децим, мучимый стыдом, колебался, и Цезарь заставил его возлечь рядом с собою.
Лектику сопровождали ликторы, и раб, бежавший впереди них, громко кричал, расталкивая народ:
– Дорогу диктатору!
Лектика, окруженная клиентами, магистратами, почитателями и приверженцами, медленно пробиралась среди толп разноплеменного люда.
Высунувшись из лектики, Цезарь приветствовал рукой и улыбкою народ. Крики охватили улицу. Кто-то воскликнул: «Да здравствует наш царь!» Кто-то поправил: «Царь провинций!» Кто-то добавил: «Царь Рима!» Затем возгласы слились в мощный гул, – это кричали плебеи, и Цезарь, внезапно нахмурившись, сказал Дециму Бруту:
– Слышишь, они вопят: «Долой царя!» А разве я добиваюсь диадемы?
Децим прищурился:
– Да, Цезарь, ты стремишься стать царем, и сегодня в сенате…
Он не договорил. Сквозь неистовствовавшую толпу какой-то человек пробивал себе путь к диктатору.
– Важная эпистола! – кричал он. – Дорогу, дорогу!..
Лектика остановилась. Цезарь узнал бородатого Артемидора, учителя греческой литературы, с которым часто беседовал и которого любил за прямоту, искренность и ясность суждений.
– Привет Цезарю! – воскликнул Артемидор, подавая ему эпистолу. – Умоляю тебя, диктатор, прочти это как можно скорее; здесь говорится о чрезвычайно важном для тебя деле.
Император вскрыл письмо, и выйдя из лектики, стал читать, Однако лица, попадавшиеся ему навстречу, мешали, – он поминутно отрывался от эпистолы.
«Прочту в сенате», – решил он, приветствуя магистратов.
Подошел Попиллий Ленат и тихо стал беседовать с Цезарем.
Ужас охватил заговорщиков. Боялись, как бы не предал, и все, как один, приготовили кинжалы, чтобы тут же покончить самоубийством. Кассий позеленел от страха, только Брут держал себя в руках и спокойно смотрел на Цезаря.
После жертвоприношения, совершенного вне курии, Цезарь насмешливо обратился к гаруспику:
– Что же, Спуринна, мартовские иды пришли?!..
– Пришли, Цезарь, но еще не прошли, – ответил гаруспик, и опять беспокойство охватило диктатора.
В курию Помпея вошел с эпистолой в руке. Удивился, что Децима Брута уже рядом не было, и безотчетный страх закрался ему в сердце.
Впереди возвышалась во весь рост статуя Помпея: тучный триумвир, с лавровым венком на голове, высокомерно смотрел незрячими глазами на сенаторов, и презрительное выражение не сходило с круглого упитанного лица.
Цезарь не видел Kaссия, не сводившего глаз со статуи. Эпикуреец, он на этот раз отступился от учения философа и, дрожа от нетерпения, волнуясь, молча звал Помпея на помощь. Он был в исступлении: – ничего не видел, не слышал, пока молился Помпею. Только сверкали глаза, и рука судорожно сжимала меч.
Оторвав глаза о Помпея, Кассий увидел Цезаря, садившегося в кресло, и поспешил к заговорщикам.
– Умоляю тебя, диктатор и император! – говорил Тиллий Кимбр, униженно кланяясь, – сжалься над моим бедным братом, верни его из изгнания! Он погибает в стране, где не слышно римской речи и не видно неба возлюбленной Италии!
– Нет, Тиллий, – твердо возразил Цезарь, – твой брат, подобно Нигидию Фигулу, непримирим, и нет ему веры в моем сердце!
– О Цезарь, прости его! – хором закричали заговорщики. – Взывая к твоему милосердию, мы целуем тебя, как бога…
И они целовали у него руки, грудь, голову, напирая на кресло, – это было Необычно, и Цезарь, чувствуя опять страх, быстро встал, сделав знак всем отодвинуться.
«Где Децим Брут? Неужели он»…
Но Децима Брута не было. Исступленное лицо Кассия с одичавшими глазами… Злые лица… и глаза, глаза!..
Понял опасность. И в ту же минуту Кимбр обеими руками ухватился за его тогу и сорвал ее с плеч. Открылась грудь, покрытая легкой туникой.
– Да ведь это насилие! – крикнул Цезарь. Каска, стоявший позади, выхватил меч и дрогнувшей рукой ударил его в плечо: острие задело глотку.
На Цезаря сыпались удары со всех сторон. Брат Каски вонзил ему кинжал в бок. Кассий поразил в лицо, подбежавший Децим Брут – в пах. Цезарь боролся, защищаясь стилом, кулаками и ногами, озираясь, обдумывая, как бежать, но заговорщики, вопя и воя, почти повисли на нем и в тесноте поражали друг друга. Боли он не чувствовал, глаза искали помощи, сочувствия, однако всюду были враждебные лица.
Отбиваясь, Цезарь дошел до статуи Помпея. Мелькнула мысль – опрокинуть на них статую. И вдруг задрожал, пошатнулся: бледность забелила мужественное лицо воина, неоднократно смотревшего в глаза смерти: Брут вынимал меч, – Брут, возможно ли?..
Страшное мгновение. Остро почувствовал опустошенность сердца и отвращение к жизни.
– И ты, сын? – вскричал он с упреком и перестал защищаться: окутав голову тогой, он левой рукой спустил ее складки за колени и подставил тело под удары.
Теперь заговорщики, торопясь, хрипя и задыхаясь, работали мечами, как молотильщики цепами.
Брут, раненный в руку, смотрел на Цезаря, упавшего в луже крови у подножия статуи Помпея, на заговорщиков, забрызганных кровью, и глаза его горели торжеством.
– Отцы государства! – воскликнул он, желая произнести речь, и – замолчал: сенаторы с криками ужаса, с поднятыми руками, обратились в бегство. Только один из них стоял на месте: глаза его радостно сверкали, и он хлопал в ладоши. Однако рукоплескания его тонули в отзвуках топавших ног, в шуме и давке у дверей, – разве бегство сенаторов не было осуждением убийства?
Брут злобно усмехнулся. Курия Помпея была пуста.
Выбежав из нее, он помчался по улицам, размахивая кинжалом, и его забрызганная кровью тога заставляла квиритов с ужасом бежать от него.
– Мир, мир! – кричал Брут.
С недоумением смотрела на него разноплеменная толпа. А когда за ним выбежали из курии заговорщики с обернутыми вокруг левой руки тогами, потрясая окровавленными кинжалами, неся на палке пилей, символ свободы, и взывая к республике, – улицы опустели. Разбегались торговцы, разносчики, зрители из театра Помпея, и вскоре город погрузился в гробовое молчание.
Светило солнце, в листве деревьев гомозились птички, а жители заперлись в домах, боясь выйти на улицу.