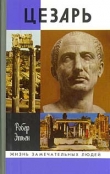Текст книги "Триумвиры"
Автор книги: Милий Езерский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 26 страниц)
XIX
Добившись квестуры, Цезарь не прерывал излюбленных занятий астрономией и стратегией: он увлекался Гиппархом, изучал, подобно Сулле, движение войск в походах, ведение наступательных и оборонительных боев Аннибала, Сципионов Старшего и Младшего и в особенности Суллы, который, начальствуя над маленькими силами, сумел разбить азийские полчища Митридата при Херонее и Орхомене.
Увлекаясь эллинским искусством, Цезарь скупал статуи Фидия, Праксителя, Скопаса, Лизиппа, жадно читал Софокла, Эврипида, Платона, Аристотеля и менее знаменитых писателей. Величественная культура Греции вставала перед ним, свежая и прекрасная, как Анадиомена. Он понял, что Цицерон, выдвинувший красноречие Демосфена как образец чистоты языка, был прав: азийская риторика Гортензия Гортала не могла больше соперничать с простыми зажигательным филиппиками греческого оратора и острыми общедоступными речами самого Цицерона.
Но больше всего увлекала его политика: это был мост к власти, вступить на который и пройти его до конца казалось самым трудным делом. Он пристрастился к «Политике» Аристотеля не потому, чтобы она всецело удовлетворяла его, а оттого, что представлялась близкой современности; иной же, «своей политики», он еще не выработал, хотя много размышлял о новых формах правления.
«Если всё должно быть основано на законе, препятствующем вырождению демократии в демагогию, аристократии – в олигархию и монархии – в азийскую деспотию, – думал он, – то лучшая форма власти – союз демократии и аристократии, как учил Аристотель и одобрял Полибий… Поэтому мы, популяры, приняли эту «политику». Но может ли она теперь удовлетворить римское государство? Этот союз вызывает борьбу сословий за власть, подрывает устои республики, разрушает ее… Где же выход?.. В диктатуре, в монархии? Неужели прав был Сулла, отбрасывая Рим к временам царей?..»
Вошла рабыня, возвестив, что госпоже хуже: лекарство, приготовленное врачом, не помогает, и она задыхается.
Уже вторую неделю болела Корнелия, и Цезарь каждый раз, входя в кубикулюм, где она лежала, разметавшись на ложе, испытывал к ней жалость и чувство нежности. Врачи утверждали, что вылечат ее, но Цезарь был уверен, что какова бы ни была болезнь, она излечима в том случае, если жене предопределено жить, и потому лекарствам не придавал существенного значения.
Когда он входил, Корнелия кашляла; она вспотела – пожелтевшее лицо и полунагое тело, с которого она сбросила одеяло, лоснились, и Цезарь был поражен худобой ее рук и ног.
«Умрет», – подумал он и спросил, не подать ли ей карийских сластей, чтобы унять кашель, но Корнелия, отрицательно мотнув головой, так сильно закашлялась, схватившись за грудь, что лицо ее побагровело.
Врач-иудей, с длинной седой бородой и умными глазами, подошел к ложу, держа курильницу в руке; он шептал, быстро повторяя: «Адонай, Адонай», и Цезарь с суеверным страхом отодвинулся от него. Запах сгоравшей смолы распространился в кубикулюме, и больная, вдыхая целебный дым, успокоилась.
– Спи, – шепнул Цезарь и сделал движение, чтобы уйти.
– Подожди, Гай, – остановила она его, – чувствую, что скоро сойду в Аид… Нет, нет! – воскликнула она, заметив, что он готов возражать, – я это знаю: мне снился зарубленный легионариями отец и манил окровавленной рукою… На моем саркофаге сделай надпись: «Корнелия, жена Гая Юлия Цезаря, дочь великого Цинны…»
К вечеру, когда стало ей хуже и врач объявил, что Адонай не продлит жизни благородной госпожи, Цезарь получил известие о внезапной болезни Юлии, вдовы Мария Старшего. Суеверный страх охватил его: «Уж не причина ли их болезни этот старый иудей? Что он шепчет? Каких богов призывает на помощь – добрых или злых?,.»
А врач говорил, и слова его медленно шуршали в таблинуме:
– Если позволишь, господин, я взгляну на твою тетку… Может быть, наука в силе отвратить от нее болезнь…
– Нет, нет, – резко возразил Цезарь и приказал кликнуть атриенсиса. – Заплати этому человеку за его труды по-царски… Помощь его больше не нужна…
А сам думал, щупая на груди золотую буллу: «Волшебник, старый волшебник… Слуга Гекаты… Как сверкают его старые глаза! Лишь бы они не накликали на меня болезней!»
Юлия лежала не в кубикулюме, а в таблинуме, где каждый день читала несколько часов «Достопамятности Суллы» и составляла к ним примечания.
Еще утром она почувствовала легкое недомогание, боли в сердце. И вдруг упала. Ее подняли, положили на ложе и привели в чувство.
Она крепилась, не желая беспокоить родных, но, когда к вечеру ей стало хуже, она послала рабов за ними.
Она думала о Сулле, перебирая в памяти встречи, вспоминая каждое слово, сказанное им, и он мелькал перед ней под разными личинами: веселый гуляка, соблазнитель дев, завсегдатай лупанаров, смелый муж, храбрый воин, великий полководец, кровавый диктатор… И эти лики, меняясь, надвигались на нее, а она протягивала руки, чтобы погрузить их в золотое руно его волос…
«Где я найду твою блуждающую тень, Люций? Где встречусь с тобою?»
Родных Цезарь не застал в таблинуме – они ушли за несколько минут до его прибытия. Юлия была одна.
Подойдя к ее ложу, он сел у изголовья и взял ее смуглую исхудалую руку, не зная, что сказать, как утешить.
– Хорошо, Гай, что ты поторопился, – спокойно сказала Юлия, – Мойра уже звенит ножницами, чтобы обрезать нить моей жизни…
– Ты еще поживешь, супруга великого Мария, – тихо ответил Цезарь, опуская глаза.
– Зачем так говоришь? – упрекнула она его. – Ведь сам ты не веришь своим словам!
– Хочешь, я приглашу александрийских врачей?
– Не нужно. Обещай только… довести мое дело до конца… Пусть скрибы перепишут «Достопамятности Суллы» и мои примечания. А потом отдай всё Лукуллу…
– Зачем? – тихо вымолвил он и подумал: – Так это верно, что она любила диктатора!»
– А когда я уйду в другой мир, – не ответив на его вопрос, говорила Юлия, – не забудь…
Вскрикнув, схватилась за сердце: лицо побелело, голова странно покачнулась.
Цезарь вскочил, громко окликнул ее – молчание. На него смотрели широко раскрытые неподвижные глаза.
Приложил руку к ее сердцу: не билось.
Юлию и Корнелию хоронили одновременно.
В печальном шествии Цезарь нес статую победителя кимбров и тевтонов, и плебс, вспоминая Мария, склонял головы. Множество ремесленников, вольноотпущенников и рабов теснились в узких улицах: одни – чтобы взглянуть на супругу Мария и жену популяра, который нес статую полководца, другие – чтобы проводить их до могилы.
– Какое горе для Цезаря! – шептали плебеи.
А он шел, несколько бледный, опустив глаза, но большого горя не испытывал.
«Разве смерть не обычное явление? Конечно, жаль умирающих, но никто не вечен. А ведь нужно плакать, по обычаю… Но как плакать, когда нет слез?..»
Он произнес речь, восхваляя Мария и Цинну, величая их лучшими вождями популяров, а о себе говорил, что его род ведет начало от царя и богини; упомянул Гракхов, смелых друзей народа, и резко порицал Суллу за жестокость и непримиримость к плебсу, зная, что память о диктаторе ненавистна народу. Величая Юлию и Корнелию «самыми добродетельными матронами Рима», он сказал, что дочь его Юлия будет достойна своего знаменитого деда, и обещал воспитать ее поборницей нужд плебса.
Вечером, когда друзья и знакомые, приглашенные Цезарем, возвращались, чтобы принять участие в похоронном обеде, Цезарь отделился от толпы и задумчиво смотрел на ночные похороны плебея.
При свете факелов несли гроб, и покойника провожали несколько сукновалов и рыдавшая женщина с ребенком на руках.
«Они всегда хоронят ночью – беднота самолюбива, боится дневного света, – думал он, присоединяясь к друзьям. – Зарыв этого плебея на кладбище Эсквилинского поля, они возвратятся в свой домик, чтобы сесть за скудную пищу и глотать ее со слезами… А таких бедняков большинство. Они мечтают о благополучии, и если им обещать…»
Резко отвернулся от похоронного шествия и присоединился к друзьям.
XX
Несколько лет прожила Лициния в вилле Корнелия Лентула Суры на положении племянницы господина, и это время было безмятежно, как тихая дремота на солнечном берегу ручья. Прошлое казалось ей страшным сном, ниспосланным Гекатой, а спасение из каменной ямы – чудесным вмешательством Весты в ее судьбу.
Катилина, отвезший ее подальше от Рима и не преминувший разделить с ней ложе тотчас же по приезде в виллу, оставался недолго, и образ его улетучивался из ее памяти. А Суры она никогда не видела – он не бывал в вилле, довольствуясь теми отчетами о хозяйстве, которые она составляла с вилликом и посылала ему в Рим.
Однажды, когда на птичьем дворе секли нерадивую рабыню, у которой неизвестно каким образом пропала корзина яиц, приготовленных для продажи, Лициния, услышав вопли, вышла из дома.
Навстречу ей бросилась виллика:
– Госпожа моя, – воскликнула она, удерживая Лицинию за край туники, – тебя ждет человек с эпистолой…
– Пусть войдет в атриум, – распорядилась она и спросила, за что наказывают рабыню. Проступок невольницы показался ей незначительным, и она приказала прекратить истязание.
Посредине атриума стоял смуглый молодой плебей. Она невольно залюбовалась им, а он, поклонившись, подал ей письмо:
– От нашего господина Люция Сергия Катилины. Патриций писал, что вилла Корнелия Лентула Суры продана этрусским обществом публиканов за долги господина, и поручал Сальвию отвезти Лицинию к своему другу Манлию, ветерану Суллы.
– Поедешь со мной? – спросил Сальвий, весело взглянув на нее.
Лициния смущенно опустила глаза.
– Не знаю… в чужой дом… в чужую семью тяжело вступать… – пролепетала она.
Сальвий стал убеждать, что иного выхода нет, и она решила собираться в дорогу.
Весь день Сальвий помогал ей по хозяйству: нужно было сдать расписки в получении денег, взыскать по счетам с должников, отвезти в нундины плоды и овощи на рынок. А когда наступил вечер и они, сидя в атриуме, ужинали, Сальвий сказал:
– Мой господин Катилина послал меня по делам в Этрурию, и мы часто будем видеться. Я скажу Манлию, как приказал господин, что ты – моя жена…
Лициния вспыхнула:
– Зачем? – шепнула она. – Разве Манлий…
– У него на попойках собираются разные люди, а тебя нужно обезопасить. Я скажу Манлию так: «Наш господин Катилина приказал тебе дать приют Лицинии и заботиться о ней, как о родной его дочери…»
Лициния схватила его за руку.
– Да воздадут тебе боги за твою доброту…
Манлий принял их приветливо, а прочитав эпистолу Катилины, сказал:
– Будь спокоен. У меня твоя жена никем не будет обижена, иначе…
Он поднял огромный кулак и погрозил им невидимому врагу.
Ночью, когда в доме все заснули, Манлий и Сальвий вышли в поле.
– Господин передает тебе власть над Этрурией, – говорил Сальвий. – Готовь ветеранов к восстанию, вербуй плебеев, набирай рабов…
– Наконец-то! Серебро на это-дело?
– Со мною.
– Что нового в Риме?
– Красс и Помпей грызутся…
– Они грызлись и при жизни императора, – усмехнулся Манлий. – А Цезарь?
– Не люблю его – лисица. Манлий пожал плечами:
– Все хитрят – иначе нельзя. Разве Катилина действует открыто?
Шли межой между колосящихся хлебов. Крупные звезды трепетали на черном пологе неба. Оба молчали.
– А ты, – остановился Манлий, – останешься здесь?
– Господин приказал помогать тебе. И, если позволишь, я объеду всю Этрурию…
– Да воздадут ему боги за его заботы о ветеранах императора! – воскликнул Манлий. – Пусть сопутствует нам и ему тень нашего друга, отца и владыки!..
Сальвий молчал, – его возмущала рабская преданность Сулле, о жестокости которого он много слышал от Мульвия. Привыкши ненавидеть диктатора, он думал: «Вот стоит человек, восхваляющий это чудовище, и я не смею ему прекословить». Понимал, что тесно соединились нужды ветеранов с нуждами плебса под главенством Катилины, который предостерегал его перед отъездом из Рима: «Не ссорься ни с кем, если нужно – превозноси перед ветеранами Суллу, перед рабами – Спартака и перед плебеями – Гракхов, Сатурнина и Мария… Помни – необходимо набрать побольше легионариев, чтобы опрокинуть проклятую власть нобилей!»
Возвращаясь домой Манлий твердо сказал:
– Я подыму всю Этрурию и создам крепкие легионы, а ты будешь у меня начальником конницы.
XXI
Моряки, распущенные Митридатом после выдачи Сулле кораблей, стали пиратами, и к ним присоединились тысячи людей, не желавших подчиниться суровому господству Рима: морские разбои охватили не только Архипелаг и моря, омывающие Грецию, но даже берега Италии, – торговые суда не могли свободно плавать, и публиканы терпели огромные убытки. Владея многочисленными Пристанями на берегах Средиземного моря и особенно в Киликии, пираты не скрывали награбленных сокровищ (их корабли были украшены золотом и пурпуром, а весла отделаны серебром); дерзость их с каждым днем возрастала: они проникли в Остию и сожгли римские суда, а когда преступление осталось безнаказанным, отрезали Италию от ее житниц, и подвоз хлеба прекратился. В Риме наступал голод. Народ роптал, требуя прекратить это зло.
Любимец плебса, Помпей добился назначения на эту войну, несмотря на противодействие Красса.
Отправляясь в поход, он сказал полушутя своему другу Варрону:
– Нужно поскорей усмирить пиратов, – иначе Лукулл дойдет до Индии…
Варрон уловил в его словах беспокойство: победы Лукулла удручали Помпея.
Война была кончена в три месяца, и Помпей доносил сенату и римскому народу о своих блестящих победах. Рим ликовал, превознося, Помпея. Но Красс, имевший приверженцев в войске консуляра, знал больше: римский полководец заключил постыдный мир с пиратами, «этими врагами, готовыми при первом же случае поднять оружие против Рима, заняться опять морскими разбоями». Однако Красс был слабее Помпея: кроме плебса, полководца поддерживали всадники, получившие наконец возможность свободно вести торговлю.
Помпей втайне преклонялся перед Лукуллом и завидовал ему, испытывая страх, что все царства до рубежей Индии будут завоеваны счастливым соперником и ему, Помпею, не придется прославиться и захватить сокровища азийских царей. Он думал: «Чем скорее стану во главе мятежных легионов (как хорошо я сделал, успев посеять рознь и недовольство среди Лукулловых воинов!), тем быстрее завершу завоевание царств, и тогда слава целиком перейдет ко мне!» Он знал, что суровый и справедливый Лукулл запрещал легионариям грабежи и, насилия; знал также, что подосланные люди, возбуждая воинов и трибунов, говорили: «Помпей Великий будет отдавать вам всё, что вы завоюете: города с сокровищами, рабов, женщин и детей; а имея невольников, вы станете такими же богатыми и знатными,, как ветераны Суллы». Получив назначение в Киликию по закону трибуна Манилия, горячо поддержанное Цицероном и Цезарем, Помпей прощался накануне своего отъезда с друзьями и почитателями.
Выдающиеся фамилии Рима заполняли просторный атриум. Были здесь популяры и сенаторы. Казалось, взаимная вражда -сословии была забыта и все объединились вокруг вождя популяров, воодушевленные патриотическим стремлением к благу отечества.
Прославляя Помпея, гости старались пожать ему руку, сказать хотя бы одно напутственное слово.
А магистраты, матроны и девушки прибывали…
На другой день говорили, что весь Рим побывал у Помпея, – не пришел только один Красс.
XXII
После отъезда Помпея Цезарь стал чаще бывать у Красса. Нередко он приходил, когда хозяина не было дома, и его встречала, вспыхивая от радости, Тертуллия, приземистая, полногрудая матрона с черным пушком на верхней губе. Он обольстил ее не потому, что был влюблен, а оттого, чтобы влиять через нее на несговорчивость Красса.
«Буду мужем многих матрон и женой многих мужей, лишь бы крепко держать магистратов в своих руках, – думал Цезарь, входя в дом Красса и зная через рабов, которые доносили о каждом шаге хозяина, что тот отправился на форум, а Публий, сын его, к ритору. – Если боги помогли Тертуллии и она сумела убедить богача, мы попытаемся…»
В атриум вбежала полуодетая матрона, громко засмеялась, увидев Цезаря, схватила его за руку.
– Иди за мной, – шепнула она, увлекая его за собой и Venereum, потайный уголок, посвященный Венере.
Это была комнатка, увешанная коврами, с мягким ложем возле жертвенника перед статуями Венеры Калл книге и Венеры Перибасии, увитыми лентами с египетскими, иероглифами. Приапы и вакхические амулеты истрепались на каждом шагу, а на стенах красовались libidinies – порнографические картины. Цезарь был здесь впервые.
На ложе она твердила о своей любви, и он, торопливо лаская ее, расспрашивал, как относится Красс к союзу с ним на форуме, что думает делать в случае сопротннления сената.
– Марк готов работать с тобой, – говорила Тёртуллия, – хотя боится всецело довериться тебе… Дела твои с Помпеем и Цицероном доводили его до бешенства, но я уверяла, что это твоя политическая хитрость. У него много сторонников в сенате, и если ты умело поведешь дело…
– ZcDJTxaicpGxri, [3]3
«Жизнь и душа» – в смысле «моя дорогая».
[Закрыть] – шептал Цезарь, целуя ее. Встал и, одеваясь, сказал:
– Буду дожидаться его в таблинуме… Тертуллия хлопнула в ладоши и приказала невольнице подать вина и внести шипящий кальдарий.
Когда они допивали кальду, разбавленную молоком, рабыня доложила, что идет господин: сейчас он остановился на улице и ругается с публиканом.
– Он не замедлит войти! – с беспокойством воскликнула Тертуллия, сделав знак невольнице убрать чаши и кальдарий: – Не лучше ли, Гай, если ты уйдешь, а потом вернешься?
– Нет, – отказался Цезарь, – я не привык отступать…
Он взял свиток пергамента и развернул его. Это была «Милесиака», сочиненная Аристидом и переведенная Сизенной под Названием «Милетские рассказы».
Цезарь углубился в чтение. Описание симпосиона, ночного пиршества с участием женщин, и беседа о любви отличались от Платонового сймпосиона тем, что здесь было избегнуто метафизическое раскрытие предмета и центр тяжести перенесен на веселую занимательность.
Шутливый возглас вошедшего Красса прервал чтение:
– Клянусь прелестями Каллипиге, сам полубог почтил мой бедный дом своим присутствием!
– Клянусь Уранией, – так же шутливо ответил Цезарь, вставая, – сам Крез приветствует обедневшего полубога!
– Ха-ха-ха! Опять нужны нуммы?
– Когда они Не нужны? Без них, царственный Крез» и солнце не светит, и радость превращается вторе!
– Ха-ха-ха! А о девушках забыл?..
– Девушки – это лакомство, подаваемое на золотом блюде, а так как золота у меня нет…
Красс, улыбаясь, хлопнул в ладоши и приказал рабу подать вина.
– Ты, конечно, по делу… по нашему делу? – спросил он, старательно свертывая папирус.
– Толстяк уехал, – тонко улыбнулся Цезарь, намекая на Помпея, – и мы можем…
– Подожди, – остановил его Красс, – верно ли, что ты женился на прекрасной Помпее, дочери Квинта Помпея Руфа и Корнелии?.. Ловкий ход, клянусь Адонисом! Племянник Мария женился на племяннице Суллы, и я сразу понял твою хитрость; ты как бы говоришь: «Отныне нет больше политической розни, я получу кредит у всадников, дружбу и доверие сенаторов, и сулланцы забудут о моем прошлом».
Цезарь усмехнулся.
– Ты умен, Крез, но я следую завету Аристотеля: только соглашение между аристократией и демократией способно дать счастье отечеству…
– Об этом подумаем. Помоги мне сперва перейти на сторону популяров.
– Ты еще не отказался от мысли завоевать Египет? Красс вспыхнул.
– Разве Александр II не завещал Египет Риму? – сказал он. – Подними комиции… А так как пропретор Катилина возвратился из Африки (его обвиняют в лихоимстве), то он, Пизон и еще несколько человек нас поддержат… По моему настоянию в списки кандидатов, добивающихся консульства, внесены Публий Автроний Цет и Публий Корнелий Сулла, племянник диктатора. Они должны стать консулами, а тогда…
– Ты обдумал каждый шаг? – шепотом спросил Цезарь, и глаза его загорелись.
– Будь спокоен. Меня не остановит самая жестокая борьба. Я должен стать диктатором, а ты, Цезарь, будешь начальником конницы…
– Нужно действовать тайком, но меня смущает: найдем ли мы достаточное число сторонников? Помпеянцы нам не помогут, народ тебе не доверяет, – ведь ты недавно отрекся от сотрудничества с популярами, а один сенат…
Красс пожал плечами.
– Чего ты боишься? – воскликнул он. – Кто наносит удар, тот должен быть готовым получить тоже удар.
– Или отразить его…
– Будь спокоен, – повторил Красс, и глаза его зажглись злобным блеском. – Я отражу его с такой силой, что задрожит весь Олимп…
Рабы подали вино и фрукты. Вошла Тертуллия и возлегла рядом с мужем. О политике больше не говорили; беседа велась о завоеваниях Лукулла, о развратном поведении жены его, о магистратах и о Прении, снова получившей богатые подарки из Азии.
Когда Цезарь уходил, Красс отозвал его в сторону:
– Будь осторожен, – шепнул он. – Если наш замысел не удастся, мы его повторим спустя год или два…
Цезарь был в угнетенном состоянии, – уверенность в неуспехе и какая-то тревога не покидали его до конца дня. И вечером с ним случился жестокий припадок падучей.