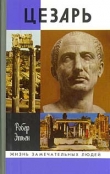Текст книги "Триумвиры"
Автор книги: Милий Езерский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 26 страниц)
XV
Цицерон ухаживал за юной миловидной Публилией, опекуном которой стал после смерти ее отца. Ему исполнилось шестьдесят три года, ей – четырнадцать.
Он знал, что в Риме посмеиваются над разводом его с Теренцией (сплетни о любовной связи ее с Филотимом доводили его до бешенства) и ухаживаниями за Публилией, но делал вид, что ничего не замечает. А Теренция распускала слухи о его любви, однако Тирон опровергая их, доказывая, что Цицерон если и женится, то для того, чтобы поправить свои денежные дела.
Но старик, действительно, увлекся опекаемой девушкой. Смуглая, веселая, она бегала в одной тунике яз атриума в таблинум и в кубикулюм, оживляя дом смехом и песнями. А после свадьбы, отпразднованной в Тускулуме, она подчинила его себе.
Однако, счастливые дни оратора были омрачены столкновениями юной жены с Туллией. Хмурая и раздра-жительная, дочь не могла простить отцу развода с матерью и смотрела на мачеху как на любовницу его. Она задевала ее и жаловалась Цицерону на беспокоившие ее песни Публилии.
Наконец, она слегла и вскоре умерла от тяжелых родов. Велико было горе Цицерона, потерявшего любимую дочь! Он не находил себе места.
– О боги, – шептал он дрожащими губами, – долго ли еще будете наносить мне удары? Почему я должен пережить друзей и родных, остаться одиноким?
– Одиноким? – удивилась Публилия. – Разве у тебя нет любящей жены?
– Увы, Публилия! Я так любил Туллию…
Но Публилия, довольная смертью падчерицы, села ему на колени и сказала:
– Теперь мы заживем, Марк, счастливо и мирно. С начала моего замужества она ворчала и бранилась, и я не видела ни одного тихого ясного дня.
И она запела песню, закружившись в атриуме. Цицерон побагровел.
– Публилия! – яростно крикнул он. – Ты радуешься ее смерти?
Побледнев, Публилия вымолвила сквозь слезы:
– Не кричи. Разве я виновата, что она умерла? Цицерон встал и вышел на улицу.
Несколько дней он не возвращался домой, поселившись у Гиртия, и, наконец, поручил ему отправиться к Публилии с разводным письмом.
Она зарыдала, узнав о решении Цицерона, и стала посылать к нему рабынь с эпистолами, но оратор был непреклонен: радость жены по поводу смерти дочери он считал преступлением и на ее письма отвечал лаконически: «Оставь мой дом». Гиртий, видя его удрученность, предложил ему в жены свою сестру. Но Цицерон грустно покачал головою: – Я достаточно наказан, что женился на юной девушке. Теперь я вижу, что неудобно заниматься одновременно женщиной и философией, потому что страсть, хотя бы и старческая, рассеивает мудрые мысли.
Цицерон получал эпистолы с выражением соболезнования по. поводу смерти дочери: Цезарь писал из Испании, старый друг Сульплций, знаменитый правовед, из Эллады, которой он управлял, писали Аттик, Брут, Долабелла, десятки и сотни знакомых и неизвестных людей.
Особенно взволновала его эпистола Сульпиция: «Когда я возвращался из Азии, направляясь из Эгины в Мегару, я смотрел на страну, лежавшую передо мною: против меня была Мегара, сзади – Эгина, направо Пирей, а налево Коринф. Некогда это были цветущие города, а теперь – развалины. И, созерцая их, я сказал себе: «Как смеем мы, жалкие смертные со своей краткой жизнью, жаловаться на чью-либо смерть, когда видим вместо стольких городов, бывших великими, одни мертвые развалины?»
Диктуя Тирону ответ, Цицерон плакал:
– «…у меня, дорогой Сульпиций, оставалась дочь. Было где отдохнуть и преклонить голову. Беседуя с ней, я забывал горести и заботы…»
Он всхлипнул и продолжал шептать прерывистым старческим голосом. Вдруг лицо его сморщилось, но он овладел собою:
– «…до этого времени я находил в семье средство, чтобы забыть о несчастьях республики. Но что может предложить мне республика, чтобы я забыл о несчастьях семьи? Я должен избегать свой дом и форум, ибо дом не утешает меня в горестях, причиняемых республикой, а республика не может заполнить пустоту моего дома».
В этот вечер он задумал написать на смерть дочери сочинение, увековечивающее ее имя, и назвал его «De consolatione». [18]18
Об утешении.
[Закрыть]
Мысли Тирона были иные: «Настолько ли виноват Долабелла, чтобы порицать его за любовные увлечения? Он любит веселых девушек и женщин, а Туллия была сухая телом и душою; плоская, как рыба, некрасивая, начиненная философскими рассуждениями. Кому нужна такая жена? Наверно, она и любила по-философски, избегая телесного общения, а такая женщина – горе и несчастье для мужа. И не таким ли горем, несчастьем для Публилии был бы через некоторое время Цицерон? Импотентный старик, с дрожащими руками, расстроенным желудком и иными немощами. Как я рад, что он отказался от женитьбы на сестре Гиртия!»
– Напиши Аттику, – прервал Цицерон его размышления, – что я благодарю его за заботы о ребенке Туллии и частые посещения кормилицы. Пусть он уговорит Теренцию сделать завещание в мою пользу и запретит Публилии добиваться свидания со мною.
Тирон, не возражая, писал. Скорбная складка залегла у него между бровей, – он жалел господина, которого любил всем сердцем.
Дни и ночи работал Цицерон над сочинением «De finibus bonorum et malorum», [19]19
О пределах добра и зла.
[Закрыть]изредка отрываясь, чтобы заняться своей любимой «Academica». Стихи он отложил, решив возвратиться к ним, как только успокоится от волнений, ниспосланных судьбою. Обширная переписка с рабами и клиентами, с Аттиком и Квинтом была сведена к нескольким безотлагательным эпистолам.
– Сын мой, – говорил Цицерон, обнимая каждое утро и целуя любимого волноотпущенника, – прости, что я надоедаю тебе, глаза твои красны от непосильной работы, но труд, задуманный мною, должен быть завершен…
– Господин мой, – отвечал Тирон, целуя ему руку, – ты знаешь мою любовь, преданность и готовность помогать тебе…
– Да наградят тебя боги, Тирон! Когда я умру, ты отдохнешь…
Вольноотпущенник, скрывая слезы, опустил голову.
– Господин, я слабее тебя телом, – шепнул он, – и не тебе первому говорить о смерти…
Цицерон с грустью взглянул на него.
– Я устал жить, Тирон, очень устал… Нет никого у меня из близких, кроме тебя и Аттика… Но у Аттика свои дела, а ты всегда при мне…
– Ты забыл, господин, – упрекнул его вольноотпущенник, – что у тебя есть брат Квинт и сын Марк…
– Увы, сын мой, они не так любят меня, как ты…
Тирон вздохнул. Да, они мало любили оратора и писателя. Квинт, неудачно женившийся на Помпонии, сварливой сестре Аттика, находился под влиянием раба Стация, и это возмущало жену. Бешеные ссоры супругов кончались нередко взаимными оскорблениями, грязными намеками на власть раба над господином. Квинт готов был избить жену, но Стаций выпроваживал его из дому и нередко сопровождал в таберну «Галльский петух», где они пьянствовали в обществе гладиаторов и простибул до самого рассвета. И если Квинту мало было дела до знаменитого брата, то Марку еще меньше. С отроческого возраста он не любил риторики и не хотел учиться, а в Афинах, куда был послан к ритору Горгию, вместо учения посвящал время попойкам и празднествам. Фалернское и хиосское вина стали его страстью. Тирон упрекал его в лени и расточительности, но Марк писал эпистолы, в которых клялся, что уже исправился.
«При Фарсале он начальствовал над турмой всадников, – думал Тирон, – но что пользы в мече, когда голова пуста? Цезарь помиловал его, а что он будет делать? Уедет в Афины?»
Таковы были брат и сын Цицерона. И Тирон, думая о них, соглашался с оратором, что ближе всех для него – он, бывший verna.
Слыша кругом обвинения Цезаря, Цицерон молчал, думая:
«Его упрекают в том, что он дал свое имя сыну Клеопатры, учредил новую магистратуру – восемь городских префектов, стремится к царской власти, клевещет на Катона»…
Взглянул на лежавшего на столе «Анти-Катона»; книга, изданная Аттиком, недавно появилась на книжном рынке, и о ней говорил весь Рим. Цицерон не знал, как держать себя: восхвалять или порицать диктатора. Но так как похвалы легко кружили голову честолюбивого старика, а Цезарь восхвалял его, называя знаменитым оратором, то Цицерон кликнул Тирона и продиктовал ему благодарственную эпистолу к диктатору.
– Пошли ее через Бальба или Долабеллу, – шепнул он, – но помни – Аттик не должен знать об этом.
Тирон молча запечатывал письмо воском.
– Вчера, сын мой, прошел срок, данный мною Долабелле. Скажи, думает ли он возвратить приданое Туллии? Говоришь, он не вносит денег даже по частям? Негодный человек! Это он, он вогнал ее в гроб, а теперь препятствует воздвигнуть ей мавзолей!..
– Господин мой, когда я сказал ему об этом, он ответил: «Оратор может взять денег у ростовщика Аттика, своего друга».
Цицерон побагровел.
– К счастью, – продолжал Тирон, не замечая его гнева, – я могу обрадовать тебя: горячий почитатель твой Клювий завещал тебе богатое наследство. Возблагодари же богов, господин мой, за милость их и успокойся.
– Клювий умер? – вскричал оратор. – О благородный муж, мой благодетель, с сердцем, преисполненным любви и доброты! Я воздвигну тебе мавзолей, и каждый год буду чтить твою память и умолять Аида о милосердии к тебе!..
Взволнованно ходил по таблинуму. Мысли его приняли иное направление, когда взгляд упал на черновики эпистолы, написанной, но не посланной Цезарю.
Это было письмо, составленное под влиянием эпистолы Аристотеля к Александру Македонскому: Цицерон советовал Цезарю, по мнению великого философа, управлять народами Азии, как монарху, и Италией – как первому гражданину, соблюдающему республиканские учреждения.
– Что советует Аттик, по поводу этого письма? Следует ли послать его лысому?
– Аттик сказал, чтобы ты поговорил с Олпием и Бальбом…
Цицерон нахмурился.
– Зачем? Аттик против этой эпистолы?.. Ты не договариваешь чего-то, мой сын!
Тирон смущенно опустил голову.
– Да, Аттик против, – сказал он, – а так как он уверен, что Опиий и Бальб отсоветуют тебе посылать письмо, то…
– Понимаю! Лысый не потерпит советов старого дурака!.. Не поговорить ли мне с Требонием?
– С Требонием? – вскричал Тирон. – А разве ты не знаешь, что он принадлежит к правому крылу цезарьянцев, которые недовольны диктатором? Он завистлив, зол, считает себя обиженным, что другие осыпаны большими милостями, чем он, и, говорят, сблизился с аристократией, обвиняет Цезаря за аграрный закон…
– Все они обвиняют, боясь возвышения плебса! – махнул рукою Цицерон. – Но как сопоставить заботы диктатора о простом народе и уменьшение бесплатной выдачи хлеба беднякам? Получали хлеб триста двадцать тысяч, а теперь только сто пятьдесят тысяч…
Тирон молчал.
– Не понимаешь? – продолжал Цицерон. – А я понимаю. Это, сын мой, демагогия, и мы будем свидетелями еще не таких безбожных деяний!
XVI
Цезарь наступал на Кордубу во главе восьми легионов, имея против себя тринадцать легионов под начальствованием сыновей Помпея, старого Лабиена и Аттня Вара.
Страдая припадками падучей, уставший от длительной борьбы, плохо подготовленный к войне, он, кроме того, был удручен голодом в лагере, хмурыми лицами ветеранов. Несколько сгорбленный, с морщинистым лицом, он, появляясь перед легионами, брал себя в руки: глаза его весело сверкали, с губ срывались шутки и обещания высоких наград.
– Коллеги, – спрашивал он ветеранов, встречавших и провожавших его громкими криками «слава, слава», – разобьем помпеянцев? Могу надеяться на вас?
– Ты сказал, император! – гремели легионы, и морщины разглаживались на лице Цезаря, а в глазах появлялась прежняя уверенность в победе.
Эту ночь он провел в шатре, раздумывая над эпистолами, полученными от Оппия и Бальба: один сообщал о разводе Брута с дочерью Аппия Клавдия и женитьбе на красавице Порции, дочери Катона и вдове Бибула, другой – об увеличивающемся расколе в рядах цезарьянцев.
Оппий писал:
«Ты осыпал Брута милостями ради Сервилии (не гневайся, господин, за откровенность), но он – приверженец аристократии, которая тебе ненавистна, друг Цицерона и помпеянцев. Женитьба же на Порции не предвещает ничего хорошего, хотя Сервилия старалась расстроить этот брак. Берегись и не доверяй Бруту, который как будто к тебе расположен. Сегодня твой, завтра он может принять сторону врага. Помни: не может быть мира между цезарьянцем и помпеянцем!»
«Советы Цезарю! Зачем? Как будто предрешенное можно изменить!» – подумал он и взял эпистолу Бальба.
«В Риме только и слышно: «Что несет Цезарь отечеству – тиранию или свободу?» Одни горою стоят за тебя, другие – недовольны и колеблются. Антоний, с которым я виделся на днях, прославляет тебя, хотя ты отстранил его от государственных дел и не пожелал видеть. Он говорил, что друзья твои должны добиваться для тебя царской власти. Да, я согласен с ним, но сейчас не время: нужно выждать. Когда ты разобьешь помпеянцев и выйдешь победителем из парфянского похода, путь к монархии будет расчищен. Антоний говорит, что нужно провозгласить тебя после победоносной испанской войны… Возвращайся, господин, поскорее в Рим, иначе помпеянцы попытаются склонить на свою сторону недовольных из числа твоих сторонников, а тогда начнутся волнения в городе и битвы на форуме. Скажу откровенно – Лепид не Антоний: он не сумел бы подавить мятежа»…
– Трусы! – шепнул он. – Боятся мелких волнений, когда я не страшусь превосходства вражеских легионов и надеюсь раздавить их!..
Мысли были прерваны воем труб и топотом тяжелых калиг. Легионы строились перед Преторией и, не дожидаясь полководца, выходили на каменистую дорогу.
Цезарь смотрел с претории на уходившие войска. Ждал известий. Вскоре начальник разведчиков донес, что Гней Помпей, ожесточившийся под влиянием неудач, поклялся на военном совете победить или умереть.
– Он говорил, что у него осталось одно в жизни – это сыновний долг, и нет силы в мире, которая помешала бы ему отомстить за смерть отца…
Образ Помпея Великого возник перед глазами Цезаря: широкое мужественное лицо с седой гривой волос и горячими юношескими глазами раздваивалось, – выступало красивое лицо сына с орлиным носом, тонкими губами и черными волосами.
«Гней Помпей, орленок, посягающий на мощь и волю державного орла!» – подумал император.
А там старый Лабиен, и молодые – сын его и Секст… Что привело его, Цезаря, к смертельной борьбе с друзьями, во имя чего он попрал дружбу, родство и ввергнул республику в тягчайшие бедствия?
– Коня! – закричал он и через минуту мчался уже по дороге, приветствуемый легионами.
Вдали возвышались каменные стены горной крепости Мунда, а перед ней простиралась зеленая равнина, на которой строились войска помпеянцев.
Весь день шел яростный бой. Трудно было сломить дикую злобу и отчаянное мужество помпеянцев. Цезарь сражался в первом ряду, – его щит был пробит сотней копий и стрел. Лязг мечей и жужжание камней, стоны раненых, крики убиваемых – звуки привычные для его уха. Сражаясь, полководец ободрял воинов. Издали видел старого Лабиена и Гнея Помпея, руководивших битвой.
Наступал вечер, а судьба боя оставалась нерешенной. Была минута, страшная, как лезвие меча, направленное в грудь: ветераны дрогнули, смешались. Цезарь едва не был разбит и приготовился броситься на меч.
Взял себя в руки.
– Вперед, коллеги! – закричал он. – Они не устоят перед нами!
Оставив поле, послал приказание Богуду обрушиться всеми силами мавританской конницы на правое крыло помпеянцев и ударить им в тыл.
Смотрел – Лабиен отводит когорты – и вдруг, вскочив на коня, вздумал обмануть воинов, смутить неприятеля.
– Бегут, бегут! – закричал он и помчался в гущу боя.
Ветераны подхватили его крик и ударили одновременно с конницей Богуда.
Замешательство охватило помпеянцев. Бежали воины, трибуны и вожди вражеских легионов. Битва сменилась бойней. Лабиен и Вар погибли, сражаясь рядом.
Гней Помпей, тяжело раненный, ползком пробирался к лесу с несколькими друзьями. В сумерках они натыкались на кучи трупов, пачкали одежду и руки в крови.
Гней думал: «Притаиться, бежать, продолжать борьбу… Тень отца требует мести. Кто убьет тирана? Кто освободит Рим от его владычества?»
В лесу они укрылись в пещере. Усталые, голодные, они спали на сырой земле, сжимая мечи. Шум голосов и ржание лошадей разбудили их.
В пещеру ворвались ветераны. Смертельная схватка происходила при свете единственного факела.
Гнем хотел броситься на меч, но не мог подняться: в боку сочилась рана, и каждое движение вызывало нестерпимую боль.
Друзья были перебиты, только жив еще он один, сын Помпея Великого!
Узнав Гнея, ветераны с яростью набросились на него: кололи копьями рубили мечами, хотя он давно уже перестал стонать.
Сообщая в Рим о победах, Цезарь писал:
«При Мунде убито тридцать три тысячи помпеянцев; остальные бежали. В Мунде заперлось четырнадцать тысяч, осадить которые был приказано легату Фабию Максиму; нагромоздив валы из трупов, легат ворвался в город, – помпеянцы пали с оружием в руках. А двадцать тысяч, укрывшихся в Кордубе, я истребил… Старый Лабиен, Аттий Вар и Гнен Помпей погибли, а на север бежали молодой Квинт Лабиен и Секст Помпей. Но они не опасны, поскольку молоды и не блещут военными дарованиями. В Испании я должен основать несколько колоний для воинов, получивших отставку, в первую очередь – в Гипсале, Тарраконе и Новом Карфагене; затем отправлюсь в Нарбоннскую Галлию для раздачи земель ветеранам: воинам X легиона – в окрестностях Нарбонны, а VI – неподалеку от Арелата.
Заселение Галлии Трансальпийской и земель Массалии, Нарбонны, начатое мною в прошлом году, продолжается; основан ряд городов. А в Испании, Африке и Элладе заложу новые города и воздвигну из грузов Коринф и Карфаген. Подобно тому, как Сулла романизировал Италию, я совершу то же в отношении провинций».
Но Оппий и Бальб усиленно звали его в Рим.
«Да, я там нужен, – думал Цезарь, – необходимы хотя бы временные уступки аристократам, дарование прав провинциалам, десятки новых законов, сотни постановлений. Проводя их в жизнь, буду готовиться к парфянскому походу».
Мелькали дни, проходили недели. Наконец он написал в Рим о скором своем возвращении.
XVII
– Гражданская война кончена битвой при Мунде, – говорили Оппий и Бальб и, восхваляя Цезаря, предложили вотировать ему новые почести.
Мужи, преданные диктатору, обсуждали с Оппием и Бальбом, какие почести преподнести Цезарю.
– Я думаю, – сказал Оппий, – что следовало бы даровать ему наследственный титул императора, право назначать консулов на десять лет и предлагать кандидатов в эдилы и народные трибуны.
– Хорошо, – согласился Бальб, слыша рукоплескания и одобрительный говор цезарьянцев, – но я хочу предложить, чтобы все магистраты отправились навстречу диктатору и сопровождали его в столицу…
Предложение было принято.
– Друзья, – нерешительно сказал Лепид, оправляя на себе тогу и избегая смотреть на цезарьянцев, – здесь собрались не все сторонники диктатора… Говорят, есть недовольные, которые утверждают вместе с нобилями, что поскольку гражданская война кончена, диктатура больше не нужна. Но так ли это? Уничтожить диктатуру значит дать повод к новым волнениям: разве мало осталось помпеянцев, которые, прикрываясь приверженностью к новой власти, возбуждают народ такими речами: «Будет ли Цезарь управлять как тиран или дарует отечеству свободу?» И я спрашиваю всех, независимо от того, довольны они или нет: согласны ли вы с предложениями Оппия и Бальба?
– Согласны, согласны!
– А если согласны, – заключил Лепид, – пора готовиться к встрече победителя!
Цезарьянцы отправлялись в Цизальпинскую Галлию. Кроме Оппия и Бальба, были здесь сенаторы, выдающиеся магистраты, мрачный Требоний, недовольный диктатурой Цезаря, Брут, обеспокоенный своим браком с Порцией, даже Антоний, решивший испросить прощение.
Цезарь был ласков со всеми: обнял Требоння, похвачил Брута за управление провинцией, пригласил Антония занять место в лектике, рядом с собою.
Прибыв в Рим, он тотчас же сделал уступки аристократам, отменил должность городских префектов, сложил с себя единоличный консулат, созвал комиции, назначил обычных магистратов и предложил выбрать консулами Фабия Максима и Требония.
Общество успокоилось.
После испанского триумфа Цезарь почувствовал себя плохо: припадки падучей усилились, к ним прибавились частые недомогания, но об отдыхе он не думал, – мысль о Парфии не давала покоя.
Пока шли приготовления к походу, он провел закон об иностранных колониях. Это было возобновление закона Гая Гракха, и набор колонистов производился из числа воинов, бедных квиритов и вольноотпущенников.
После переселения восьмидесяти тысяч человек, начались частые заседания в курии Помпея под председательством Цезаря, и каждый день приносил изумленному Риму новые постановления.
– Отвести течение Тибра, осушить понтинские болота, – говорил диктатор, – углубить реку на всем протяжении, чтобы в Тибр могли далеко входить морские суда… Марсово поле перенести к подножию Ватиканского холма, а освободившееся место застроить красивыми зданиями… Провести дорогу через Албанскую гору, а в Остии соорудить большую гавань, для чего призвать на работы пролетариев и предпринимателей… Прорыть коринфский перешеек… Поручить Варрону основать в Риме библиотеки… Собрать все законы в один свод… Все эти постановления мы проведем в жизнь, когда у нас будут средства, а деньги получим, завоевав Парфию, отомстив за смерть Красса Богатого, доблестного триумвира, изменнически убитого со своим молодым сыном…
Антоний страстно поддерживал Цезаря:
– Без завоевания Парфии немыслимо благосостояние государства, – говорил он в сенате, – и диктатор прав, готовясь к этому походу. Слышали ли вы, отцы государства, о задуманных императором мероприятиях? Пусть нобили насмехаются над ними, как насмехались над исправлением календаря, – мы прощаем дуракам их природную глупость. Пусть замолчат враги, утверждающие, что продажа имений погибших помпеянцев подобна разбою! Для ведения парфянской войны нужны крупные средства, и мы займемся продажей общественных и храмовых земель… И если некоторые лица купили виллы за бесценок, то это их счастье, и постыдно обвинять в беззакониях военных трибунов, центурионов и вольноотпущенников!
Сенаторы молчали.
– А почему вместо того, чтобы злословить, никто не говорит о романизации? Население Гадеса и транспаданцы получили права гражданства, латинское право получал ряд галльских городов, получила и Утика… Разве это несправедливо? Довольно оптиматам сечь провинциалов фасциями! Пора отказаться от диких нравов – ведь мы не варвары! Вот, отцы государства, права, полученные провинциалами при единодержавии Цезаря, и неудивительно, что эти люди восхваляют его! А мы? За что мы должны благодарить императора и диктатора, нашего отца и героя? Всюду латинский язык стал государственным, а муниципальный закон, основа управления италийскими городами, утвержден народом; монета чеканится опытными египетскими рабами, и на общественные должности допущены рабы и вольноотпущенники… Врачи и преподаватели свободных искусств получили права гражданства, долговые обязательства изменены: теперь оценка имений производится согласно стоимости до гражданской войны, и если заимодавцы теряют четвертую часть ссуды, то это на пользу нуждающимся. Усилена кара за убийства: богачи лишаются всего имущества и отправляются в изгнание, а прочие – только половины имущества. Приказано скотоводам набирать треть пастухов из свободных граждан; в колониях расселено восемьдесят тысяч человек; детям простолюдинов разрешено добиваться магистратур. Знаю, нобилям всё это не нравится, но не нужно забывать, что римлян осталось немного – они смешались с различными народностями… Даже на улицах видишь больше чужеземцев, чем римлян! Так почему же вы, недовольные, мешаете Цезарю работать? Может быть, вы – помпеянцы? А если это так, то не мечтаете ли отомстить за Помпея? Напрасный труд! Сами боги помогали императору победить триумвира, который поддерживал аристократию, а потом бесславно погиб в Египте!
Цезарь слушал с удовольствием речь Антония.
– Он стремится к царской власти! – крикнул кто-то. Наступила тишина. Антоний взглянул на бледное лицо императора.
– Не первый раз слышу я эти лживые наветы врагов, злодеев и завистников, – сказал Цезарь, – и только первый раз могу возразить, – войны, государственные дела и общественная деятельность мешали мне оправдаться. Теперь, когда республика существует только по имени, как во времена Суллы, только глупый муж осмелился бы сложить с себя диктатуру и подвергнуть отечество опасности. Меня обвиняют в стремлении к царской власти. Если бы это было так, то как поступил бы я с невольниками, вольноотпущенниками и плебеями? Даровал бы права гражданства провинциалам? Конечно, нет! Я утвердил бы господство олигархов, подчинив их своей власти! Поэтому, квириты, утверждение, что я стремлюсь к царской власти, ложно, и хотя я усыновил Гая Октавия, племянника моей сестры, то вовсе не потому, что, не имея сына, желаю сделать его своим наследником с титулом императора, а просто оттого, что нужно же кому-нибудь передать, в случае смерти, свои незаконченные дела! И преемник мой будет так же, как и я, трудиться для блага отечества.
Долабелла тронул его за плечо.
– Не волнуйся, император! Какое имеет право эта толпа спрашивать у тебя отчета?
Выйдя из курии, Цезарь остановился:
– Вернись в курию, – сказал он Долабелле, – и шепни Антонию и Лепиду, чтоб они зашли ко мне. Приходи и ты с ними…
В таблинуме Цезарь растянулся на ложе и, полузакрыв глаза, отдыхал. Старался ни о чем не думать, как предписал врач, но мысли назойливо лезли. Он думал о том, что в Аполлонию послан Гай Октавий во главе шестнадцати легионов и с ним поехал Агриппа, что в Деметриаде склады полны оружия, что нищая молодежь, жаждая обогатиться в Парфии, поступает в легионы в качестве волунтариев и что денег собрано еще мало…
Все его мысли, распоряжения, государственные средства, – всё было сосредоточено на этом деле, которое, в случае успеха (а он ни на мгновение не сомневался в нем), дало бы ему неограниченную власть не только над провинциями, но и над всей Италией, власть, которой он добивался с упорством, к которой шел всю жизнь и для достижения которой положил немало трудов, хитрости, обмана и холодного коварства.
Однако власти диктатора оказалось мало: власть, лелеемая им, была монархия, но магистраты и римский народ приходили в ужас при мысли, что могут повториться страшные дни Суллы, а воспоминания, передававшиеся из рода в род, о римских царях пестрели пятнами крови, неслыханными насилиями.
Парфянский поход стал его целью, а следствием должна была быть корона. Это понимали все сенаторы, и на бледном лице Кассия при встрече с Цезарем или Брутом мелькало недоумение: «Неужели Цезарь будет царем?»
Пришли Антоний и Лепид. Не торопясь, беседовал с ними о парфянском походе, хотя знал, что в прихожей толпятся знатнейшие мужи республики, ожидая часами его выхода, как царя…
Антоний и Лепид встали почти одновременно. Целуя руку Цезаря, Лепид сказал:
– Так не забудь же, умоляю тебя богами, великий Цезарь, прибыть ко мне на пиршество…
Цезарь кивнул и, взглянув на Антония, преданно смотревшего на него, улыбнулся:
– Что скажешь еще, друг? В твоих глазах я вижу радость…
– Я, Цезарь, радуюсь, что живу с тобой в одно время и могу служить тебе не только как преданный слуга, но как друг, коллега и советник! Правда, я не обладаю столь светлым и проникновенным умом, как ты, но ты, вероятно, не забыл, что в боевых действиях в Галлии я был твоим прилежным учеником…
– Я ценю тебя, Антоний, люблю и уважаю. И тебя также, Лепид! Надеюсь на вашу дружбу и помощь в военных и государственных делах.
Оба, преклонив колени, говорили:
– Ты, Цезарь, должен быть царем, и мы поможем тебе сломить упорство завистников, старых ослов и притаившихся помпеянцев!..