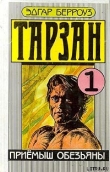Текст книги "Приёмыш (СИ)"
Автор книги: Михаил Шелест
Жанры:
Прочая фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц)
Пацан уважительно посмотрел на Ивана.
– Я тебе приблизительную стоимость дня через три скажу.
Эту «игрушку» «пацаны» сделали через полгода. Иван много раз тестировал её и отправлял на доработку. В итоге он, кривясь, всё же забрал её, выплатив половину договоренной суммы, с условием доработки программы.
«Пацаны» не возражали, понимая справедливость Ивановых претензий. Иван заплатил им пока двести тысяч долларов, предупредив их, что доллары «палёные» и их надо спрятать. Пацан усмехнувшись сказал:
– А крипта на что? Не сцы! Чо, криминал?
Иван показал заметку в газете «Вашингтон Пост» об ограблении банка, и награде ограбившему в размере ещё одного миллиона, а потом другую заметку, где говорилось, что банк снова вызывает похитителя на соревнование и кладёт в то же самое хранилище уже два миллиона.
– Фига себе... – Пацан с нескрываемым восхищением смотрел на Ивана. – И это всё – ты?
– Псих, что ли?! Да ты на меня посмотри и на мои руки. Я только что-нибудь сломать могу, а тут... люди творческие работали. Мне они так же, как и к тебе, за работу проплатили, но меня предупредили, что эти номера на контроле у всех банков. Поэтому, чтобы не таскали нас... я тебя и предупреждаю.
– Вот это люди! Там же сколько всего обойти надо... – Выдохнул восхищённо «пацан» и покачал головой.
– Расти над собой, и у тебя, быть может получится. Вот мне программулину долепите...
* * *
«Программулина» уже и сейчас работала неплохо. Глобус вертелся, зум был приличный. Точки городов – становились активными и на изменение параметров реагировали. К количеству жителей сразу привязывались их плановые минимальные потребности, коррелирующие с фактическим их наличием и чувством удовлетворённости, или, как сейчас, в Ивановом времени, стало модным говорить, – «комфорта».
Отмотав временной ползунок на 972 и заведя все «новые» параметры к существующим на карте мира, Иван увидел, как тревожно замигали оранжевым все приграничные территории. А западные границы засветились красным.
Вооружённые конфликты назревали со всех сторон, потому Иван и решился напасть первым.
* * *
То, что Гамбург русские войска возьмут, не вызывало сомнения, но как возьмут? Тактика с военно-начальниками была отработана на макете, Правда, Иван отрабатывал взятие города с каждым из них по-отдельности.
Шестидесяти километровый марш конных по асфальтовой дороге уложился в сутки неспешного шага. Тележный обоз с осадной техникой и приспособлениями подтягивался ещё сутки.
Накону предстояло атаковать левую часть города, а Харальду правую. Крепость, – стена высотой около четырёх метров, стояла полуразрушенная, но в руинах угадывалась ловушка. Там их ждали – однозначно. Обычно, даже во время осады, вокруг стенного пролома ставили баррикады, и нападающие попадали в «котёл». На это Иван не раз указывал Харальду, и у того был свой план на атаку.
У Харальда были луки и арбалеты. Иван от вооружения своих войск современными ему луками и арбалетами не удержался.
С десяток арбалетчиков Харальда и Накона имели «Акульи Скорпионы». Иван даже оптику с них не стал снимать, махнув рукой. Его народ уже привыкал к чудесам и мало чему удивлялся. Все остальные имели классические луки, но сделанные идеально. Сейчас у них имелась возможность попрактиковаться в стрельбе на точность и дальность.
* * *
Переправившись на правый берег Альстера, обвязав вокруг себя верёвки с надутыми бычьими пузырями, тяжелая Наконовская разведка наткнулась на засаду, но выскочившие, как им казалось, неожиданно, воины Биллунга, попали под обстрел лучников, укрывшихся за телегами на противоположном берегу. Засада отступила, оставив пять человек убитыми.
Выдвинувшись вперёд и заняв оборону, авангард выслал разведку и дал сигнал к переправке остальных. На телегах закрепили вязанки сухого хвороста, уложили на них луки в кожаных чехлах, и обоз с арьергардом форсировали реку.
Альстер – река неширокая, всего до 30 метров шириной, но и в этом месте не мелкая.
Можно было бы найти переправу и помельче, но, во-первых сюда выходила построенная дорога, а во-вторых, Иван отрабатывал и закреплял наработанные воинами навыки.
Такая тактика была излишеством, но Иван требовал строго следовать установленным им правилам.
Переправившись, войско двинулось далее, а саперная команда осталась возводить мост.
Не доходя до городской стены трёхсот метров, выставили телеги в качестве преграды от конных всадников и привязали к ним лошадей. Телег было не так много, поэтому между ним установили «триколья», связанные крест-накрест три кола, заточенные с обеих концов. Установив лагерь, разослали разведчиков.
Командир арбалетчиков подошёл к Ивану.
– Яролик, разведка проведена. Есть три удачных выстрела из пяти. Дистанция уверенного прицельного выстрела – двести шагов, критическая дистанция – сто восемьдесят шагов. Работаем?
– Работайте.
Арбалетчики выдвинули деревянные щиты на дистанцию двести шагов и со специальных упоров стали отстреливать защитников крепости. Обстрел вели пятёрками, время от времени посылая одного-двух смельчаков в тяжёлом снаряжении, но обороняющиеся тоже выставили щиты, и стали стрелять из-за них.
Тогда арбалетчики Накона стали использовать болты с зажигательно-разрывными наконечниками. Оказалось, что продаются в Ивановом времени и такие. Ничего придумывать, вроде, было не надо, однако Иван немного доработал болты, снарядив их своим боеприпасом.
Эффект был ожидаемым, так как болты пристреливались и испытывались неоднократно.
Щит разорвало, явно покалечив и напугав, стоящих за ним лучников.
Тем временем штурмовики собрали деревянную защиту, в виде длинной коробочки с плоской крышей на колёсах, и покатили её к воротам крепости. Подкатив ко рву, они выдвинули из-под «крыши» одну за другой несколько деревянных балок, закрепили их концы на том крае рва, поставили на них колёса «домика» и подкатили его к самим воротам.
Послышался звук первого удара тарана в ворота и радостный рёв десантников, оставшихся в лагере.
Таран бил сильно и равномерно. На его крышу вылили смолу, но это не напугало нападающих. Подкатилась вторая «крыша» со штурмовиками и через некоторое время ворота дрогнули. Послышался треск.
Но вдруг, крыша первого «домика» подняла свой дальний от ворот край, встала вертикально и упала на стену крепости, превратившись в лестницу или трап, по которому побежали штурмовики.
Защитники, не ожидавшие такого хода событий, скопились внизу перед готовыми пасть воротами. На стенах завязалась схватка. У защитников города не было латников, а штурмовики Накона таковыми были, поэтому вскоре защитники крепости отступили со стен.
На освободившиеся стены взошли все остальные воины Накона. Арбалетчики отстреливали защищающихся успешно. Сдававшихся защитников или раненых не убивали.
Воины Накона не развивали свой успех, а закрепились на стенах. Вскоре на улицах города появились воины Харальда, их было легко узнать по стальной броне. Это должна была быть победа Харальда, и Након не стал у него её отбирать.
Иван оставался в лагере под охраной десятка воинов, наблюдал и ждал. Как должна была сработать его «лестница» он знал, но опасался механической поломки. Такое часто бывает. На тренировке всё работает, а в боевых условиях, что-то вдруг клинит.
Лестница работала по принципу качелей. Высота "домика на колёсах была три метра. Вот на таком расстоянии от ближнего к воротам края и был установлен шарнир. Всего длинна «крыши-лестницы» была, в данном случае, восемь метров. Перевес длинного плеча компенсировали грузами, поэтому лестница перевернулась сама, едва её сняли с удерживателей.
Иван таких конструкций штурмовых сооружений нигде в исторических описаниях не встречал. Это было его личное изобретение. И оно неплохо себя показало в боевых условиях.
Опустили «лестницу-крышу» таранного «домика», откатили его назад и опустили треснутый городской мост. Открыли деревянные городские ворота. В воротах появился Харальд и поскакал к Ивану. Подъехав, Харальд, сошёл с коня и торжественно бросил к ногам Ивана герб, сорванный с ворот дома князя Биллунга.
– Город пал, Яролик, но Биллунги ушли, – сказал Харальд с сожалением.
– Поздравляю тебя, король. Этот город твой по праву. Бог с ними с Биллунгами. Хотя... Мои разведчики поймали их.
– Это приятная новость. Спасибо, Яролик.
– Я бы посоветовал тебе не казнить их, а отвезти в Данию и закрыть в крепости. Может сгодятся еще для чего. Казнить всегда успеешь. Зато, молва, о том что ты пленил самого Биллунга, будет долго бодрить умы других германских князей. Кто-то попробует их освободить, и у тебя появится возможность пленить и их.
– Ха-ха! – Вскричал Харальд. – Ты, Яролик, как всегда прав! Я построю большую крепость для пленников, но не в Дании, а здесь. Зачем далеко ходить?
– А я тебе в этом помогу.
* * *
Захватив Гамбург, Харальд стал насыщать регион нордами и постепенно смещаться на юг. «Де-юре», не входивший в Империю Руссов, Харальд имел право захватывать земли вооружённым путём. Что он и делал, де-факто перемещая границу Империи значительно южнее Лабы.
Продвижение на юг ограничивалось только логистическими возможностями Харальда. Иван в это не вмешивался. Пассионарность викингов требовала реализации и энергетического выброса, чтобы не разорвать молодое королевство изнутри.
Вождей, жаждавших создать и укрепить свой клан, Харальд ставил во главе отвоёванных территорий с ограничением их прав по захвату соседей.
Вождей, жаждавших славы, Харальд ставил во главе передовых отрядов, но требовал строгого выполнения тактических схем.
* * *
– Позволь вопрос, Яролик? – Спросил Након Тихомир.
– Спрашивай.
– При первой нашей встрече... Ты сказывал про себя... про твою родню... А оказалось, – ты бог.
– Ты хочешь узнать, лгал ли я? Законный вопрос.
Иван помолчал. Он давно ждал этого вопроса. Они сидели в доме Ивана в Гамбурге, построенном за три года до нынешнего захвата города Харальдом. Тогда, он, подкупив старшего Биллунга, получил письменное разрешение на строительство торгового российского гостиного двора, склада и лавки. Биллунг так и не понял, где находится страна Россия, но разрешение дал. Слишком уж солидный куш предложил ему Иван.
А Иван, грузил купленные здесь товары, в основном зерно, и доставлял по реке до построенных им каналов, а по ним на баржах в Любец, Висмар и Росток.
Сейчас они с Тихомиром сидели в уютной гостиной и пили кофе, обслуживаемые молчаливым малым, почти «ивановой» комплекции из Иванового мира, исполнявшего роль управляющего во время Иванова отсутствия, а отсутствовал Иван постоянно.
– Ты видишь, Тихомир, сколько у меня обличий. Мне сложно сказать, что есть правда, а что – ложь. Главное, что я дал тебе право выбора, и ты выбрал меня, не в обличии бога, а в облике человека. И это говорит о глубине и чистоте твоей души.
– Ну... Не особо то она была и чиста тогда, – рассмеялся князь. – Мне понравилась твоя сила и уверенность в себе, и я подумал, а вдруг у него получится «забороть» руян.
– Но, ты же не юлил?! Не лгал, а сказал правду, что там могут, и скорее всего, убьют.
– Так, то, оно так... Но, кто же знал тогда... что так всё обернётся.
– Ты сожалеешь?
– Что, ты, Яролик! – Воскликнул Тихомир. – Я благодарю в ежедневных молитвах всех богов, которых знаю, за то, что они привели тебя именно ко мне.
– Ты будешь смеяться, Тихомир, но и я тоже, – тихо сказал Иван, посмотрев князю в глаза. – И я ведь не обманул тебя. С Рюгеном ты замирился.
– Это, да... – Засмеялся Након Тихомир.
* * *
Рюген шёл в рост. После уравновешивания храма Арконы храмом Христа через культ Яролика, на Рюгене установилась конфессиональная идиллия. Иван сам часто читал проповеди, то в одном, то в другом храме, устраивая там «чудеса», и общество стабилизировалось.
Людей на Рюгене было много, и Иван посоветовал князю Вислову переселить часть вверх по реке Рада , предварительно укрепив берега крепостями. И вообще, с острова постепенно переселяться, оставив там крепостные гарнизоны.
Доминирование острова Рюгена на Балтике заканчивалось, их ресурсов уже не хватало, и, если бы не вмешательство Ивана в историю, закончилось бы для руян плачевно. Но опыт и навыки кораблестроения руян Иван развил, построив вместе с ними судостроительную верфь в устье Одера, заложив город Щёки.
При закладке какого-нибудь города, Иван отправлял в прошлое строителей, которые строили самое необходимое: валили лес, готовили брёвна, пробивали мелиоративные каналы, прокладывали трубы для стоков, дороги.
Денег на зарплату строителем Ивану катастрофически не хватало. Да и они все вдруг забастовали. Денег у них было теперь... что у дурака махорки, ведь вкалывали они ударными методами в этом мире не один год. А теперь все сказали: «Баста»! Деньги больше не нужны! Отдыхаем". Хотя, в их мире они, «всего-то», потеряли месяц, от силы.
Иван с усмешкой представлял их удивлённых жён, которые, не видя мужей дома всего месяц, вдруг встречают их со ста миллионами рублей.
Так как «тех» денег на зарплату «тем» строителям у Ивана не хватало, он стал планировать стройки заранее и нанимать строителей в этом мире. Для этого мира у него и серебра и золота было, пока, достаточно.
* * *
Всё чаще он позволял себе жить своей прежней жизнью. Ходить в свою мастерскую, заниматься мототехникой, гонять на своём байке с девчонками. Но он всё время помнил и думал о своём хозяйстве, об оставленных им в прошлом людях, о своих женщинах и детях, наконец, коих у него было уже около сотни только в Ростоке.
Программулина пищала и светилась то оранжевым, то красным. Зелёного на карте мира не было нигде, кроме Ростока. Пока Иван, взяв передышку для приведения своих мыслей в порядок, отдыхал в «настоящем», произошло нечто, снова перевернувшее его дальнейшую жизнь.
* * *
– Здравствуйте Иван, – сказали у него за спиной.
Иван, доведя сварочный шов до конца, прервался, откинул маску и оглянулся.
Рядом стоял молодой человек в джинсах и кожаной куртке-косухе.
– Привет. Извини, но я пока не беру заказы. Отпуск у меня.
– Я не по поводу техники. Вернее, не по мотоциклетной.
– А по какой? – Почему-то предчувствуя беду, спросил Иван.
– Мне нужен флибер.
– Что такое – «флибер»?
Парень усмехнулся.
– Это вот такая штука...
Он достал из кармана маленькую копию «агрегата времени», помещавшуюся у него на ладони.
– Что это? – Совершенно машинально спросил Иван.
– Ты не знаешь? – Удивился парень. – А он показывает, что «флиб» здесь. Вернее, вон за той дверью.
– А... – поскучнел Иван и как-то сразу обмяк.
Он снял перчатки, маску, положил сварочный «держак».
– Я... Тут... – У него не находилось слов, и на глаза вдруг навернулись слёзы.
– Ты что, парень?! Брось. Втянулся? Долго там был?
– Так, это... лет двадцать...
– Ух ты! А мы с ног сбились. Ищем-ищем... Псих один унёс... ну, да тебе это знать ни к чему. Пошли, отдашь тихо мирно, и всё...
– А ты кто? Откуда?
– Оттуда, – парень ткнул пальцем вперёд, куда-то за Ивана. Иван непроизвольно оглянулся.
Парень засмеялся:
– Из будущего. Из очень далёкого.
Иван вздохнул. Для него вдруг весь его мир, такой огромный и рельефный, стал плоским и сократился до этой мастерской.
– Пошли, не жмись! Отдавай похищенное.
– Я его не хитил, – огрызнулся Иван.
– Присвоил... Какая разница? Отдавай вещь, – нетерпеливо потребовал парень.
Иван подошёл к двери коморки, открыл её и увидел лежащий на столе его «агрегат».
– А ты точно, право имеешь? А то, кто другой за ним придёт...
– Не дури. Если кто придёт, значит он опоздал.
– В смысле? – Спросил Иван.
– У нас премию назначили, тому кто найдёт. Это же – подучётная техника.
Иван, уже подошедший к агрегату, вдруг остановился.
– Так я уже, вроде нашёл...
– Не дури, – повторил угрожающе парень, – Это я нашёл.
– Да нет, это я нашел. Я же в нём разобрался и определил, что это за штука, значит я ЕГО нашёл. Не какую-то хрень непонятную, а «флибер».
– Да ты и не понял-то про него ничего толком. Отдавай его мне, а то...
– Что? – Вдруг резко осмелев, спросил Иван. Он почувствовал едва заметную неуверенность в голосе гостя и повторил: – Что тогда?
Иван вдруг почувствовал, что «флибер» не хочет от него уходить. Сам не хочет.
– Ты знаешь, не хочу тебя расстраивать, но он к тебе не пойдёт, – сказал уверенно Иван.
– Как это? Ты не можешь им управлять. Ты же, – психокинетический ноль.
– Не знаю. Хочешь, попробуй, но, почему-то, я тебе не завидую, если ты к нему подойдёшь ближе чем на шаг.
Парень отшатнулся от двери.
– Закшель! – Непонятно выругался он и исчез.
* * *
Иван стоял возле стола и совсем другими глазами смотрел на «агрегат», который сейчас воспринимался совсем не как агрегат. Лежащий на столе, без подключенных проводов, «агрегат» ощущался Иваном, как живое существо.
– Ну и что же нам с тобой сейчас делать? – Спросил он его.
На столе вдруг появился... шар-не-шар... Какая-то хрень, по диаметру подходящая к тому месту, куда Иван пихал провода.
Иван взял её в руки и увидел выдвинувшийся центральный штырь, который он и вставил в «маму» на «агрегате». «Хрень» присосалась к «агрегату», крутанулась вокруг его оси. Нашла своё положение, «цикнула», вероятно вставив и остальные контакты в положенные им отверстия, и... всё.
Больше ничего не произошло, только, Иван почувствовал не только «агрегат», но и все точки во времени и пространстве, где он когда-то побывал. И не только почувствовал...
Закрыв глаза, он сейчас видел Росток. Видел и слышал Гостомысла, объяснявшего мужичку, куда складывать товар, подготавливаемый к перевозке на барже. Сдвинув взгляд, Иван увидел пробегавшего мимо Саньку или Ваньку, одного из его тройняшек, пинавшего по улице мяч – обшитый кожей бычий пузырь.
Переключившись на Любец, Иван увидел и его. Во всех подробностях и в любых ракурсах.
– Гав! – Отвлёк от созерцания Приёмыш.
Иван открыл глаза и, проморгавшись, увидел псёнка в дверях.
– Вот, дружок, у нас в семье ещё пополнение. Ещё один приёмыш.
* * *
Иван, заперевший ворота бокса и включившийся в «агрегат», на какое-то время перестал понимать, где он, кто он? Находясь одновременно и здесь в боксе, и во всей вселенной сразу, Иван растворился во времени и пространстве.
Он слышал симфонию звёзд, он познавал их историю, историю их цивилизаций. Он плыл и плыл фотонами от галактики к галактике. Плыл долго, почти вечность. И это ему нравилось. Вдруг его кто-то укусил за ногу.
И он снова из фотонов превратился в Ивана, раскрыл глаза и услышал:
– Тяф! Тяф!
– Фу, ты! Спасибо Прима... А ты, обратился он к Флиберу, больше так не делай. Я живу здесь и сейчас, а блуждаю по пространству и времени, только по необходимости. Договорились? О!
– Договорились, – услышал он отклик Флибера.
После заданных Флиберу вопросов, и полученных от него ответов, Иван понял, что ничего не понял. Флибер одновременно был и материальным, и не материальным.
Продемонстрировал свою материальность Флибер простым образом. Он вылетел из каморки в бокс и вырос метров на пять. После этого открыл в себе дверь и попросил Ивана в неё войти.
Вошедший во Флибер Иван ограниченности пространства внутри не обнаружил. Во-первых, Иван находился в помещении с колеблющимися «стенами» и с несколькими креслами, во-вторых, в этом помещении было еще несколько дверей. Иван приоткрыл одну, увидел что-то не обычное, что описать бы не смог, и закрыл её. Открыл вторую, увидел большое помещение с чем-то движущимся внутри, и тоже закрыл. Да и в этом помещении, в котором находился Иван, тоже что-то всё время перетекало с места на место, прямо через него, сквозь Ивана. Ощущение того, что он находится внутри банки с желе, не проходило.
Поначалу Иван замирал и задерживал дыхание, но потом пообвык.
– Это – твой мир, – сказал Флибер. – И ты можешь сделать его таким, каким захочешь.
– А где это?
– Это – только твоё место и время. И вся материя здесь, и энергия, – только твои. Здесь ты Бог. Ты же хотел этого?
– Я?! – Удивился Иван. – Не хотел я! Так... там... само получилось.
– А здесь всё будет по-настоящему. Ты можешь перенести сюда тот мир и править им здесь.
– Да не хочу я править, – возмутился Иван. – Хочу, чтобы они сами жить научились и жили по-своему.
– По-своему, значит: вражда, кровь, голод, болезни и смерть. А здесь будет идеальный мир. По твоим законами и правилам. Ты ведь не давал им жить по-своему.
– Не, Флибер, я тут строить ничего не хочу. Я не бог, я – кузнец. Я сам жить хочу, своей жизнью. Что-то я, действительно, заигрался в «прогрессорство».
– Мне нравится, что ты это понимаешь, – сказал Флибер. – Всё учесть и создать идеальный мир не получилось ни у одного «бога».
– И многих ты знавал? – Спросил Иван.
– Знавал, некоторых, – уклончиво сказал Флибер
– И что мне сейчас делать?
– Где?
– Там.
– А что тут думать? Если тебе интересно, продолжай играться. Ты же сам говоришь, что ты хочешь жить. Живи. А я тебе помогу. Я многое могу. В этом мире, почти всё.
– А ты живой?
– И да, и нет. Я и есть, и меня нет. Я здесь, и не здесь. Я везде, и нигде.
– Ты «тенью скользишь по прозрачной воде» ? – Продолжил стихи Иван, настораживаясь.
– Нет, что-ты... Всё гораздо прозаичней, – засмеялся Флибер. – Я плод труда многих учёных и специалистов далёкого вашего будущего. Тебе, кстати, причитается большая премия, за то, что ты не дал мне погибнуть.
– Как так?
– Без источника питания, мы быстро умираем. Разрушаются нейронные связи. Похититель отключил мой источник питания, чтобы его по нему не обнаружили во времени, подключив свой, но во время перемещения отключил меня, забрав его с собой. Чтобы его не нашли во времени. Но его не особо и искали. Хочет жить в древних веках, пусть живёт. Тоже историю изменить хотел.
Иван почему-то покраснел.
– Да ты не смущайся. Не ты первый, не ты последний. Это натура человеческая такая, напортачить, а потом менять. В ваше время, переписывая книги, а в наше время – переписывая прошлое.
– Ну и как, получается?
– Что?
– Историю изменить?
– Если не вести историю от начала и до конца, ничего не получится. Но у какого же человека терпения хватит, прожить две или три тысячи лет, чётко придерживаясь одной линии и выстраивая историю всего мира. Потратить свою жизнь на других людей?
– А что можно прожить две тысячи лет?
– Можно, конечно, но как прожить? Переписывая чужие книги и чужие изобретения? Вот ты... Придумал лестницу-перевёртыш – молодец. И всё... Ну расписал пять храмов – молодец. А дальше что? Фокусы с рыбой показывать? Сколько столетий?
Иван снова залился краской.
– Про ликвидацию безграмотности – правильно. И про народ, который ты туда переместил, государством и обществом здесь кинутый, тоже правильно. Так, кстати говоря, в будущем и делают, распределяя трудящихся не только в пространстве, но и во времени.
Однако, образованный человек, натура ненасытная, он стремиться в небо, в космос, а не рыбу чистить и поле распахивать. Они от тебя скоро побегут в Рим. Ты не думал об этом? Там они будут востребованы. Их идеи, изобретения.
– А дома? Почему бы им не самореализовываться дома?
– Нет пророка в отечестве своём... Помнишь? Тщеславие. У тебя он мельницу водяную придумал, сделал, и что ты ему дал? Банку тушёнки? Которая у тебя в каждом доме стоит? А в Риме ему бы дали банку тушёнки, которой нет в каждом доме. И он бы съел её, пригласив к себе домой своих друзей, которые ему за это были бы благодарны. А потом бы ещё и завидовали ему и его семье. И это его бы грело и толкало на новые изобретения. Вот – стимул!
У равноправия стимула для жизни и развития нет, если нет какой-то очень большой идеи. Но даже большая идея должна быть достижимой при жизни одного поколения. Или это должна быть «идея» жизни и смерти.
– Ну и что же мне теперь делать? – Изумлённый пониманием глобальности и бесперспективности им задуманного и уже начатого, спросил Иван. – Значит – всё зря?! Всё бесполезно?!
– Ну, почему, – пропульсировал Флибер. – Определённых целей ты достиг. Обещанное своим подопечным ты выполнил. Дал им технологический толчок и материальную поддержку. Ты же это им обещал?
– Вроде да. Я уже и забыл.
– Зато я всё помню. Так и было. Мне понравилась твоя идея создать некий пункт управления, на основе программы «учёта и контроля», как ты её называешь. У неё есть только один существенный недостаток, к многим остальным не очень значительным...
– Какой?
– Поступление информации от субъектов контроля. Человеческий фактор и здесь сыграет с тобой злую шутку. Люди боятся ответственности, и склонны преувеличивать свои успехи, занижать свои поражения и скрывать ложь. Только внешний контроль и учёт относительно объективны.
– Создать контролирующие органы? – Воскликнул Иван. – Это тоже – тупик. Коррупция...
– Молодец, Иван. Ты, оказывается, продвинут...
– Так об этом везде пишут и говорят из каждого гаджета.
– Это, да... У вас тут, как раз переходная стадия... К налаживанию учёта и контроля. С помощью искусственного интеллекта, с помощью камер распознающих людей, товар и грузы. Вы – в начале пути, но у тебя есть я... – По-человечески самодовольно сказал Флибер.
– И?
– Я – высшая стадия такого искусственно-интеллектуального программируемого гаджета. Нас и создавали именно для этого. Я – Функционирующий Латентный Искусственный Бытийно-Естественный Регистратор. Заметь, – «функционирующий» ... Таких, как я – немного.
– А тебя не смогут у меня забрать?
– Шутишь? Кто рискнёт? Я тут, на вашей земле уже такие корни пустил... Все торсионные и иные поля под моим контролем. В моих силах развернуть ось земли и поменять магнитные полюса местами.
– Не надо, – вырвалось у Ивана.
– Сам не хочу, слушай, – с акцентом «товарища Саахова», как сам Иван любил говорить, ответил Флибер. – Я решил остановиться здесь, с тобой. Ты мне жизнь спас. Ну и я посвящу часть её тебе. Тысяч пять лет тебе хватит, пока?
– Пять тысяч лет? – Иван почесал затылок грязной рукой. – После того, что ты тут мне наговорил... уж и не знаю...
– Ах, молодца! – Вскрикнул Флибер и захохотал. – Тебя «за фук» не возьмёшь.
– Как это? – Не понял Иван.
– Так в шашки раньше играли... Если не увидел, что нужно «рубить», твою шашку забирали. Чаю хочешь? – Спросил Флибер.
– Да. Попить бы не мешало.
Прямо в воздухе перед Иваном повисла его любимая кружка с янтарным напитком.
– С лимоном. Я его туда выдавил, как ты любишь. И две ложки сахара. Размешивать не надо. И... Он не очень горячий.
– Спасибо, – нерешительно сказал Иван, и точно так же, нерешительно и аккуратно, взял пальцами чашку, подставив под донышко ладонь левой руки.
– «Чай – как чай», – мелькнуло в голове.
– И всё-таки, что же мне сейчас делать? – Спросил Иван.
– Живи. Ты же хотел там пожить. Писать картины, ковать металл, дерево гнуть. Ты так и не попробовал согнуть дугу, вымочив её в мочевине.
– Да... как-то... воняет всё.
– Это, брат, натуральное хозяйство... А всё натуральное имеет свой запах. В этом времени получали химические вещества путём сбраживания, сквашивания, скисания. Даже еду готовят. Особенно из растений. Первичная ферментация.
– Да знаю я, что они тут едят. Копалька -юкола ! – Почти выругался и вздохнул Иван.
– «Натурпродукт». Холодильников нет. Да и соль не везде имеется, – повторил Флибер.
– Не, я про чукчей и эскимосов знал, что они убитого оленя или моржа в болоте хранят полгода, пока он не «приготовится», а потом зимой откапывают и едят, но чтобы здесь, в Европе?!
– А какая разница? Болото есть, вот тебе и хранилище. Не ожидал? Жизнь – полна неожиданностей: и детских, и взрослых.
– Да, уж...
– Ты повоевать хотел. Молотком своим помахать, – напомнил Флибер.
– Да жалко их...
– Тут, как раз «напасть» идёт. На одерские города. Венгры. Они уже Австрийские Альпы перешли. Этой зимой будут у вас. Пользуются тем, что твои руяне германцев ослабили. Венгры давно глаз положили на Австрию. Они в Европе весь десятый век «топчутся», а скоро и своё королевство создадут. А ты помнишь, что такое Балканы в твоей истории? Кто-то из ваших политиков назвал их: «дрожжи в бочке с дерьмом», по-моему, очень похоже.
А защита своего дома – дело правое. Венгры – сильный противник. Под предлогом защиты отечества можно и ослабить их. Да и сдаётся мне, что в твою сторону их направил кто-то. Не буду показывать пальцем, тем более, что его у меня нет, но это кто-то из князей русских.
– Да! А с этими, хитро-мудрыми, что делать?!
– С Русичами-то? Ты же знаешь, что из-за этих князей Русь и распалась на мелкие княжества, а потом их степняки подмяли. И если ты ещё немного промедлишь, – так и случится.
– Русь так и так развалится, – вздохнул Иван. – Я много думал. В моём мире Владимир объединил Русь и даже веру христианскую для этого принял, но нарожал кучу сыновей, а наследнички и разорвали русские земли. «Великий распутник», его маму!
– Да и с христианством не так просто. Везде своё понимание божественной сущности Христа.
– Так, и что делать?
– Думай, голова.
Глава восьмая.
Иван решил заняться воспитанием русских князей.
Ярополк совместно со Свенальдом правил в Киеве, Владимир со своим дядей по матери Добрыней – в Новгороде. Олег вместе с сыном Свенальда Лютом правил у древлян.
Как разобрался с помощью Флибера Иван, «мутил воду» Свенальд.
Бывший соправитель Святослава и, после гибели Князя Игоря фактически второй муж Великой Княгини Ольги, Свенальд, терявший абсолютную власть по мере взросления Ярополка, пытался власть сохранить, имитируя объединение Руси под рукой Ярополка Святославовича.
Но пытался он «объединить Русь», не объединяя её, а разделяя. Он считал, возможно в какой-то степени и справедливо, что объединить своенравных братьев вокруг власти невозможно.
Иван это понимал. История доказывала множеством примеров: лидер должен быть один.
* * *
Князьям, вернувшимся от Ивана, было трудно объяснить своим воеводам, почему надо сворачивать битву и возвращаться по домам. Владимир пытавшийся рассказать своему дяде про Яролика, не видел в его глазах понимания.
– Да говорю тебе, дядя, – устало повторял он, – Яролик – это Бог. Он вызвал нас с Олегом и Ярополком к себе, и наказал прекратить войну.
– Я не знаю никакого Яролика, – угрюмо, и тоже, в который уже раз, говорил Добрыня. – Мы гнали Ярополка до самого Киева, и сейчас, вдруг, назад? Когда у него и стен-то толковых нет?
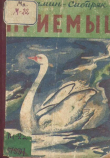

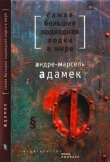

![Книга [Самая большая подводная лодка в мире] автора Андре-Марсель Адамек](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-samaya-bolshaya-podvodnaya-lodka-v-mire-196222.jpg)