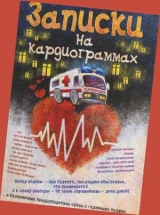
Текст книги "Хроники неотложного"
Автор книги: Михаил Сидоров
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
Феликс в ответ рассказывает о массовой драке за свяченые куличи в храме неподалеку и выражает удивление объемам святой воды, вывозимой прихожанами в пятилитровых бутылках из-под «Росинки». Большинство, как он утверждает, вывозит багажниками.
Для Настеньки же событием года стал День десантника. В этот день в график ставят преимущественно мужиков, водилы держат наготове «самоучители» [69]69
Самоучитель (жарг.) – дубинка.
[Закрыть], а многие надевают под форму голубой тельник – помогает, но не всегда, под утро все равно руки разбитые и хочется написать заяву на увольнение.
Погранцы в свой праздник тоже шалеют, но десантура им сто очков вперед даст. А вот морячки в День ВМФ – тише воды, за что их народ любит и при всяком удобном случае мотается на Неву корабли посмотреть…
Только заснул, Настенька за плечо трогает. Ей мама с собой курицу гриль дала и салатик с копченой рыбой, а Женька картошку фри притаранил. Пришлось встать.
Усадив Настеньку, Че с Джексоном, смачно хрустя крылышками, выхватывают из тела курицы сочное мясо и, сладко воркуя, скармливают Настеньке прямо с вилок. Настенька замечательно смущается, но кушает. Видно, что ей приятно. В самый разгар вваливаются Пак и Лодейников. Пашка несет под мышкой здоровенную «Энциклопедию танков».
– Ух ты! Где взял?
Пак усмехается:
– В нашем магазине.
Подрезал, значит.
– Фига! Как это ты ухитрился?
Пашка подсаживается к нам и выламывает из сустава куриную ножку.
– В наследство достался, – говорит он с набитым ртом.
– Суицид у нас, – поясняет Лодейников, – старики сдали комнату, квартирант вечером въехал, а ночью повесился. На ручке от форточки.
– Где?
Митька нагибается и показывает пальцем на дом напротив.
– Девятый этаж. Вон окно… Паскуда, отволок бы за петлю на помойку – пусть крысы жрут.
Все не то чтоб расстроились, но потчевать Настеньку перестали.
– Да, пацаны, потешили вы нас. Книжка его?
– Его. С паршивой овцы хоть шерсти клок. В «Военную книгу» сдам, а деньги в почтовый ящик кину – хоть будет чем за освящение заплатить.
– Думаешь, задаром не освятят?
– Хрен его знает, с них станется.
* * *
Нет, ребята, что-то здесь неестественное происходит. Бесовство оголтелое, сплошной Босх вокруг. Пляска смерти, нелепая и фантасмагоричная, как в японской чернухе. Это уже не совпадение и не случайность – система. Без оглядки бежать надо, пока всех без разбору гвоздить не стало. Переждать и вернуться, когда уцелевшие будут обниматься и плясать в ярких одеждах, как после Великой чумы…
* * *
– Ага. И настанет Царство Истины.
Нас снова усылают на какую-то хрень. Настеньку не берем, пусть на стол накрывает.
– Брось, Вень, тут все уже метастазами поросло. Вон, смотри – иллюстрация.
Впереди, задрав скорпионий хвост, сучит клешнями снегоуборщик.
– Гребут точно так же, с обеих рук, а кал под себя валят. Наплодят себе подобных, засрут все вокруг и сгниют потом, в фекальных массах. Онкология на социальном уровне – законы-то у природы одни на всех. Так что грядет фаза распада. Закат империи. Придут вандалы и всем вставят.
Подает голос Джексон:
– В таких случаях национальная идея спасает. Или религия новая.
– Идея, Жень, уже есть – бабло. И новую религию, коль появится, на раз продадут. Просчитают, упакуют и продадут, так же как христианство продали, в свое время. А если ты про нынешние махания триколорами – так это для тех, кто за майку со слоганом на пулеметы помчится, только кивни. Ренессанс на помойке. Из говна Элладу лепят.
– Так-так. Не знаю, кто подвесил твой язык, но подвешен он хорошо…
– Дык, ёлы! Взять хотя бы тезку моего – Че. Ведь в полный же рост отоваривают, и кто? Те, кого он до хрипа в глотке не выносил. Клубов пооткрывали: с гамаками, с сигарами, с ромом кубинским. Футболок нашлепали… А он, между прочим, редкий бессребреник был, даже когда в ООН речь толкал, у него, как у Бендера, носков под берцами не было.
Он умолкает, а потом каким-то другим, изменившимся, голосом говорит:
– Знаешь, я недавно в «Корсаре» девчонку снял, хорошенькую, как Настенька. Пришли ко мне, стал ее раздевать, а у нее на трусиках Че, прям на лобке. Так мне хреново сделалось, аж ком в горле встал. И не вышло у меня с ней, упало все сразу. А главное – она не поняла ничего. Ну, Че и Че – чего тут такого? Все носят…
Душу обнажил, как горло подставил. Я смотрю ему в глаза. Там – тоска.
Я молча тыкаю его в плечо кулаком.
– Слы-ы-ышь, курить есть? Хорошо, что Настеньку дома оставили. – Не курю.
– Чё, здоровье бережешь?
– Не люблю, когда изо рта воняет.
Потихоньку обступают с боков.
– Чё, подвигов ищешь?
Рацию из кармана, палец на тангетку – пи-и-и-ик!
– Нажму еще раз – пойдешь в КПЗ. Пукнуть не успеешь.
Главное – взгляд держать. Не в переносицу смотреть, а в глаза. И не ссать, даже если очень страшно. Заметят – все.
– Разрешите пройти?
С издевкой:
– Иди.
Глаза в глаза, обойти не касаясь, и повернуться спиной, уверенно повернуться. Терять нечего: если атакуют, от четверых не отмашешься. Как хорошо, что не взяли Настеньку!!!
Затылком понял – Че миновал успешно.
Вышли, закурили.
Пальцы прыгали.
– …лядь!
– Ну!
* * *
Пробка вмазывает в потолок. Вторая, пшикнув, остается в ладони у Журавлева. Зеленые горлышки, рождая пену, проходятся над пластиковыми стаканчиками. Пена поднимается и опадает. Со дна бьют веселые ключики.
– Давайте, ребята, за старый год. Три-четыре…
– Дзыннннь!!!
– Одесская киностудия!
Галдят и растаскивают из коробки грильяж. Тычут вилками в сервелат. Все на станции – удачно.
На экране появляется президент.
– О, о! Главный Упырь! Громче сделайте.
– Да ну его на хер! Ты что-то новое хочешь услышать?
На экране вспыхивает MUTE. Некоторое время все заинтересованно смотрят, как шевелит губами гладкое, репообразное лицо Ельцина.
– В записи транслируют. Сидит, поди, сейчас в кальсонах, с водкой на табуретке, речь свою слушает…
Пять минут остается.
– Восемьдесят шестая бегом! Ребенок полтора года, ожоги. Ира, быстро – площадь большая.
– Ну… твою мать!
– Та-а-ак, первый пошел.
Дите. Ждать нельзя. Журавлев с Бирюком подрываются к выходу.
– Санек, папку, стетоскоп и новокаин! – кричит Скворцова, рассовывая по карманам шоколад, мандарины и пузырь полусладкого. Хватает миску с салатом, ложки и бежит следом. – С Новым годом, ребята! – уже из глубины коридора.
Вдогонку вылетает Ленка Андреева.
– Скво, Скво – стаканы забыла!
Все, до утра мы их не увидим. Они сейчас через весь город на Авангардную, и дай бог, чтоб их там за Четырнадцатую не впрягли, к тому времени самый падеж начнется.
Возникают куранты, пошел отсчет. Митька с Феликсом обдирают фольгу, лихорадочно крутят проволочки. Остальные ищут потерянный пульт. На экране по-прежнему красуется ярко-красное MUTE.
– Блин, скоро вы?!
Есть, нашли.
Тинь-длинь-дон-дилинь-дон, тинь-длинь-дон-дилинь-дон. Пауза. Вам… бам… бам…
Че с Лодейниковым удерживают рвущиеся из горлышек пробки.
– Девять… десять… одиннадцать… двенадцать! Ааааааааа!!!
Шар-р-рах, шар-р-рах – только пробки запрыгали! Роняя пену, разливают шампанское. Ленка Андреева тянет рацию:
– Всем кто в поле, всем кто в поле – с Новым годом, ребята!
И сразу следом:
– Восемь-шесть, три-один, шесть-четыре – с Новым годом всех!
Это Центр, диспетчер.
– Спасибо, вам также.
– Шесть-четыре, шесть-четыре…
– Слушаю.
– Освободились с Народной.
– На станцию.
– Поняли, станция.
Чуть-чуть не успели ребята.
– Игорян, ты, что ли?
– Я, Паш, я.
– Ну, ты попал, старик. С Новым годом тебя!
– И тебя также. Ты на станции?
– Пока да.
– Если на Солидарности пересечемся, побазарим…
И тут же ответственный:
– Не засорять эфир!
И все замолчали.
– А ну-ка сыграйте нам, Портос, что-нибудь веселое…
Феликс протягивает Станишевскому клееную-переклееную гитару. Тот тренькает, подтягивает колки, снова тренькает и снова подтягивает. Берет аккорд и частит боем по струнам:
А-а-а, увезу тебя в больницу
я к насупленным врачам.
Ты увидишь, как встречают
панариций по ночам.
Много нового узнаешь
обо мне и о себе
И не сразу осознаешь —
поворот в твоей судьбе…
Все подхватывают:
– Э-э-э-гей…ля! – илья-муромским басом рявкает Че.
Остальные улюлюкают и, засыпая стол кружочками конфетти, открывают огонь. Потом закуривают и распахивают окно. Вплывает гром канонады. Небо пульсирует сполохами. Противоугонные надрываются.
– Во, дают джазу!
– Слышите? Без пауз шпарят.
– Как немцев победили, чесслово!
Свист, треск; свист, треск. Сунув пальцы в рот, Феликс режет воздух пронзительным, уходящим в ультразвук переливом. Девчонки затыкают уши. Сразу следом вспышка и гул разрыва.
– Получилось.
– Так, Черемушкину больше не наливать, – Слышь, Жек, открой хванчкару девчонкам.
– Штопор дайте кто-нибудь.
Я протягиваю ему швейцарский ножик:
– На. Как канадские хохлы в таких случаях говорят, знаешь?
– Как?
– Они говорят: куд ю гив ми отой штопор!
Вокруг уже кто о чем.
– Паш, а ты чего лохматый такой? Оброс, как Маркс. Давай я тебя с утра подстригу, у меня ножницы с собой.
– Не, я специально так обрастаю. Меня двадцатого, на конкурсе парикмахеров, в прямом эфире стричь будут.
– Хорошо еще, что не мыть…
Народ хихикает.
– А Кнопа сейчас в «Лондоне» оттягивается. Она какого-то папика с ДТП брала, так он ей свою VIP-карту презентовал – ему, бедолаге. Новый год в травме встречать.
– А в «Лондоне» в кайф: никакого бычья, одно рафинэ вокруг…
– Это сейчас они рафинэ, а часам к трем их от пролетариев будет не отличить.
– Эт точно. – Митька набухал себе стаканчик пепси. – Помню, сдали на первом курсе весеннюю сессию и сели отмечать, в кафе нашем. Обычный треп: билеты – вопросы – ни хрена не знаю… и вдруг, ни с того ни с сего, страсти нешуточные: Шпенглер, Шопенгауэр, Шеллинг – чуть ли не за грудки берутся. Я в угол забился, сижу дятлом: а ну как заметят и про Шпенглера спросят? А я ж ведь ни в зуб ногой, я ж всю жизнь думал, что это пулемет такой, немецкий, вроде кольт-браунинга. Чувствую, надо отлить. Встал: эйншульдиген, камраден, их виль вассерклозет. И самый неистовый за мной увязался, такой, знаешь: да я за Шеллинга брата порву! А сортир в столовке тогда не работал, и народ на микробиологию бегал, напротив. Пошел и я. Слышу вслед: ты куда? Оборачиваюсь, а он стоит у входа и прямо в урну. День белый, альма-матер, преподаватели ходят – по фигу! Отлил, стряхнул, вернулся к дискуссии.
И сразу же следующий, по ассоциации:
– Помните, как Лапа в Боткина [71]71
Боткина – питерская инфекционная больница.
[Закрыть]загремела? Пришли мы ее навещать, и тоже приспичило: Наташ, у вас гальюн где? По коридору и направо, отвечает, там ячейки, мой горшок номер семнадцать.
Кто-то добрался до пульта и зачастил, меняя каналы. Мелькнула Лив Тайлер.
– О, это ж «Крэйзи», верни. И громче сделай.
Все идут танцевать.
Мигает елка. Помимо гирлянды, ее обмотали кардиограммой, на которой последовательно: желудочковая тахикардия – фибрилляция желудочков – непрямой массаж сердца – изолиния. По традиции, пленка каждый раз новая, ее открепляют от карты вызова и хранят до 31 декабря.
Crazy, crazy, crazy of you, baby…
* * *
Под ладонью подрагивает женский крестец. Я касаюсь губами пахнущей табаком и шампунем макушки, и на меня вскидываются широченные, поблескивающие зрачки. Краем глаза я вижу, как Че целуется с Настенькой и оба плавно дрейфуют в сторону коридора.
– Двадцать седьмая, стенд an! Попраздновали, и хватит.
– Что берем, Вень?
– Мандарины и джин.
Настенька кладет в пакет плоды и жестянки.
– Леди и джентльмены – увидимся утром!
* * *
И понеслось. Один за другим, без заезда.
00.57. Пробка от шампанского в глаз – офтальмотравма. Литейный, двадцать пять.
– Как Настенька?
– Слушай, удивительно – все при ней, а танцевать не умеет, вести не дает. Что с ней танцевать, что с памятником Чернышевскому – без разницы.
– Почему именно Чернышевскому?
– Потому что он там сидит…
01.43. Земля Второй станции. Взорвавшаяся в руках петарда – Байкова, восемь, микрохирургия кисти.
– …слушай, я к ним саркастически отношусь. Помню, иду по Невскому, гляжу – афиша. Прямо сейчас, в ста метрах отсюда, выдающиеся поэты нашего города будут читать свои бессмертные произведения. Решил приобщиться, а то все «Мани-Хани» да «Мани-Хани». Там, думаю, и девчонок много – девчонки, они поэзию любят. Купил билет, зашел. Шесть рублей за вход брали, я еще удивился, почему именно шесть?
Короче, попал внутрь и понял, что ни о чем. Литературный тусняк, все друг друга знают, чужаки на отшибе, а девушки не в себе поголовно – блуждают с нездешними взорами и сборники у поэтов подписывают. А поэты – полный п…ц! Патлатые, немытые, с перхотью. Пиджаки грязные, штаны с пузырями, а один придурок даже с бантом – вот …ля буду, бант надел!
– «Бабочка»?
– Да нет же, бант. Настоящий. Как у Карандаша в «Веселых картинках».
Сели. Я сдуру в середине устроился. Сначала поздравляли всех, чуть ли не поименно, затем старичок встал, блаженненький, как Циолковский, и за…бал насмерть, былых поэтов вспоминая. Потом с ответными речами выступили, и лишь минут через сорок чтения начались. Заныли, застенали, пальцами задвигали. Я сижу, ни хера не понимаю. Сначала думал, что не дорос, потом понял – козлы! Особенно когда лауреат вышел, под занавес, как Киркоров. Ничего такой лауреат. Прыщей штук сто, штаны белыми нитками строченные, и значок на груди – «Танк Т-35». Полный …банат, у него даже ботинки под кеды стилизованы. Дольше всех читал, вне регламента: о хренах, о пряниках, о вине кампари…
Устал я. Вышел и бегом в «Корсар», к рокабилам. Рокабилы, когда в ударе, дэцэпэшников исцеляют. С девчонкой познакомился, Музой звали – всю ночь меня потом вдохновляла, едва на работу успел. На носилках спал, между вызовами…
02.39. Поехали за Шестнадцатую. Без сознания во дворе: перепой, спит, нашатырь под нос, драка, мы победили.
– …да ни фига! Баски уже в раннем Средневековье у Ньюфаундленда треску промышляли; ирландские монахи в девятьсот каком-то чуть ли не на байдарке в Америку прошвырнулись; про викингов я вообще молчу, а в Мексике сейчас клады римских монет находят. Так что знал Колумб, куда шел, просто не бакланил на всех углах, а грамотно пропиарил все это дело. Кому надо было, тот помалкивал. Официально считается, что до XVIII века из Атлантики в Тихий ходили только Магеллан, Дрейк и еще двое, забыл кто. А на самом деле флибустьеры с Карибов как на работу туда плавали, испанские форты грабить. Сами они это не афишировали, а в хрониках сплошь да рядом: опять приплывали, уроды, всех наших порезали!..
02.57. Потихоньку двигаемся к дому. Пискаревка. Судорожный припадок: реланиум, витамины, глюкоза, оставлен на месте.
– …там, где я учился, учителя… ммм… своеобразные были. Немку припахали еще и английский преподавать, она, подозреваю, его вместе с нами учила и всем нам стойкий бундесовый акцент привила; а музыкант популярные песни, типа «Крылатых качелей» или «Когда уйдем со школьного двора», на свои мелодии перекладывал…
03.30. Вотчина. Перелом обеих лодыжек – с улицы в Солидарь.
* * *
В Александровской народу полно. Каталки заняты, персонал мельтешит, охрана в боксах бычье усмиряет, а от входа до самой травмы, как в застенке, след кровавый по полу, вытирать не успевают. Скорая вся в дедморозовских колпаках почему-то, один Карен с Двадцать второй в стетсоне своем неизменном. Накурено – дышать нечем.
– …она ему так капризно: у вас руки холодные. А Мишка ей: а у вас ноги!
– …и начал их высоким тенором, при медсестрах, мордой об стол тыкать. Они терпели-терпели, а потом и посоветовали ему: больше тестостерона [72]72
Тестостерон – вырабатываемый яичками мужской половой гормон.
[Закрыть]в голосе! Тот и стух сразу. Слышь, дай шляпу померить.
Нахлобучивает, смотрит в зеркало, сдвигает то так, то этак, любуется.
– Да ковбой-ковбой.
– Ага. Только не Мальборо, а Хаггис.
Вваливается Парамон, однокашник. Здоровый, усатый, румяный – кровь с молоком.
– Мушкетерам короля – от гвардейцев кардинала! Здоров, Папульдер!
Так меня в институте называли, от слова «папа» – младенец, которого я на детских инфекциях курировал, после третьего посещения в отцы меня произвел.
– Здорово, Парамоша, с Новым годом тебя. Как оно?
– Невзирая.
– Валерий Саныч, вот вы все знаете…
Парамон – ассистент кафедры, половине присутствующих здесь фельдшеров двойки ставит.
– …лечение геморроя без операции – это как?
– Зализыванием.
У кого-то ожила рация.
– Семьдесят седьмая.
– Семь-семь, слушаю.
– Свободны с адреса. Смерть до прибытия, оставлен с милицией.
Плотный крепыш, нажав тангетку, опережает диспетчера:
– От вскрытия отказался. Актив [73]73
Актив (жарг.) – активное посещение: вызов врача поликлиники на дом, в случае если состояние пациента, отказавшегося от госпитализации, требует постоянного наблюдения.
[Закрыть]участковому патанатому.
Хохот.
– Это кто там такой остроумный?
– Угадайте!
Возникает Феликс:
– Веня, тигрятник видел?
– Нет.
– Сходи погляди.
– Чего там?
– Увидишь. Тебе понравится.
В тигрятник стаскивают упившихся Дед Морозов. Зрелище напоминает пейзаж «После битвы». Среди лежащих вповалку тел, там и сям, словно пики, косо торчат золоченые посохи, то и дело слышатся хрипы, зубовный скрежет и тяжкое, стонущее клокотание, вздымаются неестественно вывернутые валенки и трепещут, опадая и взметываясь, седые бороды – впечатление такое, будто здесь полегла рать ополченцев.
Над всем этим стоит скоропомощный человек. Заметив меня, он простирает в сторону павших руку и, выдвинув челюсть, поет:
И горел погребальным костром закат.
И волками смотрели звезды из облаков,
как, раскинув руки, лежали ушедшие в ночь
и как спали вповалку живые, не видя снов…
– С Новым годом! – Было видно, что он здорово на кочерге.
– Взаимно, всяческих благ.
– И вам… – он икает, – ой-ё… того же.
– Джин?
– Сидр.
Появляется Феликс. Уже вмазавши.
– Здорово, Марик. С наступившим.
Марик важно кивает. Че обращается ко мне:
– Как тебе?
– Сильно. Жаль, фотика нет.
– Все в порядке, ребята нащелкали. Я договорился, нам сделают.
– Ты, я гляжу, уже причастился?
– Да ладно, Вень, два раза всего. Больше не буду, честное медицинское.
– Где Настенька?
– На батарее. Ее там штурмы клеят.
Настенька, падла, тоже угостилась, но, в отличие от Феликса, на нее выпитое подействовало сокрушительно. Она звонко смеется, прильнув к могутному спецу со стетоскопом на шее. Тот нашептывает ей на ушко и, не теряя времени, прихватывает за округлости.
– Так, коллега, мадемуазель сегодня принадлежит исключительно нам.
– Да ладно, дайте отдохнуть девушке.
– У вас свой фельдшер есть, даже два – вот с ними и отдыхайте.
Вокруг смеются. Мы выходим. Настенька идет твердо, но на воздухе чувствует головокружение.
– У-У-У, да ты, ваше благородие, нарезался. Че, в натуре, что за дела?
– Прости, отец, недоглядел.
– Жека, мы ее к тебе, на сиденье, а сами сзади. Пусть поспит малость.
– Куда едем?
– Петра Смородина, двадцать два, у двести восемьдесят девятой квартиры.
– А этаж?
– Двенадцатый.
– Чего там?
– Нарушняк, похоже, у бабушки.
– Вовремя.
– Не говори. Поехали, Жень.
Че болтает.
– Марик когда-то у нас работал. Обожает у тигрятников петь, особенно когда там вцепившись в решетку стоят. Встанет и поет. Высоцкого, например:
Часто, разлив по сто семьдесят граммов на брата-а-а,
даже не знаешь, куда на ночлег попаде-е-ешь… —
или стихи читает:
Оковы тяжкие падут,
темницы рухнут, и свобода
вас примет радостно у входа,
и братья меч вам отдадут.
Из-за Лехи ушел – несколько лет по ней сох.
– А она?
– А она была холодна, как Снежная королева.
Он вздыхает.
– Э-хе-хе, Леха-Леха… каких людей теряем. Она работает сегодня?
– Угу.
Лариску все-таки доломали, заставили по собственному уйти. На неотлоге сейчас трудится, у себя где-то.
– Давай позвоним ей?
Че с новогодней премии купил дорогой мобильник и теперь играет с ним до умопомрачения: накачал мелодий, поназаписывал всякой дряни, и всякий раз, когда ему дурным голосом сообщают о прибытии очередной эсэмэски, бурно радуется, как кретин в луна-парке.
– Хочешь – звони.
Он набирает номер, долго треплется с ней ни о чем.
Все то же самое: ты где? как дела? вызовов много? чего-нибудь было? а-а-а, у нас, помню, тоже такая фигня была… Peoplearestrange. Выкладывать кучу денег только за то, чтобы регулярно докладывать, где ты?
– У нас? Без заезда… Не, встретить дали… Час примерно… Я? С Джексоном, Веней и Настенькой…
И показывает мне: говорить будешь?
Нет.
– Ладно, пока… Непременно.
Складывает машинку.
– Тебе привет… Ты чего такой?
Я киваю на сотовый:
– Не мое это дело, старик, но лучше б ты на коралловый риф свой слетал. И Новый год в ночном погружении встретил. Знаешь примету?
Задел. За живое задел. Пожалуй, даже резанул по живому.
– Ч-черт, мне и в голову не пришло…
Расстроился. Очень. Как-то даже осунулся сразу.
– Ч-черт! А ты тоже хорош – взял бы да и подсказал.
Возьмет сейчас трубку и выкинет за борт, с него станется.
– Ладно, еще не поздно. Отнеси обратно – через неделю туры в Египет за бесценок пойдут.
– Да, но с приметой-то я пролетел. Блин, какая идея! Зараза ты, Вень, честное слово…
* * *
Старушка возится на полу, словно налим в тазу. Неврологии у нее нет.
– Гипует [74]74
Гипует (жарг.) – от гипогликемия – состояние у больных сахарным диабетом, при котором, под воздействием неправильно рассчитанной дозы инсулина, резко падает сахар крови. На ранней стадии проявляется неадекватным поведением, позже грозит переходом в кому.
[Закрыть]старая. Насть, ты глюкометром пользоваться умеешь?
– Нет.
– Феликс, покажи.
Че извлекает из кармана прибор и ловит бабульку за палец.
– Сначала надо добыть капельку крови.
Он колет бабку в концевую фалангу, отчего та вдруг пронзительно верещит. Мы вздрагиваем. Продолжая визжать, бабка остервенело выдирается и, когда Феликс ее отпускает, умолкает.
– Фиги, легкие у старушки! Смотри: нажимаешь сюда, капаешь, ждешь. Вот, пожалуйста – один-пять. Норму сахара знаешь?
– Четыре?
– Примерно. Три с половиной – шесть. Что в таких случаях делаем?
– Глюкозу.
– Молодец! Набирай шестьдесят.
Настенька вытаскивает три двадцатикубовых баяна.
– Стой-стой-стой, двух хватит. Введешь один, отдашь мне, пока вводишь второй, я набираю первый, понятно?
Пока Настенька набирает, Че закатывает бабке рукав.
Потом, сев к ней спиной, зажимает в своей подмышке ее руку и, ухватив за запястье, командует:
– Давай.
Почувствовав укол, старуха воет сиреной и, извиваясь, словно минога, вырывается, суча ногами и колотя Феликса по хребту свободной рукой. Настенька пугается, порет вену и выдергивает иглу. Из дырки, в силу плохой свертываемости, фигачит кровь, и, в довершение, на площадку вылезает стая жильцов.
– Вы что, сволочи, над старухой издеваетесь?
– Мы не сволочи. – Я сижу у бабки на ногах и, надавив ей на плечи, прижимаю к полу. Феликс держит одну руку, я другую. – Ей надо сделать укол, а она не дает… набирай сразу шестьдесят… восемьдесят набирай.
– И баян без иглы дай.
Бабка перестает подскакивать и всю энергию вкладывает в ор. Исхитрившись, Че одной рукой фукает ей под язык двадцатник глюкозы. Секунда – и мы с ног до го ловы оказываемся в липких каплях концентрированного раствора.
– Беспонтово, Вень, обратно выплевывает. Настя, блин, ты быстрее можешь?
Настенька уже набрала две двадцатки и заканчивала набирать третью.
– Куда ж вы такую дозу-то лошадиную?!
Понеслось.
– Пожалуйста, не мешайте нам. Если не можете это видеть – уйдите.
Феликс, освободив руку, зажимает бабке рот.
– Да люди вы или нет? Фашисты!
С нижнего этажа подошли:
– Вы чё …ляди творите? Совсем о…ели?
Все, попали: их много, они пьяные, и они ни…уя не понимают.
– Так, б…, отлезли все от нее! Отлезли, я сказал! Чё вылупилась, коза?!
Настенька медлит.
– Коли, Настя. Да коли же, ептать!
Они – совки. Они делают евроремонты и ездят в дорогих иномарках, но они – совки. Никто из них не решится перейти от слов к делу, все будут ждать, когда начнет кто-то другой, а до этого они будут стоять над душой и бычить. Объяснять бесполезно. Надо сцепить зубы и молча делать свою работу, тогда на этом все и кончится – по…дят да разойдутся. А сорваться, ответить – значит дать им то, чего они добиваются: casusbelli [75]75
Повод к войне (лат.).
[Закрыть]. Бабку эту они в гробу видели, им нужно что-то, что задело бы их лично, а сочтя себя оскорбленными, они, когда их много, они пьяные и ни…уя при этом не понимают, могут полезть в драку.
Одна из жен, оставив открытой дверь, демонстративно набирает 03.
– Але! Тут ваши санитары старуху убивают…
И смотрит на нас: перестанем мы или нет? А вот и не перестанем!
– Але! Да… ваши санитары над старухой измываются… Петра Смородина, двадцать два… Я? Соседка… Из двести восемьдесят восьмой.
С ответственным соединили.
– Не знаю… издеваются, в общем… руки ломают, рот заткнули, эсэсовцы… Да, хорошо. Вас к телефону.
Это она мне. Сейчас, побежал!
– Скажите, что я позвоню, когда мы закончим.
Озадачились. Стоят, переминаются, но хоть заткнулись – и то хорошо.
– Болюсом, Настя, болюсом.
Двадцать кубов, сорок, шестьдесят… Старуха подсыхает, успокаивается, кожа ее розовеет, взгляд принимает осмысленное выражение. Эти уроды, потоптавшись, расходятся по квартирам.
– Алло, любезный! Как насчет извиниться?
Дверь закрывается. Че несколько раз жмет на звонок.
– Чё надо?
– Ты оскорбил девушку. Будь мужчиной – извинись перед ней.
– Выйди отсюда!
Он крупнее Феликса килограммов на тридцать. Толкает в грудь, Че отлетает, дверь захлопывается.
– Набери анальгина, Настя.
– Брось, Феликс. Оставайся в шляпе.
Старушка уже оклемалась и, переживая ситуацию, мелко крестится.
– О х-хосподи. Царица Небесная, спаси вас Христос, ребятки, дай бог здоровья…
– Вы из какой квартиры, бабушка?
– Да вот же, из двухсот девяностой…
Она шарит по карманам.
– Ключ! О господи, ключ оставила, вот же напасть какая. И чайник на плите, как на грех… Ой, погорим, ой, погорим!
Бабка плачет. Феликс изучает замок.
– У вас дверь внутрь открывается?
– Внутрь, миленький, внутрь.
– Вень, давай высадим – потом гвоздями обратно прибьем… У вас молоток есть?
– Погоди. Бабуля, замок сам захлопывается?
– Сам, сам.
– Значит, если дверь открывается внутрь, то скос у язычка к нам… Так, Че, ты отжимаешь вбок, я поддеваю ножом.
Дверь старая и расшатанная. Черемушкин упирается ногами в проем.
– Давай!
Лезвие в щель до упора, надавить и легонечко на себя. Минута, другая… Феликс, весь красный, орангутангом висит на ручке.
– Ну, скоро там?!
– Сейчас.
Есть! Внутри щелкает, и дверь открывается.
– Вуаля!
Везде горит свет. На кухне бьет паром чайник. Воды в нем на донышке. Вовремя.
– Ой, спасибо, сыночки, ой, спасибо, родименькие… Дай бог здоровья, дай бог…
– Инсулин покажите, бабушка.
Она сует мне коробки, ампулы и простыни аннотаций.
– Насть, сахар померь.
– Сынок, поставь чайник заново – хоть чаем вас угощу.
Обвалилась усталость. Как-то сразу накрыло – ничего не хотелось.
– Не, баушка, спасибо, поедем мы.
– Вень.
– Чего?
– Ну, сам не хочешь, дай бригаде попить. Три часа еще кантоваться. Сядь, истории напиши или ответственному сходи отзвонись. Чего ты как не родной? Остаемся, бабуленька, чем потчевать будете?
Потчевать особо нечем. Булка, масло, варенье. Стандартная старость: выцветшие обои, убогая мебель, черно-белый «Рассвет» в углу. Грамоты на стене. Детей нет – война, дед месяц назад умер – фотография в рамке и накрытая сухарем стопка. Все, что осталось: диабет, почтальон раз в месяц и желтые грамоты.
– Давайте-ка я вам по рюмочке налью. – Бабка булькает подозрительного вида наливкой. – С Новым годом, сыночки! С Новым годом, красавица, дай бог тебе мужа хорошего и детей здоровых. – Настенька взмахивает ресницами. – И вам, милые, дай бог всего, и чтоб не так, как у нас…
– Спасибо. – Чего бы ей в ответ пожелать? Разве что дом престарелых получше, да где теперь такой сыщешь? Не в Германии, чай. – Вы ключ на шею лучше повесьте, на веревочке.
– Повешу, сынок, повешу. Прямо сегодня и сделаю. Ох, господи-господи, вот угораздило…
– Че, блин, хватит жрать – не к боярам приехал.
– Да ешь, сынок, ешь, работа, поди, тяжелая? А девушке-то каково, девушке – ох ты, горюшко… Я тебе, милая, вот что подарю.
Бабка шаркает в комнату, скрипит там ящиком, возвращается:
– Вот, от отца еще. Отца не помню, в двадцать девятом забрали, а их до сих пор храню.
Серебряные сережки, А может, и не серебряные – кто их разберет?
– Ой, ну что вы, не надо…
– Бери, дочка. Помирать скоро – так пропадут. Пусть лучше хорошему человеку достанутся. Вспоминать обо мне будешь, может, свечку когда поставишь…
Настенька смущается.
– Бери, Настя, это дорогого стоит. Бери, не стесняйся, грех не принять.
– Бери, милая, окажи радость старухе.
Горло перехватывает. Так же, как когда «В бой идут одни старики» смотришь: строй, землянка, стакан на столе, все стоят и молчат, а потом Быков рукой машет и хроника под «Смуглянку» идет.
– Ты куда, Вень?
– Схожу отзвонюсь.
Телефон у нее старый. Все у нее старое, и сама она тоже старая. Сколько я их таких перевидал: слепых, глухих, бестолковых, морщинистых. А ведь когда-то были как Настенька. В войну. Кто технику на заводах собирал, кто торф на болотах резал, кто горшки в госпиталях выносил. Разослали им в девяносто пятом новенькие ордена, поздравили чохом и успокоились – догнивайте, родимые, земной вам поклон!
* * *
А я, парень, когда в Англию ездил, на юбилей, то куда б ни вошел – все вставали. Там этот значок, – дед ткнул ногтем в потускневшего британского «Ветерана полярных конвоев», – чуть ли не к Кресту Виктории приравнивают. А здесь, б…, меня даже в госпиталь инвалидов со скрипом берут…
* * *
Вспомнился Ромыч, муж Ритулин, зятек мой драгоценнейший. Этот, случись чего, в медсанбат не пойдет, в состав какой-нибудь комиссии впишется и, когда все кончится, с полным набором справок окажется. Ничего не упустит, по максимуму получать станет, еще и орденок хватанет. Дока в этих вопросах.
Уже в Горздрав пролез, суконец. Пока еще там на пуантах танцует, портфель за кем скажут носит, но года через три управлять станет, реформы медицинские проводить, кислород дедкам-бабкам перекрывать.
И Ритулю он нам испортил. Такая Суламифь была, такая заноза, а теперь – хрусталь, ковры, позолоченный телефон-ретро и кровать а-ля «король-солнце» – под балдахином и с рюшечками. Я к ним давным-давно ходить перестал: душат.
* * *
– …так и останешься мальчиком. Пора бы уже свое будущее представлять.
– Я буду высоким, худым стариком с седой бородой и со спадающими на плечи белыми волосами. Жилистым, тонким, с упругой, танцующей походкой старого, проведшего жизнь на пастбище, пастушьего колли. Буду носить джинсы и клетчатые рубахи; буду каждое лето играть блюз в Копенгагене и ходить по горам в Адыгее; буду писать книги, сочинять песни и ездить по свету за деньги, которых вам не хватит и на прокорм; буду свободен от кредитов за жилье, машину и бытовую технику; буду работать, пока нравится, и уходить, когда надоест. Я буду знать десятки фокусов и забавных игр, и детям никогда со мной не наскучит. Они будут звать меня Веня, на «ты» и с нетерпением ждать моего появления. И в каком бы возрасте я ни был, девушки всегда будут отдавать предпочтение мне, а не молодым людям, даже если те имеют научную степень, ходят в костюмах и играют ключами от иномарок.








