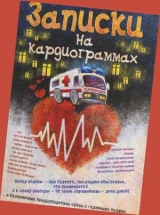
Текст книги "Хроники неотложного"
Автор книги: Михаил Сидоров
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 15 страниц)
Зажегся зеленый; по вагонам, грохоча, прошла дрожь; поезд дернулся и неслышно поплыл, блистая надраенными ободами. Встав на подножку, я проник внутрь и глянул вдоль коридора. Никого. Отсчитал купе, нырнул в теплую темноту, заперся. Все. До границы меня не потревожат, а если повезет, то и до Белгорода.
Лег на верхнюю полку, головой к багажному отделению: спрятаться, когда пойдут погранцы. Кольнуло – работаю на износ, а езжу зайцем и прячусь, как беспризорник. Ни денег, ни уважения – изгаляются, как хотят, а чуть что – складывают ладошки: ну, полно, полно, возлюбим друг друга! Сами же, гниды, сосут втихаря, и совестить их – против танковых клиньев тетрадные самолетики запускать. Один выход: а вот хер вам теперь, ребята, ищите дурачка за четыре сольдо!
Все, брат, линяю. Права международные есть, устроюсь там водилой на трак – и весь континент в кармане…
Плавал на рифе, с камерой, поднимаю голову – мама дорогая! Акула. Огромная, метров пять. Думал – все. Нет, обошлось. Прижался к кораллам, выждал: ушла…
Я подобное уже слышал, в Иордании. Муэдзин намаз творил, в репродуктор, а напряжение в сети плавало, и он от этого, как Том Уэйтс, пел…
Мне тоже теперь будет что рассказать; я вспомнил сегодняшний день и, в который раз, подивился, как много, оказывается, в него уместилось. Казалось, дорога в Крым случилась в незапамятные времена; прыжок со скалы отмечал смену эпох; первая ночь с Яной виделась Средневековьем, а вторая – девятнадцатым веком; сегодняшний день принадлежал новой истории, а этот момент – новейшей, – и ведь меньше недели прошло!
Как-то вдруг разом припомнились все утренние похмелья, бесконечные осенние полудремы, пивные визиты на станцию, и накатила щемящая, как соло в «Отель Калифорнии», печаль по бездарно прошедшим дням моей юности. Я лежал в качающейся темноте и чуть не плакал. Знал, что, приехав, напишу заявление и двину в Марокко; знал, что зимовать буду в Сочи, а весной уплыву в Турцию и проведу лето на Ближнем Востоке; знал, что ремеслом фельдшера буду теперь кормиться с октября по апрель – знал и все-таки тосковал, сжигаемый сознанием безвозвратной утраты…
Провалившись в сон, я проспал почти до самого Курска. Погранцы мое купе игнорировали, в Белгороде никто не подсел, и спалился я только под утро, проведя последние полчаса в холодном, воняющем табачьем тамбуре.
Потом был долгий локал: Фатеж, Тросна, Мценск… Ритуальная «газель» с пустым гробом; респектабельная чета, гневно высадившая меня, когда я не дал, вместо них, сотку гаишнику; секс-террорист, пропагандист коитусов с толстыми бабами, и добродушный, обвислоусый дядька-селянин, снабдивший меня свежим, только что из печи, тульским пряником.
Подфартило мне в Плавске, где я застопил идущую на Москву «газель» с молодым парнем в кабине. Есть такие веселые пацаны-работяги, пашущие на себя и в свое удовольствие. Звали его Витек. Он слушал наваленные на торпеду кассеты с русским шансоном и щелкал семечки, коими предусмотрительно запасся на всю дорогу от Болхова до столицы. Мы разломали с ним пряник, запили его фантой и бодро, душа в душу, долетели до Первопрестольной. В шесть вечера я уже был на МКАДе. Сменив три машины, добрался до Химок и встал, держа на весу руку, – транспорт полз непрерывным потоком, как мастодонты в «Ледниковом периоде».
Бежевая «Волга» заваленная лодками, сачками, палатками, чехлами с удочками и ружьями, довезла меня до поворота на Конаково. Мужик за рулем был при подмышечной кобуре, на поясе у него гнездился спутниковый телефон, а сам он позарез нуждался в слушателе, и для этой цели я подходил как нельзя лучше. Неказистая снаружи машина оказалась напичкана конверсионной электроникой, и для начала он поведал мне о наших военных заимствованиях у супостатов, аж со времен петровских кампаний. Я ел бутеры с колбасой, пил «Швепс» и дымил «Кэмелом», внимая интереснейшей информации. С оружия съехали на охоту, с охоты перетекли на рыбалку, а с рыбалки – через папу Хема, естественно! – прямиком на литературу. Похлопали Стейнбеку с Керуаком, потом американцам вообще, облизали Вудхауза с Дарреллом, а под конец всласть наиздевались над нынешними новинками.
На прощание он подарил мне пачку сигарет, мы раскланялись, и он улетел в свои охотничьи угодья, а я тормознул следующего: жилистого камуфляжника в берете, с эмблемой поискового отряда на рукаве. С ним я доехал до Медного, а оттуда, на молоковозе, в Тверь, где, стоя на переезде, угостил куревом двух минетчиц, потрепавшись с ними на отвлеченные темы. Мой предпоследний, как оказалось, водитель докинул меня до поворота на Торжок, высадив напротив поста с напутствием:
– Сейчас тебе самое время: дальнобои в ночь двигают, так что утром дома будешь.
Дальнобои двигали сверкающими гирляндами от горизонта до горизонта. Спускались с холмов, невидимые, осиливали подъемы, секунду переводили дух и, упираясь, снова тянули лямку, страгивая тяжелые фуры. Подпустив их поближе, менты указывали на обочины. Вздохнув с досады, тягачи сворачивали с асфальта и, дрожа от негодования, оставались ждать, а их водилы, роняя шлепанцы, прыгали в пыль, улучая момент, чтобы перебежать дорогу, отсвечивая вытертыми на заду трениками.
Молодой мусор, слепя полосками, крикнул мне в матюгальник:
– Ты, с торбой, – съеб…л отсюда! Съеб…л, я сказал!
За поворотом темно, позиция не освещена, грузовики набирают скорость – дохлый номер, не подберут.
– Ты не понял? Мне подойти?
Печальный, я утянулся за поворот и услышал из темноты стон. Кто-то стонал, какой-то зверь. Видимо, сбило грузовиком. Зверь плакал и звал на помощь. Не выдержав, я полез по кустам, обжигая пальцы колесиком зажигалки.
И обнаружил кота. Безухого, бесхвостого и слепого. Услышав меня, он задрожал, вжался в землю и всхлипнул. Я взял его на руки. Ослабев от кровопотери, кот висел тряпкой и только трясся, ожидая самого худшего. Отрезав от одеяла широкую полосу, я завернул в нее раненого, сунул сверток за пазуху и сидел, мыл руки в кювете, когда надо мной встала «газель». Из нее вышел мужик и, встав над канавой, стал жмень за жменью кидать в лицо холодную воду.
– Уважаемый, по трассе не подвезете?
– Куда?
– В Питер.
– Только уговор – не спать.
Сели, дернули с места. Кот закричал, заплакал, жалуясь и суча лапами в одеяле.
– Кто у тебя там?
– Кот. На обочине подобрал, жалко стало.
– Сбили?
– Ножом искалечили. Хвост отрезали, уши… Глаза выкололи.
– Околеет.
– Не околеет, они живучие.
Мы вписались в караван дальнобоев и шли, как тральщик среди линкоров. Навстречу, в сиянии фар, проносились груженые монстры. Отдельные идиоты, нарушая отлаженный ход, путались под ногами, дуроломом выбрасывались на встречную и, мгновенно впав в панику, истерично мигали, насмерть перепуганные трубным, гаврииловским ревом летящего в лоб динозавра.
– Что делают, сволочи! – Он притормаживал, и перед нами втискивался очередной элегант, с тем чтоб через полминуты вновь перечеркнуть разделительную. – Мудозвоны!
Профессионалы перемигивались, совершая незаметные перестроения. Мы катили в потоке, и я молол языком, рассказывая о своем путешествии – подробно, день за днем, отвлекаясь на ассоциации, растекаша мыслию по древу, не давая ему уснуть. Он не спал больше суток, в шесть утра его ждали на Кирочной, и, чтобы поддержать в нем сознание, мне требовалось пробалаболить четыреста километров.
Я старался. Махал руками, мешал правду с вымыслом, изображал в лицах. Врал, приукрашивал, непрерывно курил и пил газировку. Выдыхаясь, завел про скорую – и одной только этой темы мне хватило от Валдая до Киришей.
В Крестцах мы вышли, съели по пирогу с творогом, высыпали в кружки по пять кофейных пакетов и со спичками в глазах поехали дальше. Он остекленело держался за руль, я же, избегая монотонности в голосе, севшим аккумулятором пахал на последних миллиамперах, рубанувшись-таки под Тосно и проснувшись уже на Московском. Часы показывали пять тридцать.
– Тебе куда?
– Чуть дальше, в метро.
Отравленный никотином, с ноющими суставами, я вылез у спуска в подземку.
– Спасибо тебе.
– Тебе спасибо. Давай, будь.
– Пока.
У решетки, источая аммиак, дремали бомжи. Ровно в пять сорок пять, опаздывая, по ступенькам скатилась крыса. Без нее тут, похоже, не начинали – метро открылось незамедлительно.
Кинув в дырку бережно хранимый жетон, я доехал до дома. Отмыл кота, перевязал, поставил перед ним блюдце с водой. Выполз в лавку, купил ему фарша и молока, а себе яиц и бифштексов. Поел, посидел в душе, залег и проспал до пяти. Проснулся от жажды. Во рту горчило от табачного перегара. Попил воды, проведал кота. Тот ничего не ел, лежал в лежку, но коротко дал понять, что еще жив. Смотрелся он как тяжелораненый из военного фильма.
Не-скажет-ли-кто-нибудь-бедному-человеку-потерявшему-драгоценное-зрение-в-боях-во-славу-своей-родины-Англии-в-какой-местности-он-находится?
О, точно! Пью. Слепой Пью – самое для него имя.
Я снова залег, заново привыкая к изменившемуся интерьеру своей берлоги.
Стеллажи. Книги. Кассеты. Фотки.
Молодой Леннон в студии – роговые очки, «рикенбеккер» и стоящий рядом, что-то втолковывающий ему Мартин [91]91
Мартин, Джордж – звукорежиссер, записавший все альбомы «Битлз».
[Закрыть].
Озадаченный, чешущий репу Боб Дилан – микрофон, приклеенный к гитаре листок с текстом, губная гармошка на съехавшем хомуте.
Застывший в прыжке Брюс Спрингстин.
Застывший в прыжке Пит Тауншед.
Сегодняшние, седые и постаревшие, «Шэдоуз».
Хорошо дома!
* * *
Смотался к Феде-травматологу, закрыл больняк. Звякнул на службу. Оказалось, я сегодня работаю и посему обязан выйти с нуля. Положил Пью свежей еды, поел сам и не торопясь пошел на подстанцию.
– Как сегодня? Дрючат?
– В рот и в нос. В лавру чьи-то мощи завезли, на гастроли, так богомольцев вторые сутки косит. С ночи очередь занимают, мослы послюнявить, до Обводного хвост, врубись? Пачками валятся – в Мариининке [92]92
Мариининка – здесь: Мариининская больница на Литейном проспекте.
[Закрыть]аншлаг ежедневно.
– И надолго?
– Завтра еще, а потом увозят – чес у них.
У микроволнухи, дожидаясь, стояла шеренга тарелок.
– А вторую-то печку куда девали?
– Накрылась. Психи прикончили. У нас же теперь психи стоят.
Психиатрическая бригада то есть. Каждое утро спецы разъезжаются по районам, стоять на подстанциях, для лучшей оперативности. У одних кардиологи, у других педиатры, а нам вот психиатров подселили. Народ специфический – общение с больными влияет.
– Ну, висит же плакат, русским по белому: «МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПОСУДУ В ПЕЧКУ НЕ СТАВИТЬ!!!» Они, дятлы, берут и кастрюлю запихивают!
– Да, слушай, ты знаешь – Клыкачев зачехлился?
– Иди ты?
– Точно.
Мерзкий тип. Десять лет нервы мотал, по три раза на дню помирал. В больницы не ездил – раскалывали на раз! – нас донимал. Прирожденный страдалец. Иов. Очень это дело любил. Слезы, стоны – осклизлый ком протоплазмы.
– Мы, как его законстатировали, тут же шампанского взяли, коньяка, электрошашлычницу приволокли и даже на «катюшу» скинулись: шестнадцать залпов произвели, как стемнело. Врубили мигалки у машин, настроились на «Наше радио» – и в пляс под «Хару-Мамбуру». А самый прикол в том, что он в ванне утонул, с перепою.
Пили чай, смакуя очередное затишье.
– А ты как – отдохнул?
– В полный рост.
– Загорел, я смотрю. Где оттягивался?
– В Крыму.
– Молоток! Сколько сейчас Федька за больняк берет?
– Полтинник сутки.
Сейчас можно, свои вокруг.
– А мы тут без тебя на рейверском марафоне дежурили.
– Понравилось?
– Двух вещей не хватало: лицензии на отстрел и счетверенного пулемета на крышу.
То еще удовольствие – амфетаминовые передозы через весь город челночить: привез, выгрузил и обратно. К стихийным бедствиям приравнивают неофициально. Я вдруг понял, что скучал по всему этому. Ни разу за неделю не вспомнил, а вот поди ж ты! Сижу – свой среди своих, – наслаждаюсь: хорошо! Через месяц, правда, снова осточертеет, но к этому времени уже в Марокко будет пора. – Два-семь, восемь-шесть, семь-пять, один-четыре – все поехали. – Ну, все! Савичевы умерли, умерли все. Добро пожаловать в реальность. – Давай, Ир, Светку дома оставим, ты не против? Зеленая с недосыпа Бачурина С надеждой посмотрела на Скво. Ирка – так и быть! – снизошла: – Оставайся. И Светка, не веря своему счастью, кинулась в койку…
* * *
Перед теликом, заторможенные и прозрачные, сидели Журавлев с Егоркой.
– Чё не спите, придурки?
– Ты понимаешь, пришли, включили, а там трахаются. Стали смотреть. Думали, порнуха, оказалась поебень!
Скво вытащила из шаткой горы в раковине кружку и теперь отмывала ее от жира, макая губку в мерзкие лохмы раскисшего мыла – средства для мытья посуды сестра-хозяйка не выдает, утверждая, что украдут, а вместо полотенца вешает нам старый халат, который к вечеру трансформируется в жуткую, серо-сырую тряпку. Над гвоздем, на котором он обычно висит, несмываемым маркером выведено: У ВОРОТНИКА ЧИЩЕ!
Было сыро, жарко, накурено. Горели конфорки. Открытое пространство отважно пересекали шустрые стасики. Одного из них, изловчившись, Егорка щелчком отправил в огонь.
– Вид редкий, но исчезающий, – удовлетворенно пояснил он.
– Живодер ты, Горушкин, – механически констатировала Скво.
– Давай-давай, пожалей его, – Один-четыре, поехали, один-четыре…
Вернувшись с вызовом, Санек молча положил перед Егоркой бумажку. Тот мучительно застонал: девяносто лет, ушиб руки, и вдобавок не за свою станцию. Четвертый час!!! Поливая матом, мужики вышли. Скворцова пошла спать, а я остался заполнять за нее карты вызова – ничего сложного, стандартные фразы, разбавленные любимыми оборотами начальства, у каждого из которых свои прихваты: одному сойдет «алкогольное опьянение», а другому – исключительно «запах алкоголя в выдыхаемом воздухе»…
* * *
Говорят, есть станции, где по ночам диспетчер ходит и будит, а не орет как потерпевший в селектор. Наши же падлы перебудят всю смену, но оторвать жопу от табуретки и не подумают. Журавлева с Горушкиным под гневный аккомпанемент таки подняли, народ, ворча и ворочаясь, понемногу затих, а я, проснувшись окончательно, вышел пописать.
Рассвело. Был час дворников. Время опоражнивать мусоропроводы и обнаруживать в кустах и подъездах синих, в звонкой весенней изморози, алкашей.
В столовой, нагнувшись над раковиной, брился Веня. Не замечая меня, он негромко напевал детскую песню:
Там, за рекою.
Там, за голубою
за синими озерами,
зелеными лесами
ждут нас тревоги,
ждут пути-дороги.
И под огнем свою найдем,
с которой не свернем.
* * *
Вот это да!
– Прикинь, Вень, я ее последний раз в детском саду слышал.
Он обернулся:
– А-а, вы ее тоже пели?
– А то ж! Я, правда, только припев помню и это еще:
Дали парню трудную работу —
набивал он ленты к пулемету.
А врагов в степи кругом без счета…
И он подпел:
А патронов – каждый на счету!
– Целое представление устраивали: сабли, буденновки, «максим» зеленой пластмассы… Ты кем был?
– Белогвардейцем. А ты?
– И я тоже. Так переживал, помню, что в красные не попал.
Веня засмеялся и протянул руку.
– Здоров, Че. Как съездил?
– 0…тельно! Жизнь за неделю прожил.
– А представь, так целое лето? Все на периоды делишь: это было незадолго до того, как кончились деньги.
– У меня там, кстати, рюкзак украли, в Новом Свете.
– Не пропал?
– Как видишь.
Он открыл холодильник:
– Сок будешь?
Я пил и смотрел на девушку на стакане. Он перехватил мой взгляд и загадочно улыбнулся.
– Джексон завтра отвальную устраивает, в Петеярви. Сосновый бор, озеро… Поедешь?
– Конечно. Народу много?
– Рыл двадцать.
– Восемь-шесть, поехали, восемь-шесть. Скворцова, Черемушкин, Бачурина.
– Завтра, в полпятого, с Финляндского.
– Ладно, договорим после.
Отвезли на Литейный и, не спеша, по Пестеля, вдоль Летнего сада, возвращались домой. Было пасмурно и тепло. Дул ветер. В каналах отплясывала волна; распустив пенный хвост, втягивался под мост стеклянный, плоский как палтус, экскурсионник. На Лебяжьей пропустили на перекрестке единственную на скорой тетку-водителя – хрипатую обаяху Светку Сузи. Вышли вслед за ней к набережной, свернули к Прачечному мосту.
– Вов, прыгнем?
Бирюк пожал плечами: пожалуйста! Притопил газ, взлетели, сорвались с горба – вот она, невесомость!
– Ы-ы-ых!
– Меня, когда на такси работал, молодежь часто просила прыгнуть – целовались в этот момент, модно было.
Довольно длинная фраза для Бирюка.
– Ты на отвальной у Джексона будешь?
Он покачал головой:
– На дачу надо. Сажать пора.
– А ты, Ир?
– Я работаю.
Скво перед отпуском. Третий месяц через сутки пашет, на отпускные работает – один нос на лице остался.
– Он нам и так проставился, на станции. Денег до хрена – продал все.
То ли одобряют, то ли наоборот.
– Эх, черт, завидую я ему.
Оба с недоумением на меня смотрят.
– Чё тут завидовать? Неизвестно куда, неизвестно зачем, ни кола ни двора, ничего…
Я промолчал. Едем дас зайне: кому банками управлять, кому в порнухе сниматься, кому под парусом к горизонту идти…
А все уже были в курсе. – Здорово, крымчанин. Как там погода? – Зашибись.
– Где был?
– Да так… пробежался по-быстрому от Коктебеля до Алушты.
Галя-Горгона старательно искала что-то в шкафу.
– Долго бежал?
– Трое суток.
– Маловато.
Горгона выплыла из диспетчерской и ломанулась вдоль коридора – докладывать.
– Во, блин, как сайгак по кукурузе.
– Не говори. Аж сало на бортах затряслось.
– Все, Феликс, теперь ты в персональной опале.
Принцесска уже пылила из кабинета, держа в руках синий листочек.
– Феликс Аркадьевич, у меня есть все основания подвергнуть ваш больничный лист тщательному изучению.
Вспомнился Булгаков.
– О чем речь, его обязательно надо подвергнуть. Как это так: больничный лист – и вдруг не подвергнуть?
– Боюсь, мы будем вынуждены с вами расстаться.
– Удивительное совпадение! Вы знаете, об этом же я думал сегодня утром, слово в слово причем.
Один – ноль. И настроения прибавилось.
– Все-таки мудры были римляне, – сказал я. – Ничего не имею – ничего не боюсь.
– Ага, особенно в свете последних событий.
Что еще стряслось?
– Вот так вот оставь станцию на час с четвертью. Ну?
Егорка нехотя пояснил:
– Отработавшая смена лишена КТУ за невымытую посуду.
Ё-моё!
– Всем обрезали, даже Бачуриной – вместо тебя выходила, между прочим, по Виолиной просьбе.
– Я х…ю в этом зоопарке. И что?
– Ничего. Огребла со всеми, во имя торжества справедливости.
Принцесска, явно слыша последнюю фразу, мелькнув, закрылась в туалете.
– Так волну надо гнать.
– Беспонтово. Не за одно, так за другое лишат. Найдут за что.
– Да бросьте! Давайте все хором по собственному напишем? Типа, две недели у вас, ребятки, на разрулить, иначе набирайте себе первую станцию. И в прессу стукнем. Полсотни человек разом уволилось – до небес кипиш подымется!
Махнули рукой:
– Забей, Че.
Появилась Горгона.
– Где заведующая?
Егорка, кивнув на сортир, был краток:
– Срет.
Все усмехнулись. Горгона ретировалась.
– Давайте зарубимся.
– Хочешь – рубись.
– А вы?
Отмахнулись: уймись, Феликс.
Ну и хрен с вами со всеми!
– Я слышал, Виолетта Викентьевна, нас КТУ лишили?
Принцесска оторвалась от монитора. Интересно, что у нее там на экране?
– Девяносто семь вызовов станция приняла, бригады с обеда сдергивали, уличная после нуля пять раз выезжала – когда нам посуду мыть?
– Вам, Феликс Аркадьевич, в свете вашего больничного, лучше бы помолчать.
– А почему, собственно? Я здесь много лет в качестве аварийного имущества, – все прорехи мной затыкают, – так что имею полное право…
– Феликс Аркадьевич, тема закрыта.
– Еще минуту, пожалуйста. Я подал ей заявление. Ну, чем не повод? И уйду красиво, весь в белом. Вчитавшись, она подняла бровь: – Ммм… в знак протеста? – Вот именно. Она расчеркнулась. Свобода!
Настроение было прекрасное. Я прошел по Суворовскому, навернул блинов у Наташи и вернулся по Греческому на Некрасова – сунуть нос в «Снаряжение», «Солдата Удачи» и в «Музыканта». Было приятно заценить новую подвеску «Каньона», примерить штатовский «бурепустынный» куртец, дунуть в басовито жужжащую хонеровскую «Комету» и, купив на углу Невского и Литейного морожняк, прыгнуть в троллейбус, неторопливо трюхающий до самого до подъезда.
Дома я подбодрил Пью, смешал для него фарш с яйцами, соорудил себе роскошный омлет и, малость покайфовав в душе, залег, включив «Дискавери» – прямо в разгар битвы за Мидуэй.
Падали в черно-белое нерезкие, выцветшие торпедоносцы, росли, закручиваясь, разрывы, и неожиданно цветная пехота внимательно провожала трассой из «льюиса» зарвавшегося японского лихача.
Приковылял Пью, поводил усами, кое-как влез. На ощупь устроился на груди, вытянул лапы и запел, бесхвостый и увесистый, как рысенок.
Радость возвращения. Полной мерой. Даже через край пару капель.
И жизнь на контрастах.
Ныне и присно.
Etsaeculasaeculorum [93]93
И во веки веков! (лат.)
[Закрыть]!
* * *
Она была точь-в-точь как та девушка со стакана. Невысокая, ладная, с хвостом жестких волос, продетых в вырез бейсболки. Миндаль глаз и сахар зубов, черные джинсы, черные маленькие берцы, старый ЗиМ на стертом браслете.
– Вас как зовут?
– Надя.
И меня продрало до самых костей.
Она топала впереди, отводя низкие ветки.
– Вень, откуда? – шепотом.
– На вызове познакомился. – До меня дошло, почему вчера он так улыбался. – Скажи?
Я не смог – во рту пересохло. Кивнул только.
Я смотрел, как мелькают ее стоптанные каблуки, как оттопыриваются, держась за лямки, загорелые локти, как остаются на волосах зеленые чешуйки с веток; я вслушивался в топоток ее ботинок и пытался поймать ее запах, но на тропе, забивая все, царил исключительно аромат джексоновских шашлыков, а сам Джексон, с тяжелым ведром в руке, словно Кристофер Робин, возглавлял караван.
Потом ставили палатки, волокли сучья, палили костер. Джексон, весь в луке и уксусе, лазил руками в ведро. Потом выпивали, галдели, закусывали; я что-то рассказывал – смешное, потому что все хохотали, – и смотрел на нее, смотрел непрерывно.
– Здорово накрывает, правда?
Это Веня. Прям изнутри светится.
– Давно ты с ней?
– Третий день.
– А Леха?
Он помолчал.
– А с Лехой, Феликс, похоже, все.
Так вот почему она не поехала!
– Я тебя понимаю.
– Мне самому неловко, но, знаешь, после того, как я Надю увидел – всю ночь не спал. Ходил взад-вперед по кухне, весь «Беломор» у Птицы спалил.
Мясо шипело и плевало в пламя мутными каплями. Стали передавать шампуры, привинтили кран к бочонку «семерки», вынули из озера охлажденные пузыри. Коллектив, держа шпаги торчком, стаскивал зубами вкуснятину; Гасконец, директоря разливом, прошелся горлышком над разномастными кружками.
– Ну чё, сменщик, жаль, конечно, что валишь. Ну да ладно, рыба ищет где глубже… Крути баранку, шли фотки. Надоест – возвращайся.
– Ни пуха ни пера, Жень!
Стукнулись, выпили, зажевали. Костер обступала непроглядная темь. В него кинули лапника – ударил жар, озарил, отсалютовал россыпью искр, – народ, извиваясь, отполз подальше. Стреляли сучья. В углях оплывала бутылка. Переговаривались.
– Слышь, Жек, без проблем вообще оформляют?
– Наши – да. А эти вконец достали – то одну им бумажку, то другую – ноги на нет стер, пока бегал. На члене прыгал, как Тигра на хвосте…
Джексон светится именинником: паспорт, виза. Зеленая карта, работа чуть ли не по прилете – в сорок лет жизнь только начинается! В последнюю смену, под утро, пока Митька истории заполнял, он надул резиновых перчаток, штук шесть, привязал к мигалкам и в таком виде двинул на станцию. Люди на работу идут, сизые, злые, а глаза поднимут – и улыбаются. Встали на светофоре – мужик. Сует пару «Калинкина»: пацаны, блин, такой депрессняк с утра, а вас увидел, и полегчало! Нате вот, глотните холодного…
– Ты только смотри там, как Гарик не стань, а то ведь он теперь москвич у нас, целых полгода. Ты б слышал, как он «алло» произносит. С ним трешь – впечатление такое, что еще минута, и станет уверять, что московский кал вкуснее.
– Не, Жека не станет. Давай, старик, за удачу на канадских дорогах.
Захорошело. Отвалились и закурили. Станишевский пел, ему с ленцой вторили – объелись. Неожиданно вступила Надя. Прикрыв глаза, она вела второй голос, время от времени наполняя мелодию зудом маленького варгана. Выходило удивительно хорошо. Варган жужжал, завораживал, песни скатывались в минор, рождая светлую грусть, и народ приутих, пустив по кругу пузырь с вермутом. Они запели «Поплачь о нем». Костер опал, и я смотрел на ее очерченное контрастом лицо. Щелкали сучья; шипела, выпуская воздух, брошенная в огонь пластиковая бутыль.
Кольнула невралгией тоска, вернулось прежнее осеннее одиночество. Накрыло, словно стаканом. Я отодвинулся в тень и сидел, изучая шнурки на ботинках, а потом встал и ушел в лес. Сунул руки в карманы и пошел, не разбирая дороги, загоняя в горло злые, колючие слезы.
Под ногами стонало и трескалось. Стонало и трескалось в средостении [94]94
Средостение (анатомич.) – отдел грудной полости, расположенный за грудиной.
[Закрыть]. Я пер напролом, с хрустом, ничего не видя перед собой, и в какой-то момент с размаху налетел на ее маленькое смуглое тело.
– Ты? – Я был поражен, как никогда в жизни.
Она привстала на цыпочки и маленькие плотные груди уперлись мне в ребра. Я замер.
– Знаешь, – она подняла глаза, – я, похоже, тебя люблю.
Я не поверил. Ее губы коснулись моих, и, кажется, я потерял сознание. Меня куда-то кидало, мимо проносилось что-то огромное и мерцающее… Я ничего не видел и не помнил – я был не здесь. Потом стало резче.
Она приблизилось, и на лицо мне упал поток черных волос. Я ощутил свои руки. Они обнимали. По пальцам, покалывая, перетекал ток; я провел ими по ложбинке, протянувшейся вдоль спины, и испугался – так замолотило в висках. Было жарко. Земля уплывала.
– Умрем в один день?
Она очень серьезно кивнула. У меня вновь перехватило в горле, но это было бы уже слишком, и я осторожно привлек ее к себе…
* * *
Надя лежала в ванне, выставив из воды узкое, в хлопьях, колено. Я сидел рядом, опустив руку в невесомую пену. Новое, небывалое ощущение поднималось в душе. Я прислушался к нему и понял – я счастлив. По-настоящему. Впервые в жизни. Глядя на нее, я тихонько запел:
– Уэн ай гет олдер, лузин май хэйр…
И она подхватила:
– …мэни йерс фром нау [95]95
«Когда я стану старым и лысым…» – первая строчка битловской When I'm Sixty Four.
[Закрыть].
Есть! Есть!!! Это – оно! Я нашел ее. Наконец-то я ее нашел!
Пришел кот, прислушался, повертел головой.
– Пью, это Надя. Надя, это Пью, английский пациент.
Пью сипло мяукнул, дескать, вас понял, продолжаю обход, и скрылся.
– Кто его так?
– Не знаю. На посту ГАИ подобрал, в Торжке, три дня назад.
– Бедный.
– Да уж… Слушай, а не устроить ли нам по такому поводу новоселье?
Звонок.
– Надя у тебя, Че?
Вот и все.
– Да.
– Позовешь?
Раз, два… ну?
– Нет, Вень… Прости.
Он шумно вздохнул.
– Феликс!
– Ты не представляешь, старик, как мне жаль.
Пауза и частые гудки в трубке.
– Кто это? Веня?
Клетчатая ковбойка поверх мокрой кожи, тюрбан из полотенца на голове, маленькие крепкие голени. Я кивнул.
– Все?
– Да.
* * *
Последней его видела Настенька. Он спускался по эскалатору с рюкзаком и, заметив ее, отсалютовал двумя пальцами от виска. На работе он больше не появился.
* * *
Но я надеюсь – мы встретимся. Надеюсь, что он не останется на островах Тристан-да-Кунья и не сгинет в песках Тенере [96]96
Тенере – пустыня в Нигере.
[Закрыть], не провалится в трещину на Земле Франца-Иосифа и не попадет в лавину в Каракоруме [97]97
Каракорум – пакистанская часть Гималаев.
[Закрыть].
Я надеюсь встретить его, обнять и сказать то, что хотел сказать ему все это время: что он дорог мне, что мы – так уж сложилось – братья, только он намного-намного старше, что я люблю его и благодарен ему за все: за Надю, за жизнь, которую мы ведем, за то, что он спас меня. Мы пригласим его к себе в дом, который, я знаю, придется ему по душе, потому что в нем нет ничего лишнего, но самого необходимого вдоволь. И мы попросим у него прощения. И он поймет.
Я очень надеюсь на это, а пока пусть у него все будет хорошо – и спички не отсыреют, и собаки не подведут.
Я верю: это незримо дойдет до него, и когда-нибудь он вернется. А пока пусть он бродит. И пусть его сопровождает Удача.
Там. Далеко.
За синими озерами, зелеными лесами.








