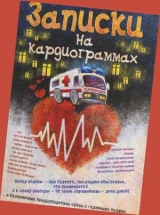
Текст книги "Хроники неотложного"
Автор книги: Михаил Сидоров
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц)
– Чё говорит?
– Ничего. Глухой отказ.
– Ну-ну. А чё вызвали-то?
– Старший приказал. ВИП-персоны.
Спец посмотрел на главу семьи. Тот вышел вперед:
– Я – депутат Законодательного собрания Зверинцев, моя жена входит в совет директоров телекомпании ВГТРК «Пятый канал», а ее мать заведует кафедрой…
– Ну и что?
Депутат как на стену с разбегу наткнулся.
– Как что? Мы порядочные люди, – он сделал акцент на порядочные, – наш сын учится на юридическом, он лучший на своем курсе, – Северов пихнул меня в бок, – а этот… утверждает, что наш сын наркоман.
– Что ж, бывает.
– Я вижу, вы тут все заодно. Я этого так не оставлю, я – депутат Законодательного…
– И что нам теперь, во фронт встать? Ура троекратное? Диагноз очевиден. Не верите – не надо. И пугать нас тоже не надо. В больницу поедет?
– В какую?
– В токсикологию.
– Еще не хватало!
Токсиколог обернулся к своим:
– Сделай ему налоксон, и едем отсюда.
– Так мы свободны?
– Валяйте.
Двинули к выходу. В дверях Веня остановился.
– А ведь я оказался прав, любезный.
Нас старательно не замечали.
– Извиниться, как я понимаю, желания нет?
– Ну что ты, Вень! Они нас и за людей-то не держат.
Аристократы помойные.
ЧеремушкинЛариска проставилась. Сидели в столовой, теснились, роняя пепел в жестянки. Ополовиненная северовская текила, тягучий оранжевый «Адвокат». – Поздравляем, Ларис. Удачи тебе и здоровья несокрушимого. Держи! Электрическая зубная щетка. – Оба-на, дай заценить! Включают, меняют режимы, слушают, как жужжит. – Вещь! Помесь вибратора с унитазным ершиком.
– Универсальная штука. Мне, пожалуйста, пейджер с вибратором. Заказ понял, мадам. Вопрос: что во что встроить?
– Говорят, уже холодильники стали выпускать со встроенными телевизорами, для кухни.
– Ага, и мобильники с искусственной вагиной.
– А чего, запросто. Помнишь, везли бойца в академию и на Фонтанке в пробке застряли? Рядом мерс, стекла тонированные, левое боковое приспущено, чел за рулем достает член, натягивает на него трубку, сует шнур прикуриватель – и сидит, тащится. А мы-то в «форде», мы выше, нам-то как на ладони…
– Кстати, насчет ладони… Шереметьев на инфаркт приезжает, а там дедушка: ой, кричит, помираю, скорее дайте мне в попу чего-нибудь! Шеремет ему: дадим, говорит, дедуленька, конечно дадим. И на публику: мы даем в попу, в руку и под язык…
Накурили – не продохнуть. Разномастные кружки, гнезда шоколадных конфет, блюдца с остатками тортика. Хoxoт, гвалт, запотевшие стекла.
– Окно откройте, пусть проветрится.
– Холодно. Че, дай куртку.
Леха сидела с Северовым. Я готов был поспорить, что утром они уйдут вместе, и в глубине души я ей даже завидовал – за несколько дней она узнает его больше, чем я за несколько месяцев.
Сейчас она расписывала сегодняшнее столкновение с Третьяковым.
– Смотри, Вень, он у нас карты вызовов рецензирует. Облажаешься – крышка!
– Вот как раз там у меня все в ажуре – ни одна падла не подкопается. Вплоть до орфографии и пунктуации: кастрировать нельзя повременить.
– Не зарекайся. Вон у нас Скво написала, с устатку:
…сбит вне зоны пешеходного перехода легковой автомобилью «газелью».
– Ага. А Гарик:
*…неоднократно вступала в половые контакты с гражданами негритянской национальности».
– Ну, он вообще уникум был. Помнишь, как он асцит [29]29
Асцит – скопление жидкости в брюшной полости.
[Закрыть]родил? Приезжает на боль в животе; там ханыга воо-от с таким животом – беременность отрицает. Грязная, вонючая, когда последние месячные, не помнит. Гарику не в кайф за живот ее трогать – ставит цирроз с асцитом и везет в Кузницу. Сдает и сидит на батарее, историю пишет. Тут к нему зав приемного выходит: иди, говорит, полюбуйся на свой асцит, женского пола. Прямо в смотровой родила. Ему потом долго прохода не давали, – А это его помнишь: «В правой височно-теменной области определяется впуклость костей черепа»? Гарик, блин, нет такого слова! Почему нет? Раз есть выпуклость, значит, есть впуклость, все логично.
– А как он на маточное [30]30
Маточное – здесь: маточное кровотечение.
[Закрыть]ездил? Вернулся и сел чай пить. Входит Рахманов, он у нас тогда заведующим был, и так брезгливо, двумя пальцами, несет историю, а она вся в крови засохшей. Игорь Вадимыч, говорит, вы меня, конечно, извините, но я что-то никак не пойму, что вы с этой картой вызова делали – затыкали? Гасконец, помню, даже поперхнулся тогда…
– Восемь-шесть, поехали. Повешение.
– Блин, ну вам везет сегодня!
– Не говори. Полная параша.
– Жевку возьми.
– Не, спасибо, у меня «полицай» есть…
АлехинаЗдесь все было ясно с первого взгляда. Обрезок ремня с надписью «Wrang…», острый как бритва нож, поблескивающая на перилах пряжка. В квартире полно ментов, а у разобранной постели растерянно стояли наспех одетые хозяева: долговязый очкарик и гибкая, как березка, синеглазая девушка. Присутствовали и герои дня – хорошо одетый молодой человек и его «случайный» спаситель. Демонстратор-суицидник и ассистент.
Слепой бы увидел: продумали и сговорились. Он умолял, она отказала, он повесился. Верный друг полоснул ножом по ремню и позвонил в дверь.
Вызовите скорую, тут человек повесился!
Молодой человек полулежал на кровати. Висеть ему довелось две секунды, но он, как водится, непроизвольно описался и сейчас, расставив колени, демонстрировал окружающим свою мокрую промежность.
Все чувствовали неловкость, но пострадавший этого не замечал. Он говорил о любви.
Девушке было мучительно стыдно. Северов осматривал ножик. Повертел в руках, попробовал лезвие и одним движением развалил чуть ли не надвое увесистую «Из рук в руки». Выразительно глянул на суицидника. Тот осекся. Менты понимающе ухмылялись.
Участковый пытал соучастника:
– Вы знакомы с пострадавшим?
– Нет.
– Вы здесь живете?
– Нет.
– Тогда что вы здесь делали в первом часу ночи?
– Шел в гости.
– В какую квартиру?
– А вам не все равно?
– Вы лучше отвечайте, молодой человек.
– А почему я должен вам отвечать? По-моему, вы не имеете права…
А вот это зря! Мусорам про «не имеете права» лучше не говорить. Это он крупно ошибся.
– У вас ведь нет ни сумки, ни рюкзака?
– А какое это имеет значение?
– Самое непосредственное. Раз у вас нет ни сумки, ни рюкзака, значит, этот нож был у вас в кармане, так? Так.
Теперь смотрим: лезвие больше десяти сантиметров, имеется кровосток и упор для пальцев.
Участковый саданул лезвием по бетону дверного проема и осмотрел кромку.
– Изделие выполнено из твердой, неотпущенной стали и остро заточено. Холодное оружие. Разрешение на ношение, пожалуйста.
– Да такие ножи в любом ларьке продаются!
– Разрешение есть?
– Да какое разрешение? Вам что, придраться, что ли, не к чему?
– Так. Разрешения нет. Незаконное приобретение, хранение и ношение холодного оружия плюс публичное оскорбление сотрудника правоохранительных органов при исполнении служебных обязанностей. Проедемте с нами.
Попал парниша.
– Так, теперь с этим. – Участковый обратился к Северову: – Данные мы сняли, куда вы его?
– Еще не знаю, запросить надо.
– Я никуда не поеду.
– Вопрос обсуждению не подлежит.
– Я еще раз говорю: Я Н-И-К-У-Д-А НЕ П-О-Е-Д-У!
– А хотят ли вас здесь видеть, вы не задумывались?
– Это уже не ваше дело.
– Ошибаетесь, мое. Уж коли вызвана скорая, то ответственность за пациента целиком и полностью ложится на меня.
– Я скорую не вызывал.
– Вы – нет, а ваш товарищ – да. Кстати, по предварительному сговору с вами же.
– Не несите чушь. Я не знаю его.
Веня ухмыльнулся.
– Ай донт ноу хим! Истинно говорю тебе: еще не пропоет петух, как ты трижды отречешься от меня. В общем, так, драгоценный, с боем или без боя, а ехать придется. Лучше это сделать без боя. Тогда я пишу в диагнозе «демонстрация суицида» и после осмотра ЛОРа вы свободны, как ветер прерий. В противном случае мы вас пеленаем, рисуем суицидальную попытку и везем в дурку, со всеми вытекающими.
– Вы гарантируете, что после осмотра меня отпустят?
– Я ничего не гарантирую. Сочтут нужным оставить – останетесь. – Северов повернулся к старшему: – Капитан, нам бы сопровождающего.
– Обратно отвезете?
– Не вопрос!
– Тит, съезди.
– Я без нее не поеду. – Суицидник посмотрел на мента. – И дайте мне слово офицера, что…
– ТЫ, ДЕШЕВКА СРАНАЯ, А НУ, ПОДНЯЛ ЖОПУ И ПУЛЕЙ В МАШИНУ! ЛЕЖИТ ТУТ ОБОССАННЫЙ, СУКА, ГОЛУБУЮ КРОВЬ КОРЧИТ! СЛОВО ОФИЦЕРА ЕМУ ДАВАЙ! ВСТАЛ! Я СКАЗАЛ!! ГОВНО!!! И ТОЛЬКО ВЯКНИ ЕЩЕ, ПАДАЛЬ, КЛИТОР ВЫРВУ!
Все посмотрели на меня с удивлением. Юноша откинулся на постель.
– Разговор окончен.
– Вы опять за свое?
– Я все сказал.
Влюбленного заломали. Он истошно орал и, повисая на руках, выкрикивал на весь дом: «Катя! Катя!», усиливая всеобщее омерзение. Менты озверели. Его спасало только наше присутствие, он это понимал и орал, брызгаясь, еще громче. Северов резюмировал:
– Я б такими наполнял баржи и топил в Финском заливе.
Щелкнули наручники, чмокнуло несколько оплеух. Девчонка не выдержала:
– Оставьте его. Я поеду.
– Не стоит – он же только этого и добивается.
– Я знаю. Он мне уже так надоел.
– Так оставайтесь. Слышь, парень, не пускай ее!
– Не надо. Не надо, Саш, я поеду. Я с ним поговорю…
Мы курили, стоя на мозаичном полу приемника. Я, Веня, девушка Катя и мент Тит. Под ногами угадывалось выложенное при царе «SALUSAEGRОTISUPREMALEX» [31]31
Здоровье больного – высший закон (лат.).
[Закрыть]. Надпись пересекали дорожки следов и разводы половых тряпок. Северов ухмыльнулся:
– Символично.
Ромео обследовался. Добившись своего, он, лежа раненым героем, всю дорогу рассказывал Кате о своих чувствах, а узнав, что по ее просьбе едем не в дурку, повеселел и даже попытался вести задушевную беседу с ментом. Но тот за все время не произнес ни единого слова и лишь в приемнике, склонившись над зажигалкой и глянув вслед, коротко бросил:
– Обсосок.
Катя частила затяжками, не зная, куда девать ломкие пальцы. Скулы ее заострились, глаза потемнели, лицо осунулось.
– Да-а, довел он тебя. Бить пробовали?
– Некому.
– А парень твой?
– Его самого несколько раз отметелили. Этот подослал.
– Что, сам не пошел?
– Да какое тут «сам», о чем вы?
Тит угрюмо хмыкнул.
– Он гопоту подсылал, а сам невдалеке стоял, прятался. Потом, когда понял, что Саня не отступит, – травиться начал. Нажрется таблеток, записку напишет и звонит, прощается. Со мной, с родителями, с друзьями… Они, естественно, в скорую. Те приедут – дверь открыта. Не запирался. И таблетки подбирал неопасные. Мамаша его достала, мои меня задолбали, друзей общих всех подключил. Мы уж с Сашкой и квартиру сняли втихую, и телефоны сменили – все равно выследил. Вот, теперь новое шоу придумал – вешаться.
– Ну, и на фига ж ты с нами поехала?
– Я не знаю… Ничего к нему не чувствую, одно от вращение. Поговорить хотела по-хорошему.
– Ну и как, поговорила?
– Ни слова не дал сказать. Вон, товарищ сержант слышал.
Товарищ сержант прикурил новую сигарету.
– Зря ты его, доктор, в дурдом не свез. Мы б с ним в следующий раз не церемонились.
– Черт его знает, может, и зря… дай-ка и мне одну… думаешь, будет следующий раз?
– Да, как два пальца!
– Знаешь, такие вещи даром не проходят, это все равно что Провидение искушать. Выберет другого напарника, а у того, скажем, зуб на него чуть ли не с детства – полюбуется на конвульсии и уйдет, насвистывая: а повиси-ка, брат, подольше!
– Слушай, – Тит обратился ко мне, – а это не с то бой мы прошлой осенью синюшника констатировали? Тоже на ремешке вешался, попугай.
Было такое.
– А-а, помню-помню. Он еще на ремень ваты навертел и бинтом обернул, чтоб не давило. А вешался стоя: просто подогнул ноги, типа, если что – встану об ратно.
– И что?
– Не встал, Кать. Осиротел город.
Появился спасаемый.
– Слушайте, я еще на входе хотел спросить: а что здесь на полу написано?
– Сюда на носилках, отсюда в гробу!
– Ха! – В голосе клиента проскальзывало недоверие.
– Как дела? Горлышко не болит?
– Ничего не нашли. Отпустили.
– Ну, еще бы! Готовился, наверное, в Сеть лазал, да?
Он уже держался свободно, с наглинкой.
– Зря иронизируете. Вам, как доктору, это было бы познавательно, особенно про отравления: все расписано – и дозы, и комбинации… Рекомендую.
Господи, как же она с таким жить-то могла? Веня хотел было что-то сказать, но опередил Тит:
– Ну, ты мудак! – Его вдруг конкретно прорвало. – Ну ты, бля, чмо! Вали отсюда, чтоб я тебя здесь не видел!
Спорить с представителем власти молодой человек не хотел. Он повернулся к Кате:
– Пойдем? – и потом к нам: – Вы нас не подвезете?
– Нас?
– Да. Ко мне, на Руставели, я заплачу.
ОН ЕЕ ДАЖЕ НЕ СПРАШИВАЕТ!!! От стыда и унижения Катя заплакала.
– Божья роса – да, чувак?
– Не понял.
– Пешком дойдешь.
Мы вышли.
– Слышь, сержант, сядь в кабину. Вова, давай туда же, а потом в отдел, ладно? – Веня достал мобильник. – Говори номер, Кать.
– Зачем?
– Говори, говорю.
– Восемь-девять-один-один, семь-семь-два, два-один-восемь-два…
– Алло, Саша? Северов, со скорой. Катя с нами, мы едем, минут через пять будем…
– Да зачем, не надо. Я сама…
– Все в порядке… Да… Встречайте…
– Ф-ф-фу-ты, ё! Сколько время? – Без пятнадцати три. Шесть часов продержаться… Остановились. Бирюк заглянул в салон. – Идите, смотрите – тело лежит. – Да твою ж мать!
Пьянец.
– Цел?
– Цел. Спит, сволочь. Может, вытрезвон вызовем?
– Ага, сейчас – помчались они к нам среди ночи, в рукава не попадая. Давай его лучше в подъезд затащим? К батарее прислоним, чтоб не замерз, а поутру сам уйдет.
– Слушай, ну его на хер! – Это уже Тит вступил. – Мало ли, помрет он там, и нам в восемь утра труп подкинут – в самую пересменку.
– Блин!
– Ну, чё ты? Ты ж понимаешь…
Северов помолчал, решая.
– Ладно, «после судорог» ему нарисуем и в Солидарь скинем.
Они закинули алкаша на пол, тот даже не рыпнулся.
– У-у-у, паскуда – поубывав бы! Двигаем, Вов…
АлехинаУтром все были слегка не в себе. Начальство отсутствовало – суббота, и на столе стояли банки с джин-тоником. Корзина в углу была заполнена ими доверху, но это не спасало ее от могучих баскетбольных бросков. Жестянки летели по навесной траектории, как снаряды из гаубицы, и со звоном приземлялись на вершине внушительной пирамиды, разваливая без того шаткое сооружение. – Три очка. В яблочко! – Дай я. Бросок, полет, гpoxoт. – Мазила! – Ладно-ладно – где ты сидишь и где я. Сравнил. Появился Северов, уже собранный. – О! Ты, я вижу, времени не теряешь. Поправишься? – Не. Домой, спать! – Когда в следующий раз?
– Через три дня. – Не надрываешься. – Так молодость же уходит. Буэна вентура, амигос!
АлехинаЯ тронула его за плечо:
– Привет. Выходишь?
Северов вытащил из ушей лапки наушников.
– Что слушаешь?
– Ю-Би сорок. Самое то после суток.
Двери открылись. Он вышел первым и подал мне руку.
– Тебе куда?
– Прямо.
– Пойдем кофе выпьем.
– Денег нет. Аллес гемахт.
– Я угощаю.
– Не хочу.
– Пойдем.
Он внимательно посмотрел на меня:
– Что, так серьезно?
Я кивнула.
– Тогда пошли ко мне. Позавтракаем, как люди. Не торопишься?
– Нет.
Мы шли по наледи, скользя и взметая фонтанчики талой воды. Он оттопырил локоть, и я взяла его под руку. На душе было хорошо и спокойно. Мы молчали.
– Чудно, правда?
– Угу.
– Возьмем что-нибудь?
– Не надо, все есть. Ты творог любишь?
– Люблю.
Разбрызгивая грязь, пролетали маршрутки. Мы выжидали. На лицо оседала противная влага.
– О, «окно». Бежим?
В подъезде было тепло и сухо. Когда мы зашли, под лестницей завозилось и из-под нее выползли две собаки.
Одна рыжая и суетливая, другая угольно-черная, мрачная, непрошибаемая. Рыжая егозила, черный же молча ткнулся Вене в ладонь и вопросительно посмотрел вверх. Северов вытащил пакет с обрезью и разделил между ними. Псы зачавкали.
– Твои?
– Общие. Это – Базука, а этот, черный. Маузер.
– Давно они тут?
– Года два где-то. Зимой появились, щенками. Холодно было, жалко. Домой, правда, никто не взял, а так – пустили. Половики постелили, миски поставили. Как подросли, ошейники им купили.
– А кормит кто?
– По очереди.
Мы поднимались. Стены закатаны светло-зеленым, потолок – свежей известкой, а огромные, до потолка, рамы выкрашены белой краской. Лампы закрыты плафонами, перила – гладкими деревянными планками.
– Только цветов не хватает.
– На зиму убираем – мерзнут.
– С ума сойти! У нас, помню, на станции Че с Паком хотели сортир облагородить – так никто не скинулся, а тут целый подъезд…
– Ну, у нас тоже не все гладко шло. Была пара уродов – харкали, бычки кидали, счетчики повадились свинчивать. Мы их предупредили разок, а потом пришли и отметелили всем подъездом. Каждый по разу сунул – в момент исправились.
– Сурово.
– Зато эффективно. Пришли.
Он жил на четвертом. Деревянная дверь, один замок.
– Входи.
Маленькая прихожая, высокое, в рост, зеркало. На против двери фотография в рамке – узкоглазая девочка заразительно улыбается в объектив. На стенах проклеенные прозрачным скотчем карты и яркие красно-белые флаги в звездах и полумесяцах.
– Ну, блин, ваще-е! Откуда?
– Этот – из Турции, а тот из Туниса.
Прикрученная к стене панель с крючками: пуховая жилетка с буквами WWF, теплая клетчатая рубаха, зимняя куртка с карманом, словно у кенгуру. Ящик для обуви, треугольный столик в углу. Ключи, спички, перчатки, мелочь. Пачка квитанций, зажатая канцелярской клипсой.
И чисто. Тепло и чисто, как в подъезде, – Проходи, обнюхивайся; я скоро.
– А ты куда?
– На кухню, завтрак готовить.
– Можно в ванную?
– Валяй. Чистые полотенца там.
– Можно я душ приму?
Он поднял бровь.
– Сильно! Принимай.
Совмещенный санузел. Все в кафеле, убогая сидячая ванна заменена простой душевой кабиной с прозрачной, усеянной морскими звездами занавеской. Рядом стеллаж: наверху полотенца, внизу корзина для барахла. Ярчайший свет, стиральная машина в углу.
– Держи.
Он просунул в дверь выцветшую ковбойку и через секунду уже гремел посудой на кухне.
Блестящие краны, ласковая вода. Я долго стояла под душем, сдерживая нетерпение, наслаждаясь предвкушением нового, ни на что не похожего…
* * *
Он пробарабанил в дверь.
– У тебя там еще жабры не выросли? Выходи, кушать подано…
* * *
На столе стоял завтрак. Яичница с жареными сосисками, творог, кофе.
– Ух ты! Америка. Каждый день так завтракаешь?
– Только после работы. А так, обычно, овсянка, яйцо, жареный хлеб…
– У тебя так кайфово. Особенно в ванной.
– А то! Сам делал. Каждую плитку помню, как кум Тыква кирпичи. А этот… этот я купил на те деньги, что скопил на курицу к празднику…
– А мебель? Тоже сам?
– Ну. ДСП, полсотни шурупов и самоклейка.
В кухне светло и не тесно. До всего можно дотянуться не сходя с места. Мягкий свет, фотки на стенах.
– Твои?
Он кивнул и отхлебнул кофе.
– Передай печенье.
– Если б не я, наверное, сразу в постель завалился?
– Не. Сначала поесть, затем в душ и только потом спать. Как проснешься – еще раз в душ, и три дня как белый человек. – Хорошо тебе. Многие после суток вообще не ложатся – семья, обед, уборка или на вторую работу надо, а с утра снова на смену.
– Ну и зря. Не приведи господь, оторвет ноги по самый член – о чем тогда вспоминать? О битой пьяни? немытых бабах с опрелостями под грудями?
– Бррр.
– Знал я одну тетку – тридцать лет на одной станции отработала. Вышла на пенсию, встречаю ее через год: что, спрашиваю, Инн Санна, скучаете по скорой? А она: Веня, я ее ненавижу! Я сама у себя жизнь украла – такое ощущение, что все эти годы в коме была.
– А если другого ничего не умеешь?
– Это только так кажется. Посиди, подумай, мечты свои вспомни.
– Мечтой сыт не будешь, все равно на что-то жить надо.
– Ларис, крыша есть, тепло подводят, одежды навалом, в кране вода горячая, в магазине еда готовая – ни сеять не надо, ни жать, ни скотину откармливать. Знай, чего хочешь, делай это и будь счастлив. Он потянулся. – Ладно, осваивайся. Я в душ…
Окна выходили на восток и на юг. На уровне подоконника качались верхушки деревьев. Балкон застеклен, балконная дверь распахнута, в комнате светло и просторно. Легкая тахта – простыня растянута квартетом хирургических «цапок», – и стеллажи от пола до потолка. Книги, кассеты, компакты. По обе стороны от окна, в углах, треугольные столики – на одном компьютер, на другом усилитель.
Обои под мешковину. У торцевой стены два узких, полметра шириной, шкафа: ковбойки, свитера, джинсы. Штаны с набедренными карманами. В другом – комплекты белья и два чистых, пахнущих порошком, спальных мешка. На стенах фотографии в рамках, промеж стеллажей две гитары.
И повсюду висели «мелодии ветра». По комнате гулял легкий сквозняк, и они непрерывно позвякивали. Вместо люстры свисала «мелодия» в метр длиной, а комнату освещали светильники на прищепках, дававшие мягкий и рассеянный свет.
Я тронула большую «мелодию». Звук был потрясающий.
И ни телевизора, ни видео, ни даже радио. Первый раз в жизни я оказалась в доме, где нет телика. Даже у самых пропитых люмпенов, спящих Ha драных матрасах без простыней и на подушках без наволочек, непременно имелись телевизор и видик. Северов обходился без них. Он даже без магнитофона обходился – просто плеер, воткнутый в усилитель. И горы компактов. Я взяла один, на нем было написано «Макс». Нажала power, вставила диск…
Шум электронного ветра, гитарные переборы:
Мелодия накатывала, обняв душу, нашептывая что-то ласковое, гладила, успокаивая…
О тебе птицы соберутся в клин.
О тебе мне напомнит сизый дым.
Пустота, только мокрые глаза.
Это дождь и последняя гроза…
Ветер раскачивал город
и барабанил дождем в стекла.
Колокольчики звякали: тинь-тинь-тинь.
Я стояла и слушала.
Макс. Наверное, приятель, иначе бы он написал по-другому.
Скоро снег чистотой наполнит мир.
Я вернусь в туфлях стоптанных до дыр.
И никто мне не сможет помешать
просто жить и надеяться и ждать
Он обнял меня сзади. – Нравится? – Да. Это кто? – Так, корефан один. – Это он сам написал? – Сам.
лишь тебя…
– Про меня песня. Знаешь, я вчера как увидела, сразу поняла – ты!
И тут мы наконец-то поцеловались…
За окном поет пурга о тебе,
за окном лежат снега.
Пустота, потолок и три стены.
Мир опять в ожидании весны…
Плеер был запрограммирован на повтор. Я не слышала ничего, а сейчас включилась опять. Веня сонно потянулся ко мне и, зарывшись в подушку, затих.
– Ты спишь?
Он не ответил.
Спать не хотелось. В груди жгло и ворочалось, словно устраивалось поудобнее и никак не могло устроиться.
Он уйдет!
Я привернула громкость. На стеллажах выстроились картонные фотоальбомы. Я потянула один.
* * *
Мосты, каналы, аккуратные домики. Яркие краски цветочных рынков. Конопля в кадках. Обкуренный Северов с потусторонним взглядом. Он же, с гитарой, играет в дуэте с белокурым и тощим хиппи с губной гармошкой – оба изогнулись как луки, не замечая стоящих вокруг туристов…
* * *
Париж. Триумфальная арка. Художники с мольбертами. Большая белая церковь. Дядьки, продающие книжки на набережной. Парк. Северов и льноволосая девчонка: положив головы на плечи друг другу, спят в спальниках на газоне…
Хиппи дует в гармонику, Веня слушает. Оба сидят на каком-то мосту, поодаль валяются рюкзаки, а позади них Нотр-Дам… Все трое под вывеской STALINGRAD [33]33
Станция парижского метро.
[Закрыть]…
Я обернулась. Он обвился вокруг подушки. Смуглый, прокаленный солнцем. Меня опять захлестнуло. Я хотела быть с ним. Всегда и везде…
* * *
Море. Лазурное, настоящее море. Причудливо изрезанные камни, палатка, загорелые голые тела. Летящие по ветру выгоревшие волосы. Котелок на огне. Увешанная фенечками, синеглазая русалка с индейской флейтой, Веня и его патлатый приятель, греющий на зажигалке какой-то камешек…
Растущие из каналов дома, моторные лодки у подъездов, сохнущее над водою белье. Черные, лакированные гондолы. Венеция. Все та же компания плюс скуластая, голенастая, наголо бритая негритянка. Сидят вчетвером, на краю канала, обложенные едой и бутылками…
И в Венеции он отметился. Я посмотрела на корешки: Швейцария, Югославия, Греция; Норвегия, Мальта, Сардиния; Хибины, Тянь-Шань, Монголия…
Когда ж ты успел, Веня, тебе ж тридцатника даже нет?!
Мы лежали в обнимку, на коже еще блестел пот. – Когда ж ты все успеваешь, Вень? – В смысле?
– Да, я альбомы твои посмотрела. Ничего?
– А-а. Не знаю, успеваю как-то. То больняк возьму, то график раздвину. На лето вообще увольняюсь.
– А деньги? Это ж надо что-то есть, где-то спать, как-то перемещаться.
Он ухмыльнулся.
– Чего ты?
– Одни и те же вопросы: что вы ели, где вы спали и сколько стоит?
– Так интересно же. Из всех моих знакомых ты один, кто путешествует. Остальные если и едут, то в Турцию и Египет по путевке. Ты в Египте был?
– Был.
– А в Европу сколько раз ездил?
– Много.
– Здорово. А с кем?
– Когда как. Последний раз, в Амстердаме, с чехом одним стусовался. Потом полячку в Париже встретили, втроем покатили.
– А негритянку? В Венеции?
– В Вероне. Лали, с Мартиники.
– Это где?
– Вест-Индия, Карибское море.
– Блин, офигеть! А у нас все по дачам или бухают весь отпуск. И всех разговоров – бабло да работа. Ты весной тоже уволишься?
– Иншалла.
– Это что значит?
– Восточная мудрость. Если будет на то воля Аллаха…
* * *
Мы провели вместе сутки. Под Марли, Джонни Митчелл и какого-то греческого электронщика. Прежняя тоска улеглась, отступила, и остались только нежность и простота. И ощущение безопасности, сознание того, что я дома…
– Двадцать седьмая, поехали. Алехина, Черемушкин…
9.02 – и все, до единого, с вызовами.
– Арбайтен, швайне!
Че сегодня как та рыжая из-под лестницы – так и вьется вокруг, так и вьется. Не можется ему, распирает от любопытства.
– Ну, что там, Лар?
– Там – где?
Наткнулся, понял, ушел на крыло:
– В смысле – на что едем?
– Абсцесс [34]34
Абсцесс (мед.) – гнойник.
[Закрыть]повезем, ягодичный. Из Мечникова на Перовскую [35]35
Мечникова, Перовская {разговорн.) – названия питерских больниц.
[Закрыть].
Дорогой трепались.
– Я чего-то не догоняю: в Мечке гнойных хирургов не стало?
– Они, по-моему, вообще в упадке. Джексон там в терапии лежал, приходит, рассказывает, вечером на укол, а ему: подождите, вас вызовут. Час не зовут, второй… Лег спать. Среди ночи чует: откидывают одеяло, стаскивают штаны и иглой в задницу раз! И не протыкают. Еще раз – хоп! И та же фигня. Изо всей дуры-силы: н-н-на!!! Чуть к матрасу не пригвоздили. Ампициллин болюсом [36]36
Болюсом {мед.) – все содержимое шприца одним толчком.
[Закрыть] – бли-и-и-н! баян в миску – дзынь! Джексону строго: спите! и лошадью по коридору: цок-цок-цок. Акустика – как под аркой Главного штаба. Половина второго, сна ни в одном глазу, нога отнялась – все путем, лечимся дальше!
Рассмеялись. Феликс набрал воздуха.
– Как новый доктор, Ларис? Говорят, вы ближе сошлись.
Ах ты ж любознательный наш!
– Кто говорит?
– Ремнев говорит. Видел, как вы под руку шли. Сам не свой приехал, подробно описывал.
Ремнев. Тонконогий, пузатый жмот с глазами навыкате. Все-то он видит, все знает. Молодой парень, а хуже бабы. Ладонь мягкая, влажная, сам рыхлый, бледный, с животом как у Карлсона. Любитель порнухи и жуткий завистник: подфартит кому – места себе не находит. Листки выдают расчетные – все переворошит, все пересмотрит, даже во врачебные нос сунет и ходит, переживает.
– …вас уже, считай, рисом обсыпали.
Жаль, только сейчас узнала – всю кровь бы ему, гаду, сменила.
– Слышь, Че, а тебе-то какое дело?
И он – совершенно серьезно – ответил:
– Северов для меня – инопланетянин. И-Ти. Ты с ним вошла в контакт, а я нет, вот и интересуюсь.
Странный он все-таки – Феликс. За тридцатник, а все еще как подросток. Зажатый, закомплексованный, пургу несет вечно. Женщины у него нет, раз от разу перебивается. Ко всем на станции подкатился – девчонки хихикают: спермотоксикоз у Черемушкина! – а сам до конца дело редко доводит, духу не хватает, подталкивать надо. Книжный мальчик, короче. Вечно читает, а в жизни лопух лопухом. Сколько раз мы с ним мимо денег пролетали… ну, не сечет момент совершенно. А заработаем – тут же книжек накупит, ни рубля не оставит, вечно потом полтинники занимает.
Ч-черт, все настроение испоганили! А такое хорошее утро было…
* * *
Он разбудил меня, когда завтрак уже стоял на столе. Сидел напротив: свежий, подтянутый, в футболке и шортах.
– Тебе халат нужен. Хочешь, подарю?
– Не, – он подлил мне молока в кофе, – не люблю халаты, не мужская одежда.
– Удобно же.
– Кому как. Некоторые их даже поверх костюма носят, как Филипп Филиппыч, а по мне, так уж лучше в шортах.
– А-а, знаю, о ком ты. Мы как-то на вызов к тако-оому чумоходу приехали… Немытый, нечесаный, волосы сальные. Кругом грязища, подошвы чавкают, шмон стоит как в ханыжнике. Но в халате и с галстуком, интеллигент типа. «Русский стиль» курит, а бычки в карман складывает. Извините, говорит, не убрано – женщины в доме нет.
– Бывает. Еще хлеба поджарить?
Вообще я с утра не ем, но тут умяла все за милую душу. За окном капало, деревья шатало, а здесь, за шторами, горел свет, было тепло, и плеер за спиной тихонько шумел прибоем, бумкая в какие-то ворчащие барабанчики.
– Это кто?
– «Джене». Нью-эйдж называется – как раз для такой погоды. Сейчас тебя провожу, вернусь и залягу с книжками. Самое то: утро, сумрак и дождь за окном.
– Блин, завидую я тебе!
– Я сам себе завидую. Ну что, пора?
В коридоре задержались. Когда я пришла в себя, мы стояли на коленях, упершись лбами, как две коровки. Я обхватила его руками.
– Ладно, прилипала, на службу опаздываешь…
– Успею. Поцелуй меня.
Ну до чего ж здорово!
– Еще!
– Инфляция наступит. Девальвация.
– Не наступит. Давай еще.
Он поднялся, увлекая меня за собой.
– Выходя из-за стола, надо ощущать недоеденность – так Павлов учил. Великий физиолог, между прочим.
– Да ну его! Давай еще. Ну, пожалуйста…
– Ох, ни хрена себе! – Падла скрюченная!
Гасконец врезал по тормозам. Кофейный мерс царственно плыл на красный. Кинуло на торпеду, рвануло гудками. Белизна манжет, ленивый фак из окна…
– Вот гондон! Ну, держись!
Генка, забив на вызов, повёл его как приклеенный. Издалека выцелил постового, цапанул микрофон:
– Так, командир, тормозни «мерина»! Да-да, этого.
Прохожие обернулись. Гаишник махнул, мерс приткнулся к обочине. Генка, куражась, впритирку прошел вдоль борта, заставив водителя спешно захлопнуть дверь.
В зеркало было видно, как бурно жестикулировал Осконцев, снисходительно, с оттеночком превосходства улыбался дорого одетый молодой человек и скептически хлопал об ладонь палкой гибэдэдэшник. Генка вдруг сплюнул, резче некуда повернулся и, прыгая через лужи, вернулся в кабину. Саданул дверью.
– Чего там, Геныч?
– Д-да депутатский помощник, сопля зеленая. Шнырь поганый! Сунул корку менту – тот и обделался сразу… хор-р-рек!
Оставшуюся дорогу Гасконец орал на проезжающий транспорт:
– Тебя где ездить учили, чучело? А ну, ушел вправо! – Навстречу, по путям, шел еще один. Уперся и встал: ждет. – Токоприемники отрасти – и совсем трамвай будешь! Че уставился, дерево, не видишь – «скорая» под мигалкой? – И врубил сирену. Встречный, артикулируя матом, рывками всасывался в поток. – Развелось мурамоев, мля, шагу нельзя ступить!








