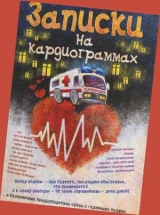
Текст книги "Хроники неотложного"
Автор книги: Михаил Сидоров
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
– Юр, спальник дашь?
– Конечно! Кать, дети пусть сегодня у вас будут, а Яну с Феликсом к нам.
– Спасибо, мы под открытым небом лучше.
– Замерзнете.
– Не замерзнем.
Это Яна сказала. Я посмотрел ей в глаза: точно?
– Как скажете. Коврики возьмите, чтоб лапник не резать.
Греча сварилась. Слили воду, вывалили тушенку, замешали с луком, залили майонезом. Набухали в миски – фига они жрать! Пустили по кругу крышечку с чесноком – мы отказались.
Наполнили по второй.
– За вас, ребята. За то, что мимо не прошли, помогли нам.
Чокнулись, выпили. Склонились над котелком, прикоснувшись висками – зрачки широкие, в глазах блеск…
– Чаю кому?
Горячий, ароматный, чернющий; раз глотнул – по поверхности радужное пятно с губ. Греча нежная, с приправами, во рту тает.
– Добавки?
Какое там, это бы съесть. Вторую кружку под сигарету, потом откинуться навзничь – ё-моё, сколько звезд!
– Налить, Феликс?
– Спасибо.
Тинькнули струны и поплыли, настраиваясь. Михаил кашлянул, взял на пробу пару аккордов.
Не оставят вибрамы
рифленый свой след на камнях,
и затянет туманом
тропинку за нашей спиной…
Он играл мягко, отбивая подушечками по струнам; гитара не вылезала, звуча негромко и ненавязчиво.
Сохранится лишь память
об этих прекрасных краях,
да легонько прихватит
хандра по дороге домой.
Ах, какая там ширь!
Ах, какая там высь и простор,
в шумном городе вспомнится все
с непонятной тоской,
как рассвет красит небо
и снежные шапочки гор,
и плывут облака
под ногами неслышной рекой…
Остальные вполголоса подхватили:
Хмурый город нас встретит
своей суетой-маетой,
скажет: «Здравствуй, ну как?» —
и узнает, что там можно жить.
Не поверит, услышав про реки
с хрустальной водой,
удивится, увидев,
что мы разучились спешить…
Басы звенели, верхи жужжали, как пчелы; я приподнялся на локте – двенадцатиструнка: тепло темного лака, надраенные колки, благородные линии…
Цепочка аккордов, кода и долгий-долгий, затихающий в воздухе звон. Все сидели молча, обхватив колени руками, смотрели в огонь. Михаил, устроившись по-турецки, осторожно коснулся струн.
В штормовых небесах – ни окна, ни просвета.
Непогода в горах, уже кончилось лето.
Только ветер всю ночь рвет палатку зачем-то,
только капли всю ночь барабанят по тенту.
Они подпевали, переживая все заново:
Где-то пальмы шумят и, не ведая горя,
люди в городе спят возле теплого моря.
Южный ветер всю ночь волны гонит лениво.
Кто-то смуглый всю ночь пьет холодное пиво.
Сантьяго лежал вдоль костра. Щурился, прикуривал от углей папироски.
Ливень скалы тесал – не услышать соседа.
На огарке плясал огонек-непоседа.
Там, на море, внизу – двадцать пять, без осадков;
коротаем грозу в отсыревших палатках.
Михаил увел мелодию из минора, ускорил затейливым перебором, обозначил ритм, щелкая языком в крохотных паузах.
Шторм утих. Лишь только временами глухо хром ворочался в ночи.
Но уже затеплились над нами звезды, словно искорки в печи.
Мы курили, молча наблюдали, взглядом бесконечность охватив, как, верша работу, проплывали спутники по Млечному Пути…
Он пел зажмурясь, ни разу не посмотрев на гриф, пальцы сами находили нужный им лад.
Чиркнул метеор. Потух. И разом россыпью, пригоршней, дождем, звездопад над Западным Кавказом хлынул вниз искрящимся огнем.
Серебром бесчисленные стрелы, золотыми гроздьями картечь – мы сидели, словно под обстрелом, пыль со звезд касалась наших плеч. – Чьи песни? – шепотом. – Его.
…Астроном. Черкнул с небрежным видом, торопясь поужинать с семьей, что поток из роя Персеидов в двадцать сорок встретился с Землей.
* * *
Хэнд мэйд, душа на ладони. То же ощущение было, когда в одной лавке взял зацепить эксклюзивного, под рукописную книгу, «Властелина колец»: тисненая кожа, кованые застежки, листы под пергамент…
– Миха, давай про Ли.
Рванул стаккато, съехал аккордом выше, екнул басовым «уау» и:
Мы свадьбы отгуляли-и-и-и,
квартиры поменяли-и-и-и
и потихоньку стали-и-и
накапливать рубли —
старались как могли-и-и!
И жили без печали-и-и-и,
пока не вспоминали – ша-ла-лу-ла! —
какие были дали-и-и-и,
какие были дни —
ммм, какие были дни!
Они раскладывали по голосам, как негры на Миссисипи, а Сантьяго, помимо прочего, еще и на расческе гундосил промеж куплетов:
Валяются в кладовке
потертые веревки,
и пыльные штормовки
на гвоздиках висят —
который год подряд.
Поддавшись на уловки,
попавшись в мышеловки, – ша-ла-лу-ла! —
мы всякий раз неловко
от них отводим взгляд —
пускай уж повисят!
Драйв пер. Яна, подавшись вперед, смотрела на них блестящими атропиновыми зрачками.
Но снова все сначала,
вдруг с краешка причала,
неведомые дали
почудятся вдали —
былые дни пришли!
Мы крепко засандалим,
с родными поскандалим, – ша-ла-лу-ла! —
в неведомые дали
отправив корабли —
на самый край Земли…
И – на пределе связок, уходя в пресняковский фальцет:
Мы крепко засандали-и-им,
с родными поскандали-и-им,
в неведомые дали-и-и
отправив корабли.
– О'кей, бьютифул, йе-е-е!
У детей рты до ушей и сна ни в одном глазу – пяти минут не прошло, как носом клевали. Юра покрутил флягой, прислушиваясь к остаткам:
– Добиваем.
Разлил, вымеряя по каплям, дождался, пока разобрали, поднял.
– В одном старом фильме есть фраза: «Кажется, это начало большой дружбы». – Он протянул к нам стаканчик. – Всегда рады видеть вас снова.
Выпили, передернулись, погасили остывшим чаем. Побрели в разные стороны в темноту.
Я выбрал местечко под низкими соснами. Раскатал коврики, расстелил одеяло, лег. Самое то: лапы до земли, безветренно и тепло.
– Феликс, спальник.
– Спасибо, Кать.
Новенький, пахнущий магазином. RedFox. Между ветвей забелело.
– Эй, ты где тут?
– Здесь.
Пригнувшись, она нырнула ко мне.
– Ух ты!
– Нравится?
– Ага. – Скинув кроссовки, она скользнула под мягкий нейлон.
Не спешилось. Обнявшись, мы слушали, как переговариваются у костра. То и дело звякала об котел ручка; Михаил, повторяясь, наигрывал замысловатую фразу. Взметнулось облако искр – перевернули обугленный ствол. Я провел по ее затылку ладонью. Ежик.
– Как по-украински «ежик», Ян?
– Ежачок. – Она, закрыв глаза, чуть улыбалась.
Я легонько коснулся губами ее век. Она нашла мои пальцы, переплела, потом крепко сжала. А дальше – туман. Язык, упругий, как мускулы… пуговичка соска… мурашки… запах… безумие… тетива тонкого тела… громкий выдох… испуг – услышат! и шалая радость: пусть!.. изгиб… напряжение… бедра… плечи… судорога: пальцы, ухватив волосы, рвут кожу… мягким прессом стискивает виски… наверх… узенькие подошвы к лицу и снова туман… плывет все… каждый пальчик… вниз, не касаясь, сам… раз, другой… карусель… кувырком все… прилипшая челка, полоска белков под веками… кожа подрагивает, лицом в нее и дышать… жарко… у костра байки травят:…короче, лезем. Костик первым, – а он же у нас заикается, знаешь? – я на страховке; Валерка Юрика принимает; и тут мимо свись раз, свись два, стук, грохот, обвал, и только потом сверху: т-так, э-э-э, к-к-камень! Чуть не подохли – висели и ржали как ненормальные…
Вода в бутылке. Глоток, еще… я смотрел, как она пьет. Сорвалась капля, блеснула дорожкой до яремной вырезки, собралась в шарик.
– Будешь?
Я взял бутылку, но не донес – пришло снова. Захлестнуло и бросило на неостывшую кожу, насыщая обостренное, истомившееся взаперти осязание. Одежду в ком, и жадно, как перед казнью, перекатываясь и сплетаясь, сгребая сухие иглы и стирая колени, чтобы потом, не сразу, с прерывистым выдохом и гладью голеней на спине, стечь в жаркий, пульсирующий охват рук, возрождаясь от загнанного дыхания в ухо; и еще раз, и еще, и она, растеряв аристократизм, кусается, шепчет матом, рвется наверх и там сгибается в колесо, скрыв лицо за скачущей грудью и вздыбившейся дугой ребер, орошая горячим новенький, пахнущий магазином RedFox, колючее солдатское одеяло и беленькую, с вырезом для лопаток, миниатюрную маечку…
* * *
Смутным пятном переливались угли костра. Хрустальный воздух просачивался между веток, стягивая застывающие струйки пота. Хотелось одеться. Хотелось холодного чая. Хотелось курить.
Долго разбирались в одежде, пошатываясь, вылезали и шли к костру. Пачкая пальцы сажей, сцеживали концентрированную заварку и, фильтруя сквозь зубы, тянули горькую жидкость. Валила усталость, но сна не было.
– Смотри.
Над скалами висела луна.
– Посидим над обрывом?
Море рябило подлунным клином. Перемещались огни. Из Алушты, бесшумно рассыпаясь снопами искр, всплывали ракеты.
– Прямо как в песне. У них что, праздник сегодня?
– Не знаю. – Она потянулась и уткнулась носом чуть ниже моего уха.
Мы сидели, закутавшись в одеяло. Я грел в ладони ее ступни, а она терлась челкой о мою щеку, рождая воспоминания.
– Знаешь, у нас на станции кот был – Стажер, так он однажды пришел ко мне вечером, лег, вот точно так же как ты, и давай головой тереться. Затишье как раз выдалось, на улице снег валит, смена спит в полном составе, а я зеленую лампу на подоконник поставил и лежу, Киплинга читаю… незабываемое ощущение.
– А почему Стажер?
– А он с нами на вызова ездил. Выходим, он прыг в кабину и сидит, на дорогу смотрит; сам неподвижен как Будда, глазами только: дерг-дерг. А домой если едем, то сворачивается и спит – доверяет.
Я почувствовал, как она улыбается. Ощутимо темнело. Небосвод проворачивался; звезды, сливаясь с отражением, окунались в чернильный глянец. Целый рой ракет полез в небо, погас, помедлил секунду-другую и, вспыхнув, рассыпающимися фонтанами зазмеил вниз, путая по дороге огненные хвосты…
* * *
Стало теплее. Набежал ветер, тронул траву, откатился. Вернулся, дунул разок-другой посильнее, колыхнул на пробу край одеяла, утвердился и, набрав воздуха, задул ровно, без перерывов, прорываясь сквозь пальцы и срывая со спичек пламя.
– Пойдем?
Встали, повернулись. Шла непогода. Небо на западе утонуло во мгле, возле самой земли слоились неприятные белесые тучи. Полыхали разряды, высвечивая завесь ливня. По невидимому серпантину полз в ту сторону отважный маленький огонек.
– Райдерз он э сторм, тын-тыгдым-тыгдым-дым-дым… Чую, жабры нам промочит капитально. Боишься?
– Нет.
– Правильно делаешь – в полиэтилен завернемся и переждем.
Под облаками протянулась призрачная, мертвенно-белая дуга.
– Что это?
– А хрен его знает!
Зрелище было жутким. Полоса жила, переливаясь муаром, бледная и потусторонняя, как глубоководные монстры.
– Кошмар какой! – Яна поежилась. – Ведьмина радуга.
И тут меня осенило.
– Не ведьмина, Ян. Лунная. Слыхала про такую?
– Н-нет.
– А я где-то читал – редчайшая штука. Надо ребят разбудить – пусть тоже посмотрят.
Не успели. Облака, стряхнув дождь, сдвинулись; дугу повело, она дрогнула, порвалась и, распавшись на сегменты, померкла.
– Вот, Шарапов, довелось тебе поручкаться со знаменитой Манькой Облигацией…
– Слушай, давай без цитат, а то ощущение такое, будто Хемингуэя читаешь: «Я допил свой fineа l,еаu… заказал oeufsaujambon… целый день работая на одном cafесгете». Пижон: всего-то заказов – кофе, коньяк и яичница.
По траве шли волны. Ветер раздувал сигареты.
– Ты не обиделся?
– Нет, что ты, понравилось даже. У тебя, кстати, произношение хорошее.
– Работа такая.
Она затянулась, обозначив черты лица, и у меня опять перехватило дыхание. Я обнял ее, привлекая к себе, она не противилась, уткнулась в грудь и встала, покачиваясь и белея во тьме…
* * *
Под соснами было тихо. Мы лежали, слушая шорох ветра и хлопки чьей-то незакрепленной палатки.
– Так странно, кажется, что мы уже давным-давно вместе…
И – осторожно:
– Ты приедешь ко мне?
– Нет.
– Почему?
Как тебе сказать…
– Мы из разных каст, Ян. Для твоего окружения я – из сословия мусорщиков.
– Откуда ты знаешь, кто меня окружает?
– Знаю. Вчера вечером видел.
Она поняла.
– Там, у тебя, я даже на Крокодила Данди не потяну. А вот твое приключение, наоборот, приведет всех в восторг – прослывешь сорвиголовой и повидавшей жизнь отчаюгой.
– Перестань.
– Прости, я не нарочно. Просто мне не ужиться с теми, для кого строительный гипс в травматологии или общаги контуженых офицеров – экзотика.
– Я не совсем поняла…
– Я из низшего класса, Ян, и среди твоих буду чувствовать себя перебежчиком.
– Ты ненормальный.
– Да нет, у меня даже справка есть.
– Крестоносец хренов!
Она отвернулась, накрывшись спальником, и лежала, вздрагивая. Я протянул руку: слезы. Просунул платок, вытер, и она вдруг порывисто, не пропустив ни единого сантиметра, прильнула ко мне всем телом. Так и заснули.
– Феликс, Яна – подъем! Завтрак. Кряхтя, мы вылезли на божий свет. Над головой несло низкие тучи. Скалы то и дело заволакивало туманом, на траве висела роса. Ботинки, набирая влагу, быстро темнели. – Алло, народ! Вбрасывание.
Очкастая Люська, стуча по мискам половником, вытряхивала в них вязкие комья.
– Феликс, – в голосе Яны сквозил неприкрытый ужас, – у них тушенка с рисом на завтрак.
– Варвары, – в тон ей ответил я.
Рассмеялись – хорошо получилось, Подошли к костру, сели. Котелок был полон.
– Я есть не буду.
– Надо, Яныч, черт-те когда обедать нынче придется.
И как назло, не хотелось. Запихав в себя пару ложек, я переключился на чай со сгущенкой.
– Вы вниз, ребят?
– Угу. Хотели в Симферополь горами, да погода, видишь, подгадила. А вы?
– На Джур-Джур.
– Оставьте полиэтилен, а? А то ведь, случись дождь, даже накрыться нечем.
– Не вопрос, бери, конечно.
Вычерпали котел, покурили. Третья тетка, Лера, подала нам салями в золотой упаковке:
– Держите, пожуете в дороге. Стопом поедете?
Я кивнул.
– Хлеб нужен?
Дают – бери, – Половинку, не больше, хорошо?
Пока она половинила буханку, я написал на листочке свои координаты.
– Держи, Юр. Телефон, адрес и мыло. В любое время и без стеснения.
– Договорились. – Он сунул листок в ксивник. Достал блокнотик и что-то долго писал в нем. Вырвал, протянул мне:
– Держи, тут все мы. Будете проезжать – без проблем.
– Спасибо.
– Ну что, по коням?
Мы встали. – Давайте, ребята, удачи вам. Счастливо доехать. – И вам того же. До встречи.
Спустились мы резво. Вывалились к подножию, отбрехались от шашлыков, вина и прогулки на лошадях, вышли на асфальт, ведущий к симферопольской трассе, и только здесь оглянулись:
– Вот это да! И мы там были, врубись?
Серая глыба закрывала полнеба. По обеим сторонам, клубясь, стекали знакомые, несущие дождь, черные облака в обрамлении грязно-белых, всплывающих винтом, рваных клочьев.
– Ну, сейчас им точно мало не будет.
– Ерунда, отсидятся в палатках.
Наверху сверкнуло, угрожающе заворчав.
– Ходу, Киса! Надо успеть до дождя.
– Думаешь, сразу уедем?
– Однозначно. На троллейбусе двинем, как взрослые.
Успели. Только тронулись – началось. Вспыхнуло, рвануло: ливень стеной. В салоне жара, над головой грохот. Еле ползем: дорога в гору, все запотело, по стеклам хлещет, водила на руль лег и матом сыплет, по губам видно. Машин – каша, вся трасса забита. Кто-то уже в кювете; чуть поодаль грузовик развернуло – сразу двоим вмазал: стоят, желтым мигают. Менты салатовым светятся; рубашонки поприлипали, фуражечки пообвисли – сочатся струйками по периметру; один только, запасливый, в плащ-палатке, палкой машет, затор разруливает.
Влезли на перевал и запетляли вниз, еще медленней. Вдоль дороги река: жуть! Вода желтая, как Хуанхэ, деревья несет, запруды страшенные, берега рвет, у самого асфальта вода – круче, чем в программе «Время».
Не-е-ет, такой хоккей нам не нужен.
– Пошел он в задницу, этот стоп! На электричках двинем – пять «собак», и ты дома.
Не пришлось. В Симфере дождь кончился. С ветвей капало. Разбрызгивая воду, разъезжал транспорт. Мы встали в начале московской трассы. Рядом ковырялся в багажнике молодой парень; его подруга – ломкая химия, топик, мини, – выгибая в саблю аппетитные голени, раздраженно курила тонкую сигарету. Номера на машине были харьковские.
– Здравствуйте, земляки.
Он поднял голову. Тщательно подрезанная, переходящая в бакенбарды, бородка; редкие, рябью подкрашенные кончики волосенок.
– Подвезите по трассе, в сторону Харькова.
Цаца, отбросив окурок, полезла в машину. Он захлопнул багажник.
– Нет.
Открыл дверь и задержался, перебирая ответы. Выбрал один, самый уничижительный:
– У нас семейный отдых.
О…уеть!
Они отъехали, выбросив в окно макдоналдсовский стаканчик с соломинкой.
Люди ее круга.
Откуда ты знаешь, кто меня окружает?
Да, б…ь, насмотрелся за тринадцать-то лет!
Я сбросил рюкзак и поднял руку. Одна, вторая… Есть!
Пикап. Желтые баллоны, гидрокостюмы, яркие ласты. Дайвер. Седой и спокойный, как Будулай.
– Куда, ребят?
– В Харьков.
– Садитесь, до Мелитополя.
Вытащил сигарету, протянул пачку.
– Курите?
– Спасибо.
Они с Яной закурили. Приоткрыли окно; ветер обсыпал пеплом, обшарил наспех салон и запел, вытягивая наружу табачный дым.
– Не просквозит?
– Нормально.
Навстречу несся фиолетовый горизонт. Затукали капли.
– Конец погоде. Теперь вся неделя такой будет.
Он вышел на встречную, мягко обходя караван бензовозов с грозным «ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНО» на длинных, блистающих серебром, цистернах. Забрызгивая стекла, сбоку поплыли нерезкие ступицы.
– Давно в Крыму?
– Трое суток. На праздники приезжали.
На встречной мигнули. Смыкнув в ответ рычажком, он плавно перетек вправо.
– Я тоже.
– Ныряли?
Он кивнул.
– Мессер искали, в сорок первом упал. Гонял кукурузник над самой водой, потерял скорость на вираже и ушел в воду.
– Где?
– В Ялтинской бухте.
– Нашли?
Он покачал головой.
– Дельфинов видели?
– Видел. Их в этом году много.
Я рассказал про тех, в Новом Свете. Увлекся, плеснул восторгом и осекся, он же воспринял совершенно серьезно.
– В следующий раз иди к ним, они таких, как ты, подпускают. Только не дергайся, сами к тебе подойдут.
Орден. Знак отличия. Высшая степень. Жаль только, не оценит никто.
– Так уж и подойдут?
– Подойдут. У них система «свой – чужой» миллион лет совершенствовалась, на всех уровнях восприятие: физиологическом, эмоциональном, энергетическом. Насквозь человека видят: как у него сердце бьется, как кровоток ускоряется, когда нервничает; биотоки мозга улавливают, психотип определяют…
– …семейное положение.
Он посмотрел на нее в зеркало.
– А почему нет? Мозг тяжелей, извилин больше, организован сложнее. Естественный сканер во лбу, диапазон общения от инфра до ультра, энергетика высочайшая… При отсутствии способности к физическому созиданию – все условия к абсолютному самопознанию.
Над головой гремело, салон сделался влажным и липким.
– Почему ж тогда они с нами до сих пор не конектят?
– А зачем? У них своя цивилизация: нерукотворная, нематериальная, с иными, чуждыми большинству людей ценностями. Они видят, что во имя ценностей материальных творим мы, и, совершенно логично, избегают лишних контактов.
Машину водило. Ветер, зайдя сбоку, гнул акации. Поперек дороги, белея отломами, ползли лохматые ветки.
– Тогда отчего, по-вашему, они на берег выбрасываются?
– Ну, может, это те, кто совершил тяжкий проступок, и совесть толкает их на суицид, как у нас в девятнадцатом веке?
– Вы оба – идеалисты.
И тут шарахнуло. Вспыхнуло, ослепило и, без задержки, будто двумя досками по ушам – бабах! Шибануло озоном, резануло ремнем наискось; секундное выжидание, по газам, и птицей вперед.
– Живы?
Перед глазами плыли оранжевые круги. Потряхивало – адреналин.
– Метрах в сорока, в знак ударила.
Яна пыталась закуривать.
– Испугались?
Она только посмотрела на него.
– Мне на такие штуки с детства везет. В ураган попадал на яхте, под лавину в горах, от смерча бегал в степи – и ничего, жив.
– А в ураган где?
– В Карибском море.
– У вас своя яхта?
Это Яна спросила. Он отрицательно качнул головой.
– Там же, помню, плавал на рифе, с камерой, поднимаю голову – мама дорогая! Акула. Огромная, метров пять. Думал – все. Нет, обошлось. Прижался к кораллам, выждал: ушла.
– Большая белая?
– Тигровая. Четкие такие полосы, как у скумбрии.
Несмотря на ливень, шли быстро – на полном приводе.
– У нас это семейное. У дочерей моих то же самое. Столько уже перевидали – на сотню обывателей хватит.
– А сколько им?
– Восемнадцать и двадцать. В Красной пещере сейчас, решили после Ялты сходить.
– Это где?
– Час на троллейбусе от Симферополя.
– Большая?
– Километров двенадцать. Пять этажей, подземная река, первые два уровня вплавь.
– И вы за них не боитесь?
Это опять Яна.
– Нет. Там, на входе, спасатели живут, они же проводниками работают. Если опасно будет – не пустят.
– Опасно – что?
– Паводок. Когда наверху дождь, пещеру затапливает. Запрет где-нибудь – и сиди в темноте, свет экономь, пока не спадет. Иной раз по трое суток сидеть приходилось.
У Яны на лице: я фигею, дорогая редакция! Он подмигнул ей в зеркало, потом посмотрел на меня и слегка улыбнулся.
Миновали пост на Чонгаре, съехали к рядам; он выскочил на минутку и вернулся со связкой рыбы и упаковкой «Старого мельника».
– Давайте-ка бычков потреплем.
Тут уже было посветлее. Дождь кончился, и ветер вырывал из серого неба голубые прорехи. Мы лущили жирную рыбу, запивая ее пивом. Среди компактов у него отыскалась старая-старая, тридцатых годов, запись Ледбелли, и я впервые услышал «Полуночный экспресс» в подлиннике; жевал вяленое и мычал, подпевая:
Лет зэ миднайт спешиал шайн э лайт он ми.
Лет зэ миднайт спешиал шайн э лайт он ми…
Яна молчала. Бычки ее не прельщали – пахкие, к пиву она, как я заметил, тоже относилась с прохладцей, да и вообще, когда с нами был кто-то еще, явно чувствовала дискомфорт. Ей не нравились такие люди – с искрой в душе и шилом в заднице; как ни крути, она все же была из этих– у которых семейный отдых.
Он тормознул у поворота на Таганрог.
– Все, ребят, мне тут направо.
И как раз снова закапало.
– Ч-черт! – Он пригнулся, глянул вверх и снова переключился на первую. – Вам, как я понимаю, на выезде надо встать?
– Так точно.
– Поехали.
Мелитополь длинный – сто раз бы промокли, пока добрались. Он же высадил нас прямо у выездного поста.
– Спасибо огромное.
– Да не за что. Удачи!
Даже не успели в ответ пожелать: развернулся, даванул на гудок, и нет его.
Мы быстро замерзли. Яна сидела под козырьком, завернувшись в одеяло и по уши утонув в моем свитере, а я, мокрый как выхухоль, безуспешно голосовал проходящему транспорту. Все проносились мимо, выстреливая из-под колес грязные капли. Некоторые норовили проехать поближе, окатив прицельно, кое-кто злорадно тыкал в воздух оттопыренным средним, а отдельные персонажи даже сигналили, восторженно оттопырив палец большой: дескать, молодцы, здорово, одобряю! – но за три часа с гаком так никто и не остановился.
Яна злилась, отказываясь поддерживать здоровый дух, отвечала скупо и резко, особенно когда выяснилось, что курева у нас нет.
– Надо было у ларьков тормознуть.
– Я в дороге не курю – так меньше есть хочется. Ты, кстати, как насчет кинуть в топку?
Сидели, жевали салями, запивая ее водой. Издалека, включив фары, приближалась целая кавалькада. Яна вопросительно посмотрела на меня.
– Не, Ян, перерыв. Война войной, а обед по распорядку.
Она поджала губы; носовые хрящики напряглись, заострились, выделив и без того четкие линии скул.
– Ты сейчас такая красивая.
Опустив веки, она посмотрела в сторону.
– Держи хвост морковкой, наша тачка уже на подходе. Сейчас поедим, перебьем невезуху, и такой джекпот словим – до самого Харькова.
На самом деле хорошо бы, а то я уже задубел до смерти. Приплясывая и греясь движением, я вспоминал Венину байку про то, как он юннатом был, в зоопарке:
…и достались мне лошади Пржевальского: приходить ежедневно, наблюдать не менее трех часов. А хрен ли их наблюдать, если они стоят как вкопанные и только помет роняют. Раз в час топ-топ-топ к кормушке, веник схрумкают, и в исходное. Хоть бы кто «и-го-го» сказал для разнообразия.
В общем, отстоял я раз. Честно. Три часа на морозе. Как Левий Матвей: «Текут минуты, а смерти все нет». Открыл потом в метро тетрадку блокадными пальцами, а там: «15.30. Ледяной ветер. Не прячутся, стоят порознь. 16.00. Продолжают стоять. 16.15. Все там же. 16.30. Стоят, не шелохнутся. Ветер шевелит гривы. В 16.38 экшн – маленькая кобыла произнесла «тпрхф-ф» и покакала. 17.00. Стоят, не двигаются. 17.04. Все еще стоят. 17.11. Стоят, падлы!!!» И так до шести тридцати.
Да пошло оно! Прочитал я за неделю пару монографий и р-а-аскошный отчет отгрохал. Батя мой, рисовальщик великий, такими его зарисовками снабдил – все отпали. Фас, анфас, профиль, каждое копыто в отдельности – притом что он их и в глаза не видел, фотки только посмотрел в книжке. Втиснул я между картинок текст, пожамкал страницы, типа возле вольера писал, утюжочком разгладил и в папку подшил. Гран-при!..
Потом Саньку Сильвера вспомнил – как он на констатацию ездил, и к нему родня с ножом к горлу пристала: реанимируй! А Саня им доказывал, что уже поздно: вот, глядите, трупные пятна – сам Иисус не возьмется. Нет, орут, спасай, он еще теплый! Ну, Санек и брякнул: так ведь, говорит, и утюг не сразу остывает…
– Слушай, что ты все время улыбаешься?
– Да так, вспомнилось кое-кого. А что?
– Смотришься со стороны странно.
– Унылое лицо у живого так же неуместно, как веселое у покойника.
– Ты б на себя в зеркало посмотрел. Неудивительно, что никто не останавливается.
Клюется – чувствует, что не брошу. Стандартный вариант: хорошая, пока все хорошо.
Ты приедешь ко мне?
Да даже и думать забудь!
Алая, вся в наклейках, легковуха рывком перекинулась от осевой, замерев прямо напротив. Тютелька в тютельку – протягиваешь руку и открываешь, не сходя с места.
Мужик. Черный, худой, остроносый. Взглядом – куда?
– Харьков.
Жестом – садись.
Сели. Крохотный руль, каркас гнутых труб и ремни, будто на истребителе. Профессионал. Рванул – в кресло вдавило. Стрелка вправо: сто двадцать… сто тридцать… сто сорок, легко, как перышко, и четко, как по бобслейному желобу. Сто пятьдесят. Он бросил взгляд в мою сторону:
– Затянись.
Затянул – как с машиной слился.
– К полету готов, сэр!
Улыбка прищуром, взгляд в зеркало. Руку назад – на ста пятидесяти! – двумя движениями стреножил Яну.
– Давит.
– Знаю.
Лаконичный, как царь спартанцев. Только я наладился потрындеть, как был остановлен жестом: после, сударь, после! На ста шестидесяти он склонился к торпеде, прислушиваясь и работая газом, – асфальт влетал в лобовое, второй раз за день холодило под ложечкой.
– Страшно?
Я кивнул. Стрелка, увлекшись, обнюхивала отметку сто семьдесят.
– Ничего.
То и дело включался антирадар; гаишники, оставаясь с носом, появлялись только минут через пять. Миновав по всем правилам Запорожье, полетели к Днепропетровску. Над белыми полосами разметки густел мрачный, концентрированный сумрак. Горели фары. В огромных щитах мелькали желтые отблески. Я сидел, радуясь тому, что пристегнут к уютной машине.
Взлетели по лепестку на развязку. Неподалеку попыхивали разряды, и деревья, соря ветвями, умоляюще тянули к нам рваные руки – через поля, неотвратимый, как конница Чингисхана, мчался дождевой шквал. Леса вдоль обочины волновались, полоща сучьями; у них еще было сухо. Мы уходили с гарантией, но гроза, наступая по всему фронту, загнула фланг, встретив нас прямо в лоб.
Обрушилось, ливануло, забарабанив россыпью в крышу. Видимость – ноль, и он сбросил до семидесяти, выпутываясь из потоков воды.
Тянуло в сон.
– Я подремлю, можно?
Он кивнул: валяй. Вот все бы так, черт возьми!
– В Харькове где?
Я посмотрел на Яну – спит.
– Железнодорожный вокзал.
Только глаза закрыл – и уже дома, на станции, в форме, расписываюсь за приход. Виола мне за опоздание выговаривает. Сметанин с Егоркой на вызов выходят.
– Кто у вас за рулем нынче?
Они смотрят на меня изумленно, потом вспоминают:
– А-а, ты же на больняке был… Все, Феликс, без водил работаем.
С ума сойти!
– Ау кого прав нет?
– А они не нужны.
Ничего не понимаю.
Входят девчонки с уличной [90]90
Уличная (скоропомощн.) – бригада из двух фельдшеров, обслуживающая, как правило, уличные и квартирные травмы.
[Закрыть], за ними долговязый и белобрысый парень, почему-то с парашютом в охапке.
– Это кто?
– Американец. На взлете нас срезать хотел.
– Как это?
– Ну, так. Подкараулил, спикировал; хорошо, движки новые – вытянули. Разойтись на форсаже веером, зажали его и подожгли – не ожидал, бедолага, еле прыгнуть успел. Хороший паренек, симпатичный, побалуемся ночью втроем…
Влезает диспетчер.
– Не выйдет – вам же его госпитализировать надо.
– Не-е, мы его амбулаторным запишем…
В полном а…уе выхожу покурить – от порога степь, и шеренга узких, вытянутых как уклейки, «мессершмиттов». Валя в один, Егорка в другой, и оба взлетают. Станишевский, сидя на лавочке, сетует, что он только из института и командиром звена ему летать стрем, побыть бы, для начала, ведомым с полгода, а в идеале – вторым пилотом на бомбере; на что Леха – ура, она опять с нами! – резонно замечает, что на скорой вторых пилотов нет, на скорой, пардон за каламбур, все истребители…
Спал и тащился, пока не почувствовал, как трогают за плечо.
– Вокзал.
Темно. В размытых стеклах – неоном: ХАРЬКIВ.
Уже?
Круто.
– Спасибо вам.
Он кивнул.
Мы остались вдвоем. Сейчас – самое трудное.
– Тебе куда?
– В метро.
Я протянул ей оставшиеся две гривны:
– Держи. Хватит?
Она кивнула. Я шагнул к ней, обнял, тронул губами выгоревшие волоски на виске.
– Счастливо. Извини, если что не так, ладно?
– Спасибо. – Дотянулась на цыпочках, уткнувшись в полюбившееся чуть ниже уха. – Может, хотя бы переночуешь?
– Нет, Ян. Уходя – уходи.
Постояли молча, обнявшись.
– Я буду вспоминать тебя.
– Я тоже. – Прощай. – Прощай.
Электричка на Белгород шла через час, московский поезд – через двадцать минут. Я выгреб мелочь, купил стакан чая, сделал бутер из остатков салями и сидел, ужинал. Смотрел, как напротив заляпанные краской ребята-промальповцы любезничали с рюкзачной девчонкой, улыбчивой и светловолосой. Бродячая девчонка-фотограф: спальник под клапаном, коврик, бриджи милитари и тертый кофр с фототехникой. Носочки С пальчиками под ремешками сандалий.
Они пили кофе, и было видно, что им просто приятно поговорить с ней о всякой всячине. Объявили прибытие, она вытащила фотик из кофра. Отошла, прицелилась, оглянулась:
– Извините, вы не могли бы?..
– Конечно.
– Здесь все выставлено, только кнопку нажать. Какая улыбка! Я нажал, сработала вспышка.
– Спасибо.
– Да не за что. Из Крыма?
– Из Крыма.
Промальповцы записывали ей в книжку свои адреса. Книжка толстая, исписанная, подклеенная на форзацах географическими картами – э-э-эх, не пересеклись мы в Крыму, черт подери!
Вскинув рюкзак, она вышла на перрон и, заглядывая в билет, пошла вдоль состава. Следом за ней вышел и я. Мне надо было проникнуть в поезд.
Отметив купейные вагоны, я сошел с платформы, обогнул тепловоз и пошел вдоль состава, выцеливая пустые купе. Выбрал, открыл своим ключом тамбур и стал ждать.








