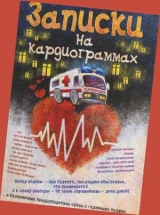
Текст книги "Хроники неотложного"
Автор книги: Михаил Сидоров
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
Чай.
Портвейн.
Табак.
Оттяг!
* * *
Тропа огибала можжевеловые кусты. Опа!
Машина.
Широченная иномарка, зеленые штришочки приборов, густая негромкая музыка. Я прошел мимо.
– Мужик, – в спину, – заработать хочешь?
Я обернулся. Лица не видно, одна сигарета тлеет.
– Там, внизу, девушка в белом. Приведи – денег дам.
Таких сейчас много. После них, как после морга, неодолимое желание вымыться. Элита, бомонд. Вонючки.
– Сам сходишь.
Настрой сник. Горело как от обиды. Всех, гады, уже купили. Свои врачи, свои юристы, свои священники – все есть, совести только нет. И словечко это …лядское – проплатить – от них, сук, пошло.
С расстройства я сильно взял вправо и вскоре остановился – очень уж круто. Хрустя и сыпля каменной крошкой, стал траверсировать влево, набирая потерянную высоту.
Внизу смутно белело. Девушка, не иначе. Стоит неподвижно – боится. И правильно делает.
Я осторожно спустился. Она молчала, а когда я подошел ближе, отвернулась, явно принимая меня за того из машины. – Помощь нужна? Она аж подпрыгнула. Не ожидала. – Вы кто? – с испугом. Ладно-ладно, не дергайся. – Егерь. Из лесничества. Подуспокоилась. Удачно придумал: выхлоп, рюкзак, афганка – кого ж еще ночью по склонам носит? – Заблудились? – Нет. Как отрезала. Даже холодком потянуло. – Машина наверху – вас ждет? Твердо и уверенно: – Нет. В подтверждение заурчал двигатель. Зашуршало, рыкнуло, развернулось, набрало мощность и, по мере удаления, стихло. Она глянула на запястье. – Полчаса. Нотки горечи и презрения. – Что – полчаса? – Ничего. У-ух окая! Стил вумен. – Ладно. Отвести вас в поселок? – Спасибо, не надо. Интонации ровные, эмоций ноль. – Здесь остаетесь? – Да. – Как скажете. Захочется посидеть, будьте внимательны – сколопендры. Подействовало. – Кто? – Многоножки. – Ядовитые? – Очень. Я повернулся и стал подниматься.
– Вы в Новый Свет?
– Нет, в Веселое.
Полная внутренней борьбы пауза.
– Хотите со мной?
Она молчала. Я снова спустился.
– Боитесь?
Нет ответа.
– Давайте, решайте: Новый Свет – Веселое… мне без разницы.
Решилась:
– С вами.
– У вас фонарика нет?
– Нет. Да он и не нужен… осторожно!
– Далеко еще?
– Порядком.
Она нервничала. Заметно. На грани истерики. Мы как раз подошли к террасе. Я сел на край, нащупал опору, слез.
– Давайте руку.
– Зачем? Тропа вверх идет.
– Здесь кострище. Выпьете чаю и успокоитесь.
Страх пошел от нее волнами. Сейчас побежит.
– Не валяйте дурака, ничего я вам не сделаю, Давайте руку… Да давайте же!
Дала, слава богу.
– Держитесь за ветки. Не спешите.
Пришли. Я разобрал рюкзак, расстелил одеяло.
– Садитесь сюда, отдыхайте.
– У вас сигарет нет?
– Табак, трубочный. Будете?
– Н-не знаю.
– Очень вкусный, попробуйте.
Я свернул ей самокрутку поаккуратнее. Чиркнул спичкой. Высокие скулы, чуть вздернутый нос, падающая на глаза челка. Пепельная шерстка затылка – еле удержался, чтобы ладонью не провести.
Она затянулась.
– Вина хотите?
Опять напряглась.
– Да не бойтесь вы! Портвейн массандровский будете?
– Буду.
Сухие ветки разгорелись стремительно. Я сыпанул хвои, пламя взметнулось, охватив котелок и лизнув суковатую палку, в рогульке которой угнездилась закопченная дужка. Завитки коры вспыхивали; на дне рождались крохотные пузырьки.
Она сидела напротив, скрестив длинные ноги в белых, чуть ниже колен, джинсах. Белый джемпер, белые носки, белые тенниски. Загорелые голени, шея с чуткими мышцами, золотая цепочка.
От костра валило тепло.
– Передайте бутылку, пожалуйста.
Глоток, еще один… ммм, ништяк! Соломку табака в сгиб, языком по краешку и не торопясь, равномерно свертываешь тугую трубочку.
– Можно еще одну?
Я протянул ей над костром сигарету.
– Вас как зовут?
Она помедлила.
– Яна.
– А я Феликс. Сыра хотите, Яна? Козьего?
– Хочу.
Я сунул ей ножик:
– Тогда нарезайте.
Засыпал в кипяток чай, выждал, сунул в котел горящую головню. Поверхность взорвалась гейзером, шипящие змейки стекли по глянцевым от сажи, выпуклым стенкам.
– Это для чего?
– Для дымка. Пили когда-нибудь так?
– Нет.
– Много потеряли.
Я перелил чай в кружку, прихватил ручку платком.
– Держите. Не обожгитесь. Сахар нужен?
– Нет, спасибо. С-с-с-с…
– Осторожно, края горячие. Кружка-живодерка. Дуйте лучше.
Мы пили чай. Прихлебывая из подкотельника, я свернул еще по одной; старая скоропомощная привычка: чай без сигареты – не чай. Пришла луна, встала напротив. Море рябило, сверкая вспышками, но здесь, под соснами, ветра не было. В камнях бормотали волны; рыскали над огнем ушаны [87]87
Ушаны – разновидность летучих мышей.
[Закрыть].
– Не бойтесь, они не опасны.
– Да я знаю. Просто неожиданно так…
– Вы еще не видели, как козодои летают, когда их много, – кровь стынет.
Она поежилась.
– Ладно, Ян, поздно уже, давайте спать.
Сразу вскинулась. Вцепилась глазами, ест просто.
– Да что вы, в самом деле… никто вас не тронет. Заворачивайтесь и засыпайте. Ночь теплая, не замерзнете.
Не, боится. Вот блин, а?
– Папаша, дорогой, ну что мне сделать, чтоб ты мне поверил? Самому зарезаться или справку принести из милиции, что я у них не служу?
Кажется, убедил.
– Мне отойти надо.
– Поднимитесь наверх, осторожней только.
Ушла. Недалеко. И меня боится, и темноты тоже боится. Смех и грех. Я выкинул шишки, расправил для нее одеяло. Сам лег к костру. Надел свитер, укрылся курткой. Нормально.
Яна вернулась и легла. В обуви. Лежит, не дышит – мышеловка и та меньше напряжена.
– Кроссовки снимите.
Сняла. Подтянула коленки. Пружина.
– Яна.
Не сразу:
– Да?
– Сейчас я встану и тоже схожу наверх… Вскакивать по этому поводу необязательно. Выбросьте все из головы и заворачивайтесь поплотнее.
Сходил, прогулялся. Когда вернулся, она уже спала. Или делала вид, что спала. Я подложил дров, повернулся спиной к огню. От куртки вкусно пахло выгоревшей тканью и ГСМом. От хвои пахло смолой. Щелкал костер, обволакивало теплом. День помнился нескончаемо длинным. Вся острота ушла, и воспоминания стали мягкими и уютными. Питер казался смутным и нереальным.
По невидимому горизонту шел пароход. Я долго смотрел на него, лежа щекой на вытянутой руке…
* * *
Проснулся я рано. Яна, свернувшись в эмбрион, доходила под своим одеялом. Накинул на нее куртку, упал на руки и стал отжиматься – грелся. Потом запалил костер, стал варить кашу. Установил на камнях подкотельник для чая и топил шишками. Шишки давали жар и пузырили смолой, раскаляясь докрасна и долго храня первоначальную форму. Море застыло; водоросли спокойно висели в прозрачной толще. Начало пригревать.
– Яна… Я-а-ан.
Я бросил в нее шишкой.
– Завтрак стынет.
Она зашевелилась и села. Отекшая, челка всклокочена, поперек щеки красные рубчики.
– Не смотрите.
Мне понравилось.
– Хорошо, не смотрю.
Она нашла кроссовки, изящно влилась в них узкими ступнями. Загорелые лодыжки манили.
– Мне умыться надо.
– Воды нет. – Пол-литра, на переход. Мало ли, пить захочется.
Требовательно и настойчиво:
– Мне умыться надо.
Аристократка. Прям как в кино.
– Ладно. Мыло нужно?
Нужно.
– Полейте мне.
Ни пожалуйста, ничего.
– Не хочу вас обидеть, Ян, но я все-таки в камердинеры к вам не нанимался. Нельзя ли повежливей?
– Извините.
Вот так-то лучше. Она уже сложила ладошки чашечкой, когда я заметил полузанесенную хвоей бутыль.
– Одну минуту.
Вытащил ее из-под камня, отвинтил крышечку, попробовал на язык. Нормально, сойдет.
– Живем! Все, что нужно обыкновенному медведю, растет вокруг обыкновенного медведя.
Умылись, поели. Запили чаем. Вылезли наверх и пошли.
* * *
Хвойный запах, цикады, ветерок с моря. Тропа виляет, забираясь выше и выше. Выцветшая краска на камнях, перечеркнутые цепочкой камней ответвления – туда не ходи, сюда ходи! Отбеленные солнцем коряги, сыпухи склонов, крохотные, поросшие соснами террасы над морем. И жара. Жарко, как летом.
Тропа ныряла в колючие заросли. Не туда, явно.
– Возвращаемся.
– Почему?
– Не там свернули.
Вернулись к развилке. Пока она отдыхала, я пробежался вперед метров на двести.
– Сюда, кажется.
– Я думала, вы тут все тропы знаете.
– Ни единой, сам в первый раз иду.
Я покачал головой.
– А кто вы тогда?
– Да как вам сказать… так, дикарем путешествую. Это что-то меняет?
Пауза.
– Нет, наверное.
– И я так думаю. Вам вообще куда?
– Домой.
– А дом где? – Я был терпелив, как фотограф-анималист.
– В Харькове. Давайте покурим?
– Одну на двоих, ладно?
– Лучше две.
Привычка получать желаемое, за полдня от нее не избавиться.
– Одну, Яна. Вы начнете, потом мне оставите.
Флюиды легкого раздражения. Вчера она была посговорчивей – ссора, стресс, испуг, беззащитность, – а сегодня уже другая: принцесса крови мирится с обстоятельствами.
Я протянул ей горящую спичку.
– Хотите, верну вас спутнику?
Она покачала головой:
– Он сегодня уехал.
– Точно?
Усмехнулась. Понятно.
– А ваши вещи?
– Сумочка. На заднем сиденье осталась.
Самый лучший способ путешествия – с одним кошельком. Важные, стало быть, птицы попались.
– Знакомые в Крыму есть?
– Нет.
Так, влип. Документов нет, перевод не получишь. На билет тоже не хватит: ни на поезд, ни на автобус. Очаровательно. Я свернул еще самокрутку – себе. Сидели, курили, молчали. Вокруг гремели цикады.
Похоже, везти мне ее в Харьков, не бросать же.
– Хорошо, что вы не из Йошкар-Олы, Яна.
Она метнула в меня недовольную молнию.
– Ну-ну, не сердитесь, шучу. Значит, так: через пару дней я возвращаюсь домой, в Питер. Если потерпите меня пару суток, доставлю вас в целости и сохранности прямо к порогу, идет?
По большому счету выбора у нее нет.
– И где мы будем эти два дня?
– Доедем до Алушты, взойдем на Демерджи, оттуда по горам в сторону Симфера и домой.
Не в восторге, заметно.
– Все могло быть гораздо хуже, Ян. А так – приключение. Будет что на свалке вспомнить.
– Можно попить?
Смирилась.
– Можно. Допиваем все и идем.
* * *
Офигительно пахло травами. Под обрывом, в камнях, ухало. Скалы, громоздясь, уходили далеко в воду, а между ними, в полосах пены, мотались взад-вперед бурые космы. Тянуло холодом; море дышало, слепя искрами и обрушивая холмы из стекла – густая синь в белых черточках до самого горизонта.
Хотелось вниз. Тропы сорвиголов срывались с края и козьим следом змеились по склону. Мы шли по лугу, обрастая цепкими семенами. Метелки травы льнули к коленям, волнуясь под ровным, набегающим с моря ветром, и можжевеловые кусты стреляли вдруг мелкими птичками…
* * *
– …меня в этой крепости озарило: Генуя по-итальянски Дженова, почти как Женева, и, думаю, неспроста: расположены рядом, обе бойцами славились, обе внаем их сдавали: европейские короли из швейцарцев гвардию набирали, а генуэзцев монголы даже на Куликовскую битву подписали.
– Вы историк?
Мы шли рядом – я уступил ей тропу.
– Не. Медик.
Она улыбнулась. Уголками губ, как Джоконда.
– Что, не похож?
Взгляд сквозь челку – болонка! – и отрицательное покачивание головой: не похож.
– Понимаю. Вообще изначально я выглядел более презентабельно. У меня был другой рюкзак, был спальник, фотоаппарат, горелка… все это позавчера умыкнули, и пришлось заново снаряжаться.
Открылся пляж. Широкий, песчаный – изогнутая дуга до подножия далеких гор.
– Веселое. Сейчас на трассу, и в Алушту на попутках.
– Думаете, возьмут?
– Конечно. Сюда ж я доехал.
– Сюда – в смысле в Судак?
– Сюда – в смысле в Крым.
– В Крым? Из Питера?
– Ну да.
Она не поверила.
– Что, серьезно? И сколько вы так ехали – месяц?
– Пятьдесят четыре часа. Двое суток.
Ноги вязли. Я снял ботинки и зашагал по кромке прибоя; песок плотный, прессованный, гладкий – как по асфальту идешь.
– Попробуйте, Яна, так гораздо легче.
Она продолжала размалывать сухие наносы, оставляя вихляющие следы. Ей было интересно другое.
– И ни разу не заплатили?
Я кивнул.
– Потрясающе.
– Согласен.
– Я о другом.
– Я понял.
Почему-то именно это никому не дает покоя.
– А если бы у вас на Камчатке рюкзак украли?
– Вернулся бы в Питер с Камчатки.
– «Никогда не сдавайся!», да?
Нехорошо так, с издевочкой. Ви-ай-пи, блин. Вери импотент. Надменные, как верблюды, а сами, при случае, даже воблу почистить не могут, мучают ее, как я не знаю…
– Именно так, Ян. Вот что мне всегда нравилось в америкосах, так это никогда не сдавайся! У нас, к сожалению, это редкость. Наши даже таблетки по четвертинке глотают – на всякий случай, чтобы чего не вышло.
– Ну, не все же такие крутые.
То ли уколоть хочет, то ли польстить.
– Дело не в крутизне, дело в ментальности. У них – никогда не сдавайся, у нас – а все равно ничего не выйдет! У них – сделай или сдохни, у нас – а почему я должен? Кто виноват? что делать? и: а почему я должен? Безволие, инертность, заведомая обреченность. Чтоб самому решение принять – рубите, я отвечаю! – фиг!
Свернули с пляжа, набрали воды. Пошли к трассе. Навалилась жара. По обе стороны от обочины тянулись кривульки виноградной рассады.
– Смешные, правда?
Она пожала плечами и стянула джемпер, оставшись в короткой, по грудь, маечке. Золотое колечко в пупке; смуглая, гладкая кожа; край джинсов охватывает мышцы на животе.
Пока шли, она не проронила ни звука. Дошла и села в тенечке с бутылкой между колен. Ждет, пока я ей машину поймаю. Княжна, елки зеленые. Джозиана де Сент Шантеклер.
Я тормознул первую.
– День добрый, уважаемый. Подвезите по трассе, пожалуйста. Мы сами в Алушту, но с вами сколько по пути.
– А шо вы платите?
– Да, честно говоря, ничего. У нас денег нет, на попутках едем.
– Не-е, я так не могу.
Уехал. Остановился второй.
– Здравствуйте, подвезите в сторону Алушты, пожалуйста.
– А куда вам?
– Нам в Алушту, только у нас денег нет.
Закрыл дверь, тронулся.
– У вас действительно денег нет?
Есть. Десятка на крайняк.
Продолжения не последовало; она просто спрашивала, есть ли у меня деньги, не опускаясь в вопросе до скрытой просьбы.
Подрулил еще один.
– В Алушту?
– Да.
– Шо платите?
– Денег нет, на попутках едем. Возьмете?
– Шо, совсем не платишь?
– Совсем.
Он немного поосознавал этот факт.
– Шо, даже на бензин не дашь?
Я развел руками.
– Ну-у, у нас таких не подбирают. Год тут будешь стоять.
– Едва ли.
– Ты шо, сынок, кто ж тебя бесплатно возьмет: сорок километров, бензин, дорога…
– Так, отец родной, давай так: да – да, нет – нет. Нет – скатертью дорога, не занимай место.
Обиделся, отвалил.
– А вот вам, Яна, национальный крымский вопрос: а шо вы платите?
– Они правы. Без денег далеко не уедешь.
– А вот посмотрим.
Следующему я голоснул по-западному, большим пальцем, и тот, крутанув руль, припечатал легковушку к обочине.
– Путешественники?
– Путешественники.
– Садись. Куда едете?
– В Алушту, а оттуда на Демерджи.
– До Малореченского, идет? Полдороги примерно.
– Конечно.
Тронулись.
– А я смотрю – не по-нашему голосуют, значит, думаю, автостопщики, по телику видел. Москвичи?
Я посмотрел на нее в зеркало. Она отвернулась.
– Питерские.
– Давно путешествуете?
– Да не очень.
– Поня-а-атно. Где были?
– Коктебель, Кара-Даг, Судак, Новый Свет.
– А сейчас, значит, на Демерджи?
– Нуда.
Он запустил руку в карман позади сиденья.
– Держи.
Бутылку пива ей, бутылку мне. «Оболонь. Свiтлое». Вкусное, ледяное.
– На Демерджи, а потом?
– В Симферополь, горами, – На Демерджи советую через Джур-Джур идти.
– А это что?
– Джур-Джур? Водопад. Село Генеральское. Я сам оттуда, могу подвезти. От него на Демерджи тропа начинается – к вечеру будете. Хотите?
– Еще бы. – Я поднял глаза на Яну. Она упорно отводила взгляд, словно кондуктор от проездного. Ну, бука!
Море перемещалось: опускалось, поднималось, возникало перед глазами и уползало далеко за спину. Уши закладывало. Шоссе петляло, складываясь пополам; обочина обрывалась в рыжую вертикаль; деревья внизу казались нестрашными щеточками. Впереди, ощупывая серпантин, осторожно переваливался автобус. Навстречу ему, отдуваясь, полз еще один. Между ними, оскорбительно и небрежно, протискивались легковушки. Некстати взявшийся лесовоз пытался спускаться, виновато мигая пыльными стоп-сигналами. От него держались подальше – прицеп с кипой досок доверия не внушал. Над гудроном мерцало прозрачной дрожью, дорога на взлете упиралась в ультрамарин, белевший в голубой дымке маленькими кубиками Алушты. В окне пел ветер.
– В отпуске?
– Не, по больничному закосили.
– А где работаете, если не секрет?
– Фельдшерами на скорой. – Я протянул руку. – Феликс.
– Равиль.
– Очень приятно. А это Яна.
Ей не понравилось, я почувствовал. И пиво свое она тоже не откупорила. Горда!
– И как у вас на скорой, Феликс, нормально платят?
– Когда у нас нормально платили, Равиль? Дважды в месяц перед государевой ширинкой на колени встаем.
– Оттого, наверное, и попутками путешествуете?
– Конечно.
– И у нас то же. Пашешь тут, пашешь…
Благородным разговоры смердов досадны – Яна скучала. Равиль поиграл кнопками, поймал станцию. В эфире, мучая «Поручика Голицына», надрывался Малинин. Тоже, говорят, князем заделался, страдалец.
Нырнули с горы, повернули и опять в гору, по-над рекой и чайными полями. Справа, прямо из леса, вырастало плато: голый камень отвесных сбросов, пологие скаты, зелень листвы у подножия.
– Это что?
– Где? А-а, Караби. Караби-Яйла.
– Подняться можно?
– Можно. От Джур-Джура. Направо на Караби тропа, налево на Демерджи.
Въехали в село. Тормознулись.
– Все, ребят, вам прямо. Мимо не пройдете.
– Спасибо, что подвезли.
– Да не за что. Давайте, путь добрый.
Отошли.
– А вы говорите – не уедем. – Я хотел ее хоть немного расшевелить. – Вспомните, как много есть людей хороших – их у нас гораздо больше, вспомните о них!
Улыбнулась, и то хорошо.
* * *
У реки стояли автобусы. Прыгая по камням, мы пересекли ручей и вошли в лес. Навстречу шли экскурсанты с «мыльницами» и борсетками. Местные тетки продавали непонятные вкусности. Водопад был слышен издалека.
Из-за перегиба, закручиваясь, вылетала широченная завесь и, потеряв инерцию, тяжко ахала вниз. Плавала пена. В сторонке, журча, ниспадали витые косы. В воздухе висела водная пыль; мох на камнях сочился крупными каплями. Девчонка в купальнике, расставив руки, отважно приближалась к каскаду; волосы облепили плечи тяжелыми снопами. Достигнув мейнстрима, она завизжала и сунулась под холодный поток. Струи разбивались; кожа поблескивала. Посмеиваясь, ее снисходительно фотографировали.
Мы умылись в сторонке. Яна протянула палец, и я выдавил ей на подушечку полоску пасты. Почистили зубы, набрали воды.
– Идем? А то холодно.
Она кивнула. Поднимаясь, мы слышали новые взрывы восторженного, аттракционного визга.
Никого. Тропа взбиралась по склону, верхушки деревьев сползали вниз. Мы шли, упираясь руками в бедра. Свитера ехали поверх рюкзака. Я шел сзади, вдыхая запах ее пота пополам с остатками духов.
– Дойдем до тех деревьев и отдохнем.
Она подняла голову – оценить расстояние.
– Хорошо.
Королева туарегов: гордость, достоинство и осанка. Мой сарказм, настоявшись, переходил в сдержанное уважение.
Сели. На ее висках сохли прозрачные капли. Я вытащил бутылку, протянул ей.
– Я умоюсь?
– Угу.
– Полейте, пожалуйста.
Вырез майки, загорелые плечи, грация острых лопаток. Струйки воды на тонких плечах.
– Еще?
– Спасибо, достаточно.
Я свернул нам по самокрутке. Прикуривая, она коснулась моей руки. Под ложечкой екнуло. Адреналин вцепился в лицо и, словно перед экзаменом, заныл в горле. Согнутые в коленях ноги, гладкие, полуприкрытые белым голени. Тоненькие сухожилия и ссадина на лодыжке. Тенниски уже слегка обносились: мыски сбиты, за шнурок зацепилась лапкой хвоинка.
– Я сейчас вернусь, Ян.
Она прикрыла глаза.
Походил, отпустило. По дороге назад я сорвал какой-то цветок, но, подойдя, передумал и, скомкав его в кулаке, сунул в карман.
– Идем?
Выполаживалось. Лес кончился, и мы вышли на поросшее травой плато. Вид отсюда был потрясающий: курчавые горбы гор, ссадины скал, резкая грань утесов на фоне неба. Клубы облаков.
– Вам нравится?
– Да.
Просто и коротко. Мы постояли, запоминая, повернулись и пошли по узкой, зажатой между двумя хребтиками, долине.
Внизу слева, глиссируя по зализанным скатам, звенел в промытом известняке ручей. Вода шлепалась в ванны, вспыхивая, бродила по кругу и казалась совершенно прогретой.
– Джаст момент.
Хватаясь за ветки, я ссыпался вниз.
– Меня видно?
– Нет.
Удачно. Самое то для купания, да и постираться не помешает.
– Спускайтесь, только осторожно.
Симпатичная, обтянутая джинсами, попка.
– Тайм-аут, Ян. Стираем одежду, купаемся. Вы здесь, я чуть ниже. Пока сохнем, сварим рис, сладкий. Мыло пополам, идет?
На сей раз она подняла на меня обычные, девчоночьи, глаза.
– Идет. Спасибо.
– Вот вам рубашка – задрапируйтесь.
Уворачиваясь от веток, я протиснулся вниз. Тут было еще лучше. Поток скатывался, ложась с боку на бок, как в аквапарке, сверху свисали длинные, косматые лозы.
* * *
Обкатанные водой, выгоревшие камни дышали теплом. Там, где на них падали капли, они темнели, расплываясь вширь и так же быстро уменьшаясь с краев. Солнце палило. Я сидел голышом и мылил мокрые шмотки, роняя в воду серые хлопья. Ручей с готовностью подхватывал их и уносил, растаскивая на молекулы. Полощась, как енот, я со вкусом мурлыкал старую песню:
В ущелье, где днем отдыхает луна
и черные камни как будто стена,
не зная дорог, бежит ручеек,
торопится по валунам…
Футболка дала мутное облако. Сопротивляясь, оно на мгновение зависло в толще, но поток набежал, сдвинул, увлек – секунда, и перед глазами снова неслись одни только прозрачные пузырьки и мелкая, но, очевидно, весьма важная для ручья всячина.
И разве такая большая беда —
все время спешить неизвестно куда?
Достаточно знать, что надо бежать:
на это она и вода…
Наверху было тихо. Я старался не думать о ней, но не получалось, а, наоборот, представлялось во всех подробностях. Хотелось просто ужасно. Пытаясь отогнать видение, я залег в ванну – под горлом разом запели крохотные бурунчики.
Святой Антоний, умерщвление плоти, ночные бдения над молитвенником.
Христовы невесты, целибат, выбритые тонзуры.
Придурки!
Безбрачие – говно! Возвращайся, Мишель [88]88
«Горячие головы-2»; буддийские монахи провожают таким плакатом заехавшую в монастырь красотку.
[Закрыть]!
Я перевернулся, уйдя с головой в воду. Мягко толкало в темечко. Полежал, покуда хватило дыхания, встал и, роняя воду, завозил по телу обмылком, пытаясь извлечь из него немного душистой пены.
Вниз по течению.
Вниз по течению.
Вниз по течению
Бежит вода, шлифуя спины камне-е-эй…
Станок кусался. Обрастая порезами, я закончил бритье и закинул его далеко в заросли.
– Ян, можно?
– Еще нет.
Посидел, покурил, осмотрелся. Набрал сушины, подпалил, поставил в огонь котел. Поплыл вкусный дымок.
– Яна.
– А?
– Закончите – спускайтесь сюда.
– Хорошо.
Рис разварился, смачно пукая сквозь белую корку. Эх, молочка бы к нему! Зашуршали ветки, спустилась Яна.
– Привет!
Потемневшая от воды челка, загорелая ложбинка в вырезе ворота, коричневые зеркала ног. Тонкие, как у скакуна, щиколотки, очерченные колени… хорошо, что в джинсах сидел, а то неловко бы получилось.
Она как почувствовала. Сидела скромницей, укрыв ноги ковбойкой, но спинку при этом держала прямо, шею ровно, голову высоко, и от этого, равно как от сознания того, что там, под фланелькой, ничего нет, сладко прихватывало за грудиной. Горло сохло, голос садился.
– Ло… кхм… ложку, ложечку?
– Ложечку.
– Правильно – удовольствие надо растягивать.
Она ела, запивая из подкотельника, а я украдкой смотрел, как ходят у нее на шее тонкие мускулы. В какой-то момент взгляд мой был перехвачен, и я почувствовал, что краснею.
– Прошу прощения, Ян. Просто вы так призывно выглядите…
Она посмотрела мне в глаза:
– Спасибо.
– Да не за что.
– Я не об этом.
Серьезная глубина карих глаз.
– А-а-а… Да, со мной вам действительно повезло.
Искорка-чертовщинка на глазном дне – оценила.
– Знаете, Яна, вам даже в глаза смотреть – удовольствие.
Она не выдержала и смутилась.
– Говори мне «ты», хорошо?
– Смотри!
Я обернулся. На залитых углях сидели бабочки. Штук сорок, наверное.
– Чего это они?
– Не знаю. Может, золу жрут, может, греются. Может, просто посиделки у них.
Прилетели еще два десятка и тоже уселись, потеснив предыдущих. Теперь все кострище было плотно усеяно маленькими изумрудными треугольничками.
– Эх, жалко, фотик подрезали – такой кадр пропадает!
Яна опустилась на корточки, уперев кулачки между колен. Качнулась вперед, рассматривая – икры прочертили бороздки, под смуглой кожей напряглись горки лопаток; глотку перехватило, и кипятком под самую диафрагму – краешек майки засветил упругие груди. Качнулось и поплыло. Пришло отчетливо – зрелище на всю жизнь, оттиснулось, как гравюра, перед смертью вспоминать буду.
– Кхм… идем?
Она легко, на носочках, поднялась.
– Угу.
Я вылез сам, вытянул за руку ее.
– Давай, вперед.
Мне хотелось видеть, как она двигается. Как у нее все двигается, когда она, изогнувшись, потягивается, сплетая пальцы и разводя локти, или, вытянув ступню балериной, снимает кроссовок, чтоб вытряхнуть несуществующий камешек. Я уже понял – сегодня ночью. Сегодня ночью у нас с ней все будет: она так решила.
Стали попадаться туристы. По двое, по трое, группами. Все шли на Джур-Джур, и, по их словам, до Демер-Джи оставалось немного. Потихонечку вечерело; по земле ползли тени; низины гасли, собираясь ко сну. Солнце старалось только для той стороны хребта.
Мы вышли к озеру. Тропа, огибая, взлетала в гору, прямо в темно-синее небо. Там еще было светло: блистали скалы, бледнели остаточным ореолом редкие, низкорослые сосны. Вокруг озера стояли палатки.
– Давай останемся?
Плыли дымки. Пахло тушенкой. Вибрировали земноводные. Торжественный хор плыл над распадком; вели солисты.
– Не, Ян, пошли, немного осталось. Еще полчаса – и весь мир на ладони: закат, море, Алушта…
Из-под ног бомбами вылетали лягушки и, дрыгнув разок-другой ластами, тонули в полном изнеможении. Остальные неистовствовали, наполняя рокотом синие сумерки.
Мы поднимались выше и выше. Гребень, четкая граница света и тени. Шаг, другой – и шквал света в лицо. Солнце, слепя напоследок, косматым клубком валилось в желтую муть; море казалось белым и алюминиевым. Медведь-гора стекала в застывшую гладь. Оранж над головой переходил в пастель, пастель – в глубокую синь.
– Как, а? Скажи?
Она щурилась на далекое солнце. Тонкая плеть запястья, дощечка ладони перед глазами. В груди у нее кипело – струйки восторга, торя дорогу, толкались в крышку.
Тишь, покой, чуть слышные шумы из долин.
Скалы срывались. Колоссальный объем воздуха искушал шагом в бездну. Под ногами росли столбы окаменевшей магмы; слои сливались, крутясь спиралью, на макушке у каждого застыл маленький мазок довеска.
Безветрие.
Горизонт.
Поля, домишки, нитки дорог.
– Ян, это солнце сейчас – только нам, для остальных оно уже закатилось.
– Не только. Вон еще люди сидят.
Три тетки, четверо детей, несколько рюкзаков. Курят.
– Они в тени, значит, не в счет. Сейчас мы у них куревом разживемся…
Спустились, подошли.
– Привет, у вас, случайно, пары сигарет не найдется?
– Случайно найдется. – Симпатичная очкастая тетка не глядя вытащила из пачки штук пять мальборин. – А у вас вода есть?
– А как же, – я вытащил пластиковую бутыль, – пожалуйста.
Дети разделались с двухлитровкой за шесть секунд. Женщины пили медленно, растягивая каждый глоток.
– Да не мучайтесь, воды много.
– Там, дальше, снежники есть?
– Нет.
– А до воды далеко?
– Версты полторы.
– Плохо.
– Чего так?
– Устали. Несем много.
Из-за перегиба показался потный толстун со столитровым горбом рюкзака. За лямки он нес еще один. Сипя и отдуваясь, мужик дотащился до нас и рухнул. Пахнуло конем. Я достал новую непочатую «торпеду», он сербанул из нее чуть ли не половину и разом покрылся блестящим, сочащимся слоем.
– Ф-ф-фу, ты, елки… далеко еще до воды?
– Полтора километра.
– Снежников нет?
Откуда ж им взяться – жарень такая.
– Как там Сантьяго?
– Сантьяго вешается. Вода еще есть?
– Есть.
Последние полтора литра. Янин взгляд обозначил недоумение и тревогу; я подмигнул ей.
– Много еще рюкзаков?
– Два.
– Помочь?
Мужик обрадовался:
– Спасибо, старик. Сейчас докурю, и пойдем, лады?
Я кивнул. Толстяк протянул руку.
– Юра.
– Феликс.
Мы спустились за перегиб. Навстречу пер навьюченный очкарик с гитарным чехлом на шее.
– Где Сантьяго?
– Сдох. Сидит, дышит. Попить есть?
– Наверху. Вот, Феликс нас спас.
Очкарик протянул мокрую ладонь.
– Михаил.
– Феликс.
– Как снежники?
– Стаяли. Вода – только из озера.
– Всегда ж лежали еще…
Михаил пах резче. Футболка на нем насквозь промокла, а поперек лба, как у Рембо, темнела красная тряпка. Очки, щетина, армейские шорты – уголки бедренных карманов загнулись и торчали острыми крылышками.
– Сантьяго далеко?
– В кустах.
Прозвищу Сантьяго не соответствовал: мелок, лыс, зубы забором – то ли доцент, то ли разнорабочий. Сидел и дымил беломориной.
– Что, Саня, вешаешься?
Сантьяго молча кивнул.
– Это Феликс. Сейчас мы тебе Люськин рюкзак принесем, так что не спеши тут.
– А я и не спешу.
Два рюкзака, один большой, другой поменьше, прислонились к стволу дерева. Я влез в лямки огромного «Шерпа». Дернулся встать.
Ни хрена себе!!!
– Блин, вы чего туда насовали?
– Тяжко? Давай я.
– Не-не, сам. Дай руку.
Встал. Постоял. Пошел. Раком, руками за землю. Отбрасывает – охренеть! Пот градом, ноги дрожат, на каждый шаг по два вдоха приходится.
– Это уже не путешествие, а перенос тяжестей.
– С детьми идем, сам понимаешь: то да се, вот и набежало под сороковник. А когда мы в марте на Полярный Урал шли, народ, для экономии веса, мульки с одежды спарывал и обертки с конфет снимал.
Поравнялись с Сантьяго, пошли втроем. За перегибом стало полегче – знай переставляй ноги да воображай себя где-нибудь в Гималаях.
Темнело.
– Вы где ночуете, Феликс?
– Мы-то? Внизу хотели, в долине.
– Ночуйте с нами – поужинаем, настойки хлопнем, песенок попоем… все лучше, чем на ночь глядя впотьмах шариться.
– Да мы без палатки.
Удивился.
– Чего так?
– Рюкзак позавчера дернули, со всем содержимым.
– Ну-у… Тогда вам с нами сам бог велел.
Что и требовалось.
– Тут поблизости встать есть где?
– Есть. Метрах в трехстах террасы с соснами, самое то для ночевки.
– Гут, Максимка! Челночим мешки, и за водой. К озеру отведешь?
– Отведу.
Переташились. Я, Сантьяго и очкастая Люська пошли по воду, остальные разворачивали палатки, разыскивали сушняк, ставили лагерь.
Когда мы вернулись, пылал костер. Резали сало и хлеб, крошили салат в мисках, накрывали стол на ковриках.
Поблескивали алюминиевые стаканчики; дети, зевая, глядели в огонь.
Перекинули жердь, повесили котлы.
– Что готовим – рис, гречу?
– Гречу, гречу!
– Может, все-таки рис?
– Да ну его, гречу давай.
Юра присел с плоской флягой из нержавейки.
– Давайте-ка накатим для аппетита.
Разобрали стаканчики.
– Ну, за встречу!
Жидкое пламя по горлу; длинные ломти копченой, с перцем, корейки вдогон. Вкуснотища – шоб я так жил!
Сантьяго, работая тесаком, вскрывал банки с тушенкой; нарезали лук, поджарили в крышке на сале. Запах – чума: еще бы, двое суток одну только кашу рубать!








