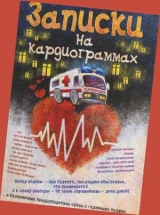
Текст книги "Хроники неотложного"
Автор книги: Михаил Сидоров
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
– Нету, днем съели.
– Чё делать будем?
– Гречу со свиной шкурой. Как раз на троих хватит.
Он сыпанул в кастрюлю крупы, залил водой и поставил на огонь.
– Слушай, я еще раз в ванную схожу, справишься?
– А что делать?
– Нарежь на шнурки, положи в сковородку, а когда жир даст, пожарь пару минут и засыпь луком. Подрумянится – снимешь.
– Сколько лука?
– Да все, что есть. Потом гречу туда вываливай и замешивай с майонезом. Я скоро.
– А чай?
– Чай, слава богу, есть еще. Хлеба к нему нажарь, только не сожги, ладно?
– Ладно.
– Давай. Я пошел.
– Сигарет две штуки всего.
– Табак есть. Не пропадем.
* * *
По кухне поплыл вкусный запах. На него пришла Леха в легионерской футболке до колен и в толстых шерстяных носках белого цвета. Выглядела она очень эротично, особенно спросонья.
– Как себя чувствуешь, Лар?
– Не спрашивай. Лучше б я умерла маленькой.
– Есть хочешь?
– Угу. Попить бы чего.
– Сейчас чай закипит.
– Налей воды пока. Я ничего такого не оттопырила?
– Да нет вроде. Без спецэффектов.
– Как вы меня нашли-то?
– Случайно.
Леха осушила литровую банку.
– Спасибо вам.
– О чем речь, Лар?
– Мне б домой позвонить.
– Уже позвонили. Все нормально, садись. Сейчас есть будем.
– А что это?
– Это, мать, стратегическое блюдо. – Вениамин, свежий и всклокоченный, протиснулся мимо нас и стал доставать тарелки. – Жирное, калорийное, самое оно с похмела. Кстати, есть предложение выпить.
Лариску передернуло.
– Смеешься, что ли?
– Полегчает. Да там и пить нечего – по рюмке на рыло. Феликс, ты как?
– Запросто.
Он принес бутылку. Налили, выпили, навалились на кашу. Вкусно, черт!
– Что там, на Центре?
Леха махнула рукой.
– Ты хоть сказала, в чем там все дело?
– Ты про деньги?
– Ну.
– Этого ж не докажешь. И потом, мы фельдшера, а там врачи – им доверия больше, по умолчанию.
– Короче, не поверили.
– Конечно. Родственники волну погнали, прокуратура зашевелилась – на кой ляд главному упираться, реноме ронять? Вы, говорит, допустили грубейшее нарушение, не вызвав специализированную бригаду. А хрен ли ее вызывать, если у клиента гипостаз [57]57
Гипостаз – так называемые трупные пятна.
[Закрыть]в полный рост и три метра изолинии на ЭКГ – трупее не бывает, ежу ясно! Он мне тогда: надо было начать реанимацию по деонтологическим соображениям [58]58
По деонтологическим соображениям – то есть заранее зная, что успеха данное мероприятие не принесет.
[Закрыть]. Ага, говорю, значит, вы верите, что там была смерть до прибытия?
– А он?
– А что он… Он как в «Книге джунглей»: никто и ничего не сможет объяснить Шер-Хану. Принцесска сидела напротив, губки гузкой, ни единого звука не издала. Белка укакалась насмерть, а про прокуратуру услышала – как кукла стала, слепой страх в глазах.
– Объяснительную писали?
– Докладную.
Это правильно. Объяснительная – значит, объясняешь; объясняешь – значит, оправдываешься; оправдываешься – значит, виновен. А написал «Докладная», и вроде как только до сведения доводишь: от такая х…ня, малята [59]59
От такая х…ня, малята! – популярная в Киеве фраза. По легенде, произнесена в прямом эфире подвыпившим ведущим украинского варианта «Спокойной ночи, малыши».
[Закрыть]. Политика.
– Предложили по собственному?
– Куда ж они денутся?
– А ты?
– Не-а. Внизу еще дописала: «Настаиваю на проведении независимой экспертизы и судебном разбирательстве».
– А Белка?
– Белка сейчас как зомби, ты ж ее знаешь. Что ни скажут, все сделает.
– Не боишься? Подставит ведь.
– Сто пудов! Ее ж запугать – как два пальца. Я ей так и сказала: вали все на меня. Старшей, мол, на бригаде была Алехина, с нее и спрашивайте.
– Слушай, там еще те гады сидят – не заметишь, как на умышленное убийство подпишут.
– Да ладно, что с нее взять, собственной тени боится.
Свистнул чайник. Северов разлил крепкую, с черничным листом, заварку, двинул по столу сахарницу.
– Печенье есть? Или сушки?
– Ничего нет. Деньга кончились.
– Так сказали бы мне.
– Когда? Ты не то что в дверь не попадала – фарш прицельно метнуть не смогла.
– Ладно-ладно. С утра сбегаем, хороший завтрак соорудим. Табак будет кто? Трубочный.
– Ароматный?
– Не то слово. Вересковый мед.
– Из трубки?
– Ну да. Пошли.
* * *
Леха после еды и выпивки отяжелела и, сказав: «Я полежу минутку», опять отрубилась. Подтянула коленки к груди и затихла. Мы осторожно вытащили из-под нее одеяло и накинули сверху.
Посуду мыть не стали, свалили все в раковину и залезли в спальники. Погасили свет и лежали, переговаривались.
– Блин, вроде и отдыхал, а тело все равно ноет. Как мешки таскал, честное слово. Спать хочется, а не спится.
– Джа-м-м-м. – Он выдержал паузу и запел. – Итс бин а хард дэйз найт энд ай бин уокин лайк а до-о-ог… У меня после тяжелых смен всегда так. Первые сутки вообще отлеживаешься, только на вторые расхаживаться начинаешь.
– А некоторые всю дорогу сутки через сутки, врубись?
– У меня в начале карьеры тоже так было. Чего только не вынесешь, пока молодой. Все внове, все интересно – доктор на скорой, романтика!
– Сомнительная. Знаешь, был такой поэт в нашем детстве – Маяковский, может, слышал?
– Что-то знакомое, – он улыбнулся, – ну?
– Цитирую:
Не важная честь, чтоб из этаких роз мои изваяния высились.
По скверам, где харкает туберкулез, где блядь с хулиганом да сифилис!
Как раз про нас. В тебе когда Павка Корчагин скончался?
– Года через три. Был у нас фельдшер Витя Андреев. Тихий, безобидный, слова в свою защиту не скажет. Король внутривенных инъекций, вслепую колол.
– То есть?
– На один глаз не видел, совсем. Взрослый мужик, за полтинник, всю жизнь бобылем прожил. Тридцать лет отпахал, больше иного доктора знал, а когда на второй глаз слепнуть стал – уволили. Выкинули, как сивку укатанного, даже диспетчером не оставили. Он за полгода спился и умер.
Он лежал, закинув руки за голову.
– И еще, было дело, девчонка у нас погибла, в свой день рождения. Ее после родов муж с дитем бросил, а у нее, помимо дочки, еще и родители-инвалиды. Ну, она из декрета вышла и на две ставки впряглась. Год, два… Пить стала с беспросвету, поджелудочную посадила, на инсулин села.
– Диабет?
– Ну. А сама красоты редкой. Такой, знаешь, испанской, цыганистой. Фигура – в гольф с магнатами играть. Десять лет так тянула. За неделю до дня рождения панкреатит обострился, сахара зашкалили, гипергликемия и привет семье. Ровно тридцать пять лет прожила. Я после этого как-то понял, что не стоит так надрываться. Мы ж для них, – он ткнул в потолок пальцем, – как салфетки: хочешь сморкайся, хочешь – подтирайся, и любая падла тебя нагнуть может… Знаешь, почему я с последнего места ушел?
Похоже, его пробило на поговорить.
– Из-за заведующего. Он, гад, двухлетнего парнишку угробил и вину на других свалил. Может, сходим покурим?
– Вылезать лень.
– В мешках допрыгаем.
Сидя на полу в спальниках, мы, как Том с Геком, передавали друг другу трубку. В открытые фрамуги тянуло медвяный дым.
– Оставил он дома мальца с температурой, а на повтор отправил одного фельдшера – свези, говорит, в инфекцию, чтоб не скандалили. Та и свезла, не осмотрев. А у мальца менингококцемия – сыпь выступила, на минуты отсчет пошел. В инфекции тоже хуи пинали, пока то, да пока се… Увидели, обосрались и давай нам звонить: пулей в «Гниду» [60]60
«Гнида» (жарг.) – клиника НИИДИ, Научно-исследовательского института детских инфекций.
[Закрыть]! Зав приехал, просек, что может не довезти, и сел спецов ждать: у меня, мол, машина не оборудована. А время, сам понимаешь, золото. Родители уже в курсе, на винте, с ножом к горлу – вези сам, сука!!! И инфекционист ему: Да имей же ты совесть, погибает пацан! Сидит, ждет. Пятнадцать минут, двадцать – давно б домчались уже. Тогда родители несут парнишку в машину, и он едет. В кабине!
– Ёб!
– Мальчишка у матери на руках, отец систему держит, а доктор в кабине, врубись? Даже стрелку со спецами не забил. Те освободились, вваливаются в инфекцию, а он уехал. Привез в «Гниду», успел, а мальчик через полчаса умер – упустили время.
– Сильно.
– А дальше самое интересное. Возвращается он и к диспетчеру: на кого оформлен повторный вызов? На вас. Переписывайте на фельдшера. Та в отказ, как Понтий Пилат. Он к фельдшеру – пиши историю! Она ему резонно: вызов врачебный, вы и пишите. Сечешь?
– Если пишут, то все шишки на них, а он – чистый.
– Вот именно. А затем гасит компьютер с записью переговоров, типа мистическое совпадение. И навалит диспетчера, фельдшера и врача спецбригады. Причем все – белыми нитками. Но в итоге во всех троих полный боекомплект, а его лишь холостым выстрелом пуганули. Ну, я плюнул и ушел. В город подался.
– А тут еще круче, Вень. У нас народ на бабло ух как завернут! Особенно Муравьев, Грач и Баринов. Баринова, правда, уволили – по карманам шарил на вызове, а Грач на днях старушку дома оставил, с аритмией на низком давлении. Ветхая такая старушечка, от старости пенициллин вырабатывает: стоит, шатается… Что ж вы, бабуленька, в больничку-то, блин, не поехали? А у меня, касатики, денег нет. Каких таких денег? За прием заплатить – товарышш ваш сказал, что шешшот рублев стоит в больницу лечь. Дайте, говорит, их мне, а я кому надо отдам. А откель у меня стока? Пенсия через пять дней. Не поеду я. Ну, говорит, как хотите. Подпишите бумагу, что не поедете… Те еще шакалы, увидишь. У них традиция: если в одну смену работают, то утром, за чаем, деньги считают – кто больше за сутки намолотил. Кстати, о чае, давай еще дернем?
Заварили. Леха в комнате спит, разметалась, жарко ей.
Я продолжил:
– А самый виртуоз – Муравьев. Приезжает на ДТП – мужика на желтый иномарка срубила. Мужик тяжелый, на подвздохах [61]61
Подвздохи – агональное дыхание.
[Закрыть]. Он его интубирует, переводит на ИВЛ, потом подзывает водителя иномарки: так, тысяча баксов, и ты отмазан. У того с собой сотен семь было – договорились. Иди, скажи ментам, что он упал под колеса, и пусть в протокол занесут. А дальше? А дальше уже не твоя забота.
И везет мужика в академию. По дороге заезжает в ларек, берет маленькую водяры и через зонд заливает в желудок. Добавляет в сопроводиловку «запах алкоголя в выдыхаемом воздухе», а в обстоятельствах травмы: «В состоянии алкогольного опьянения упал под колеса проезжающего автомобиля». Под сиреной привозит на Сампсониевский, где мужик благополучно чехлится. Этанола в крови у него столько, что сомнений не возникает. А чего, говорит, все равно не жилец… Так что вот так вот, Вень. Везде все одинаково. Чак Дарвин, теория эволюции – кто не приспособился, тот умер. При этом сидят на кухнях и на жизнь жалуются. Рыбину на днях лохотронщики развели – взрыв возмущения. Слезы, сопли… а сама брала бабку с улицы, так всю пенсию у той срезала: типа, дома сидеть надо, колода старая, почтальона ждать, а не по улицам шариться! Ты ее видел?
– Нет еще.
– Православная наша. Все знает: с какой стороны к попу подходить, каким каком ему руки лизать, в какие тапки покойника обувать. Работал я с ней накануне Пасхи, смотрю, на человеке лица нет. Вздыхает, мается. Я не выдержал: что случилось? Согрешила я, Феликс, в Великий пост согрешила. Перед Светлой Пасхой соседку на х… послала, грех-то какой! Фу-ты, блин, а я уж подумал – святой водой спросонья подмылась! И что? Давай в храм заедем, свечку поставим. Слушай, говорю, будь проще, извинись перед ней. А она мне: щ-щ-щас!
Северов засмеялся.
– Ну, это нормально. Все они двойным стандартом живут: одной рукой кресты кладут, другой клитор стимулируют, а паломников вообще десятой дорогой обходить надо – уж такие правильные, такие правильные: елеем писают!
– Пройдешь, бывало, мимо, поглядишь как на кролика и потолкуешь насчет погоды, но никаких распивочных и на вынос не было.
– О. Генри, «Пимиентские блинчики».
– Точно. Ёлки-палки, давно я такого кайфа не получал! Хорошо, что ты к нам пришел.
– Только я так чувствую, что это мой последний сезон на скорой.
– Чего так?
– Да что-то не в радость становится. У меня дружок – хирург в райбольнице, так с ним в городке все от мала до велика здороваются, а ко мне на «ты» даже реанимированные обращаются. Надоело. До лета дотяну и завязываю. Валю, одним словом.
– Куда?
– Туда, где людей мало. Я раз в Черкесии на кордоне у егеря ночевал, в горах, и к нему сосед пришел пообщаться, тоже егерь. Целый день через два перевала пилил. Вышел из темноты с карабином, чайник чая выпил, поговорил не спеша и утром назад наладился. А тут вокруг пять миллионов, и ты как рубль во время инфляции. Кишмя кишат, их даже на кладбищах друг на дружку кладут – в могилах лежат, как в метро едут.
– Только что не ругаются.
– Да нет, переругиваются, я думаю, под землей. Так что все эти игры, в которые играют люди, лучше с трибуны смотреть – они на арене рубятся, а ты в амфитеатре попкорном хрустишь.
– Чувствуется влияние «Гладиатора».
– Есть немного. Я его, кстати, впервые на турецком языке посмотрел. Ехал из Сельчука в Бергаму в междугородном, а в нем как раз «Гладиатора» крутили, по видео. И представляешь – я в ту ночь именно в амфитеатре заночевал. Там, над Бергамой, на горе римский город – цитадель и театр десятитысячный…
Глаза слипались. Веня вещал что-то про белеющие во тьме колонны, про мощенные гулкими плитами улицы, про куски мрамора со стертыми буквами, про заброшенный, как в «Марсианских хрониках», город, про лунный свет и во-о-от такие мурашки…
Я отрубился.
Алехина– Вставай давай.
– Ммм.
– Вставай, говорю, поехали.
– Что там?
– Девяносто семь лет, ушибы.
– !
Он рывком сел. Разлепил веки и ошалело уставился на меня. Потом пришел в себя.
– Блин, Леха, убью на фиг!
– Вставай, завтрак готов.
– А Веня где?
– В душе. Надевай штаны.
ЧеремушкинТворог, кофе, яичница. Блины со сгущенкой. Круто.
– Садись, наливай себе.
Вот не знал бы, что Леха давеча в лоскуты нарезалась, не поверил бы. Сидит в Вениных шортах и во вчерашней футболке – хороша, чертовка! За окном дрянь, серь, опять все растаяло, а у нас благодать: тепло, светло, Майк Олдфилд наигрывает…
Пришел Северов.
– По сколько блинов?
– По два. Можешь мой один взять, я не съем столько.
Как там дела?
– Хреново. Дело собираются заводить. Белка заяву написала, по собственному.
– А что Центр?
– А что Центр? Центру пох. Он как товарищ Сталин– нет человека, нет проблемы. Я вот только не всасываю: Белку-то за что топят?
– Это, Вень, у них под монголо-татар закос: провинился взвод – казнят роту. Типа, клиент всегда прав, а бабы нам еще нарожают.
Леха держалась спокойно. Похоже, вчера отпереживала.
– Что делать будешь, Ларис? На неотлогу [62]62
Неотлога (разговори.) – неотложная помощь. Исключительно питерский прихват. В отличие от скорой прикреплена к поликлиникам, работает только в своем районе, выезжает только на дом и только на обострение хронических заболеваний.
[Закрыть]пойдешь?
Она помотала головой.
– Брось. Перекантуешься год-другой, потом опять к нам вернешься.
Леха, по-прежнему молча, подтвердила желание стоять насмерть.
– М-да, глухо… Пошли курить.
Порывы ветра бросали на стекла крупные капли. Капли собирались с силами и, помедлив, сползали куда-то вниз. С сиплым, как выдох астматика, «ш-ш-шухх» налетал шквал, холодная волна затапливала балкон, у кого-то внизу хлопала форточка. За спиной звенели «мелодии ветра».
У Лехи вдруг задрожали губы и из глаз – я такое впервые видел – посыпались слезы. Обхватив нас руками, она громко заплакала.
– Ребята…
Она всхлипывала, у нее сжимало дыхание, она тыкалась то в меня, то в Веню, то снова в меня.
– Ребята, милые… Как же я без вас? Как же мне без вас-то теперь?
Часть вторая
Зима
СеверовМетет. Ветер крутит поземку, бросая в стекла колючим снегом. Развороченная земля исполосована окаменевшими колеями; пасть котлована щерится шеренгами балок. Всюду траншеи и рытвины. Уткнувшись в грунт, чернеет подбитыми танками мерзлая техника. Из-под снега торчит рука с белыми, сведенными в птичью лапу пальцами.
– Бля, Сталинград!
– Не говори, прямо «Горячий снег». Хотел было вторым бронебойным по нему лупануть, да на меня самого семь штук перло… Настенька, ты Бондарева читала?
Настенька, молоденькая девочка из училища, очаровательно морщит лобик.
– Не-е-ет, а кто это?
– Что, даже в школе не проходили?
– Не-а.
– Сила! Видал?
Я киваю.
Мы ждем милицию. В кабине тепло. Печка гонит нагретый воздух, в приемнике перебирает струны Марк Нопфлер. Поодаль трепыхаются полосатые рыночные палатки.
Закуриваем. Джексон приоткрывает окно. Врывается песня. Из «колокольчика» на столбе, с хрипом и завываниями, прет на весь околоток «Черный пес» «Зеппелин». Мы потрясенно внимаем.
– Охренеть можно, – говорит Че, – ракынрол. Россия сделала гигантский скачок в сторону Запада – Запад даже отскочить не успел.
Я говорю:
– Я такое в Иордании слышал.
– Тоже «Лед Зеппелин»?
– Не, муэдзин намаз вершил, в репродуктор, а напряжение в сети плавало, и он от этого как Том Уэйтс пел. В Вади-Рам дело было, поселок такой в пустыне…
Непродыхаемая жара. Осязаемая стена раскаленного ветра, плотный сумрак, хруст песка на зубах. Песок везде: в голове, в ушах, в карманах, под пластмассовой крышечкой двухлитровой бутылки. Песчинки секут ноги; асфальт у мечети пересекают полосы песчаных наносов. Высоченный черный нубиец вытаскивает из холодильника мгновенно вспотевшую жестянку и протягивает мне. Я срываю кольцо, пью. Пить приходится медленно – лед. Нубиец улыбается. Он видит, что я из пустыни, видит пустые бутылки на рюкзаке и выгоревшую до белизны хаки-рубашку. Выглянув за дверь, видит пустую дорогу. Вопросительно смотрит на меня:
– Джип?
– Ля. Маашиян.
– Спик араби?
– Нуса-нус.
– Джермен?
– Руси. Сьяха мен руси [63]63
???
[Закрыть].
Он показывает мне большой палец и, когда я протягиваю ему горсть мелочи, добродушно отмахивается: спрячь!
– На джипе?
– Пешком.
– Говоришь по-арабски?
– Самую малость.
– Немец?
– Русский. Путешественник из России.
Похоже, я хорошего дурака свалял, когда вернулся. Трех недель не прошло, как жалеть стал. Сейчас бы уже в Чаде был, потом Нигер, Мали, Мавритания – самое время, не так жарко…
– Слушай, Вень, Вади-Рам – это там, где Лоуренс Аравийский зажигал?
Я киваю.
– Ты его «Семь столпов мудрости» читал?
– Я их видел.
– Что, в натуре? Круто. Фотки есть?
– Есть.
– Покажешь?
Феликс меня замучил. Мы с ним теперь неразлучны как Блюмберг со Щеткиным. Дорвавшись, словно Бен Ган, до общения, он балаболит сутками, цитируя песни куплетами, фильмы эпизодами и книги страницами. ТТХ самолетов, фамилии актеров, даты выпуска альбомов и географические названия вываливаются на меня тоннами. Он опустошает мои книжные полки, глотает книги, возвращая их чуть ли не на следующий день; набирает горы компактов, переписывает, приходит за следующими; приносит Rolling Stone, Rock Fuzz, GEO, «Нэшнл джиографик», «Ярбух фюр психоаналитик» и еще черта лысого…
Время от времени мы заваливаемся в рокабильские заведения, где он отплясывает с какими-то наманикюренными особами и без конца покупает им пиво, всякий раз при этом возвращаясь домой в одиночку, мастерски разведенный случайными бойкими первокурсницами.
Да я его десять лет знаю – всегда таким был. Взрослый мальчик, романтик. Вместо того чтобы трахать девок, все еще поебень-траву ищет. Да ладно тебе – хороший ведь парень.
Да хороший, кто б спорил, не мужик только.
То есть? Нету в нем мужика – солидного мужика, понимаешь? Не чувствуется. Потому с ним и бабы не спят…
Вот когда я дискомфорт ощутил – когда эта старая муть всколыхнулась. Все та же песня: мужчына – эта кода дэньги есть! Как с ума посходили – не люди, а кассовые аппараты. Дешевый анекдот в принципе, и с ним под кого угодно, даже не за тридцать сребреников, а за рупь мелочью.
– Смотри, мальчик, как надо женщину обеспечивать. Золото, шуба и на курорт каждые праздники…
Это мне при всех Горгона сказала. Я за авансом зашел и на Принцесску в новой шубе наткнулся. В Хургаду она уезжала, Новый год с мужем встречать. Возле нее, как интеллигенция вокруг президента, восторженно пуськая, толпилось наше бабье – двуликое и опасное, как бинарный боеприпас.
– Ну, недорого стоит женщина, которую можно купить норковой шубой. А хочешь денег – иди в минетчицы. Ажурное белье под халатик и – опытная медсестра проведет медосмотр состоятельным господам.
– Ну, знаешь!
– Что– ну, знаешь? Думала, я твое хамство стерплю холопское? Тоже мне фаворитка королевы нашлась. Помпадур из кладовки!
Обиделась. Национальная черта: не задумываясь наносят оскорбление и ужасно обижаются на ответное. Бабы-бабарихи. Предел мечтаний: золото, шуба и на курорт каждые праздники. Накупят шуб, а носить боятся…
* * *
– Ну, что тут у вас?
Менты. Подняв воротники, воротят от ветра стылые лица с малиновыми ушами.
– Не у нас, а у вас. Подснежник.
Вытаскивая ноги из снега, подходят к телу и, ухватив его за руку, наполовину вытаскивают из сугроба. Присматриваются, бросают. Возвращаются.
– Наша, рыночная.
– Убитую у сквера припомнить не беруся. По наколкам Вера, а по шрамам Дуся, – цитирует Че. – Ну, раз ваша, тогда вам все карты в руки. Вот направление, желаю успехов в труде и ба-а-альшого счастья в личной жизни.
Хлопает дверью.
– Поблагодарить забыл за внимание.
– Да пошли они!
Девчонки рубят салаты. Холодильник забит мисками, бутылками и пакетами с соком, повсюду стоят тарелки с нарезанным. Феликс, сполоснув руки, пристраивается помогать, мешая в кастрюлях деревянными ложками и ловко выхватывая из-под лезвия колбасную обрезь. Входит Журавлев с кучей кружек. Кивает: – Здорово, Вень. – Привет, Сань, с наступающим… ты чего с кружками ходишь? – Да чаеманы, блин, задолбали – по всей станции кружки с сеном стоят. Ходишь и выливаешь, ходишь и выливаешь. – Ты с кем нынче? – Со Скво. Слушай, что мы сегодня видели! Передавали нарушняк [64]64
Нарушняк (жарг.) – острое нарушение мозгового кровообращения; иначе – инсульт.
[Закрыть]неврологам, а у них, в карете, архивная фотка в рамке – Ленин в Горках: в каталке, глаза навыкате, взгляд дикий… Наш пациент, говорят – атеросклероз, инсульт, энцефалопатия, деменция. Появляется Че с огромной кастрюлей в руках.
– Здорово, Санек, не виделись еще… Насть, холодильник открой.
– Ой, дайте попробовать, Феликс Аркадьевич.
– Одна попробовала – семерых родила.
– Да ладно вам. Одну ложку всего.
– Валяй… Сейчас поедем, мужики, два вызова поступило: ожоги и без сознания.
– Кто на ожоги?
– Не знаю еще.
* * *
Ночью, когда кипяток прорвал трубы и воздух в одночасье сделался горячим и влажным, из обжигающего тумана подвала вышло ОНО…
Мы молча смотрим, как на ступеньке подвальной лестницы, вцепившись в решетку, стоит человекоподобное существо. Оно мужского пола, абсолютно голое, с пузырями ожогов на изодранной расчесами коже. Черные точки ошпаренных паразитов, тонкие, похожие на веревки с узлами, конечности и огромные, выпирающие наружу, плоские кости. Бухенвальдский крепыш. Живой скелет из хроник Второй мировой.
Настенька опасливо жмется к нам с Феликсом – такого она еще не видела. Сзади тихо ахает вошедшая в подъезд тетка.
– Господи, кто это?
– Привет из рейха.
Вода залила ступеньку. Почувствовав ожог, оно равномерно, как насекомое, бьется всем телом о железные прутья. Пора уже что-то предпринимать.
– Бери его, Че.
– Решетку откройте.
Дворник, самоустранившись, сует ключи Феликсу; тот отпирает решетку и тянет цепляющееся за что попало существо наверх. Я спускаюсь помочь. Весит оно килограммов сорок. Кладем его на носилки.
– Садись, док, в кабину.
– Да ладно.
– Садись-садись, мы все сделаем. Да, Насть?
Настеньку передергивает. Феликс злодействует. Поливает новокаином стерильную простыню, протягивает ей – заворачивай! Существо продолжает хвататься за что ни попадя, Че бьет его по рукам, потом, заломав, кивает близкой от отвращения к обмороку Насте: давай!
– Подтыкай, подтыкай, а то галеры [65]65
Галеры (жарг.) – вши.
[Закрыть]поползут.
Они пристегивают тело ремнями.
– Держи его.
– Феликс Аркадьевич!
– Держи, говорю.
Настенька чуть не плачет. Феликс раскатывает бинт и фиксирует запястья существа к носилкам.
– Что ставим, Вень?
– Глюкозу с панангином – пусть капает, и анальгин с релахой, не быстро только.
Он еще заставляет ее поставить капельницу и только после этого отпускает ее в кабину.
– Садись, Вень, покурим.
Жарко, Джексон топит как следует. Мы отодвигаем форточку и закуриваем. В салон заглядывает Настенька:
– Что запрашивать, Вениамин Всеволыч?
– Мужчину неопределенного возраста; ожоги ног и спины, вторая степень, тридцать процентов; энцефалопатию, алиментарную дистрофию, педикулез.
– Ой, подождите, я не успеваю…
– На скорой, родная, «не успеваю» не катит, – влезает Че, – учись все с ходу запоминать, чтоб дважды не переспрашивать.
Она смотрит на него ультрамариновыми глазищами.
– Не смотри на меня так, Настенька. Я ведь это исключительно по любви говорю – другие могут и матом обсыпать, а мы у тебя с доктором добрые…
Настеньку, во всплеске какого-то запоздавшего идеализма, воткнул на скорую папа. На год. Пусть потрудится доча на благо общества. Боясь расстроить родителя, она честно тянула свой срок. Стройненькая, глазастенькая, невыносимо хорошенькая, Настенька выглядела среди всех наших мерзавцев словно яркая коралловая рыбка, попавшая в мутный, годами не чищенный аквариум с жабоподобными сомиками-говноедами. На беду, через некоторое время ей стало тут нравиться, и, в попытке уберечь красоту и молодость от непоправимого, Феликс беспощадно гноил милую, светловолосую, упругую, как дельфин, девочку…
– Смотрю я на тебя, Че, и Петра Алексеича вспоминаю – как он в анатомичке заставлял бояр человечьи потроха в зубы брать.
– Это ты к чему?
– К тому, что она и так уйдет, незачем ей страшные Соломоновы острова демонстровать.
– Вень, я на таких, как она, во насмотрелся! – Феликс чиркнул большим пальцем над головой. – Ты ж знаешь, как их наше болото затягивает. Я тебе ее будущее как на блюдце могу расписать. Через месяц закурит, через два станет матом ругаться. Через год сделается независимой, взрывной, острой на язык язвой, причем снаружи это будет совсем незаметно. По великой любви выйдет замуж, а через месяц супруг обнаружит, что унижать себя она не дает и сама при этом может обосрать так, что ввек не отмоешься. Он немного потерпит и уйдет, а у нее к тому времени уже дите на руках. И из декрета на ставку семьдесят пять: «прощай, молодость!» называется.
Он глубоко затягивается.
– Ты посмотри на нее – она ж цветок! Ее ж бабье наше враз возненавидело за то, что кожа чистая, зубки белоснежные и грудки холмиками. Ты б слышал, что о ней в диспетчерской говорят…
Че замолкает. Я оглядываюсь. Нам снова светят потрясающие, как у Алферовой, глазищи.
– Дали академию, на Загородном.
– Ну, в академию так в академию. Давай, Жень, трогай.
Феликс цыркает слюной за борт.
– В Мариининский [66]66
Мариининский – здесь: правительственное здание в центре города.
[Закрыть]его надо. Вывалить на ступеньках, пусть полюбуются…
AmbulanceDream. Стойкая, как вера в загробную справедливость, и несбыточная, как обещанный коммунизм. Привезти на Исаакиевскую и сунуть под нос этим, с флажками на лацканах: нате, смотрите, сволочи!
– Не оценят.
– Ясное дело. К тому ж выходной нынче у всех…
Я уже и не помню, когда Новый год дома встречал; меня, после летних загулов, не спрашивая в новогодние праздники ставят. Можно, конечно, и первого, но первого хуже – целые сутки на синдром Оливье ездишь, рогами в землю домой приходишь. В Новый год веселей, потому я и вызвался. Фельдшером мне дали Настеньку, а Феликс к нам до кучи пристроился.
– Паспорт, страховой полис…
Регистраторша поднимает голову и, выпучив глаза, застывает, делая глотательные движения – ни дать ни взять жаба весной, только без пузырей за ушами.
– Ч-ч-что это?
– Это – оно.
– Военный?
Да-а, не приучены на Загородном к неожиданностям, не приучены. То ли дело на Клинической, шесть: тем что ни привези – бровью не поведут.
– Скорее военнопленный.
– Документы есть?
Поразительно.
– Мадам, он голый. Ни документов, ни наград.
– В разведку ходил, – вставляет Феликс.
– Как же мне его записать?
– Епт!
– Пишите: сэр Чарльз, принц Уэльский, инкогнито.
– А почему к нам?
Начинается. Для персонала приемников надо специальную форму ввести, с надписью на груди: Больница №… Приемное отделение. А ПОЧЕМУ К НАМ?
– Просто захотелось что-нибудь подарить вам к Новому году.
– Почему вы хамите?
Мысли у них – ход конем.
– Да, вроде не начинал еще.
Нет, зря вернулся. Холодно, темно, люди какие-то странные…
И когда вы только повзрослеете, Вениамин Всеволодович?
А никогда, Виолетта Викентьевна!
Не, все, хватит. Отработаю до весны и свалю в Марокко через Европу. Поиграю недельку в Париже, заработаю и в Испанию. До конца лета должно хватить, пусть они тут без меня за жизнь бьются…
* * *
– О чем задумался, док?
– В Африку хочу, Жень.
– А-а. А я в Калифорнию. Сколько себя помню, мечтал – с тех пор как серф [67]67
Серф – гитарный инструментал. Возник в Калифорнии в середине 50-х. Классика жанра – Miserloy, та самая, с которой начинается «Криминальное чтиво»: Everybodybecool – isrobbery! и понеслось…
[Закрыть]впервые услышал, в семидесятом.
– Сколько тебе тогда было?
– Десять. – Джексон поправляет маленькую репродукцию «Трех богатырей», на которой Алеша Попович, вместо лука, держался за подрисованный фломастером руль. – Тридцать лет прошло, с ума сойти.
– Лучше поздно, чем никогда.
– И я о том же. Все, брат, линяю.
– В Штаты?
– В Штаты трудно. В Канаду. Как раз документы подал, на днях.
– А родные?
– А чего родные… Я детдомовский, с женой в разводе, дочка замужем – свободен, как Каштанка. Права международные есть, корешок в Ванкувере фирму держит, устроюсь у него водилой на трак – и весь континент в кармане. Врубись: закат, асфальт, пшеница до горизонта и Джей Джей Кейл с компакта…
В свои сорок Женька не пропустит ни одной запыленной поверхности, непременно напишет на ней Queen или Doors.
– А что за корешок, Жень?
– Хохол. Служили вместе. В восемьдесят восьмом слил. Сначала сам фуры гонял, теперь свое дело открыл.
– Ну, вообще зашибись!
– Ага. Подругу себе найду, индианку, а плечевыми только негритянок брать стану. Ты с негритянкой спал?
– Доводилось.
– Вот видишь, а я ни разу. Не, хорош, сколько можно? Полжизни тут вермут топинамбуром закусывал, пора и честь знать.
– Дай-то бог, Женя, дай бог!
– Короче, ты понимаешь…
* * *
Большинству моих соотечественников вместо свидетельства о рождении надо «Мойдодыра» выдавать, с ламинированными страницами – чтоб служил дольше. Хоть бы перед Новым годом прибрались, что ли?
Седьмой час, а уже кривые, как сабли, язык ребром у всех поголовно. О скорой забыли напрочь, в помощи не нуждаются. Но признательны: готовят для нас коктейль – «девятку» с шампанским из грязных кружек. Отказываемся. Удивлены, навязывают. Поворачиваемся и уходим, оскорбляя гостеприимство. Дальше – театр. С брезгливостью лорда: дай им денег, и пусть, на х…й, валят. Пошел ты – сам вызвал, сам и давай! Переругиваясь, считают мелочь; мы тем временем начинаем спускаться. Спохватившись, переключаются: хабалят, кричат вслед матом. Идем обратно – запираются, угрожая из-за двери главой РУВД. Так и говорят: главой РУВД. Че делает им куб анальгина в замок [68]68
Куб анальгина в замок – акт возмездия; анальгин, высыхая, кристаллизуется, прихватывая штифты намертво, – труба замку, а если дверь металлическая, то вообще кранты – с болгаркой входить надо.
[Закрыть].
Подъезд соответствующий: ссанье и окурки. Этажом ниже – шедевр. Метровыми буквами на стене: ПРОСТИ МЕНЯ, ПИДОРА, ЛИЗА! Феликс приходит в дикий восторг и выдает экспромтом стихотворение:
…и плачут сосульки с карниза,
и кажется – рушится мир.
ПРОСТИ МЕНЯ, ПИДОРА, ЛИЗА!!!
напротив одной из квартир.
Неподдельное отчаяние, драматическая жестикуляция, слеза в горле – умеет. Джексон хохочет. Настенька улыбается. Я рассказываю про одно ножевое: невеста, накануне свадьбы, застала жениха со свидетелем, причем на последнем было ее свадебное платье. Сходила на кухню, взяла ножик и расчеркнулась, как Зорро, у суженого на спине. Тоже, кстати, тридцать первого было. Джексон замечает, что, судя по количеству закупаемого алкоголя, этот Новый год мы запомним надолго. Я в этом году уже запомнил Светлое Христово воскресенье: три ножевых и два огнестрельных. Наблюдал замечательную картину: пять утра, охреневший от трех операций подряд хирург трясет каталку и орет раненому: «С-с-сука! Сука!!!»








