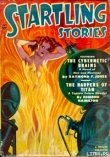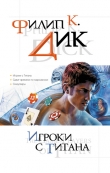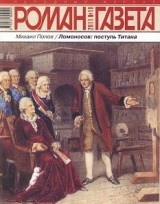
Текст книги "Ломоносов: поступь Титана"
Автор книги: Михаил Попов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 16 страниц)
Трапеза тянется долго. Опорожненный графин наполняется вдругорядь. Сытный обед да доброе вино клонят помаленьку в сон. Разговор стихает. Отяжелевший гость, по совету хозяина, укладывается на лежанку, покрытую сенной перинкой. По другую сторону обеденного стола вытягивается и Михайла. Хорошо передохнуть после обеда да пообмять в брюшинке свежие крошки! Да только сон его нынче не берег. Маленько вздремнув, Михайла Васильевич поднимается и отправляется на стройку: нать самому все поближе посмотреть да потрогать, такая уж у него натура.
Боле всего Ломоносова заботит лаборатория – заглавная буква его мусийного прожекта. Вот туда Михайла Васильевич и ладит свои стопы.
На бревнах боркаются трое плотников– это здешние, усть-рудицкие мужики. Он специально велел поставить на лабораторный сруб местных поселыциков, дабы они тюкались здесь до потемок, а не шабашили бы ране, норовя по свету попасть в Липовку али того дале – в Перекусиху.
Сруб растет ходко. Правда, до скончания еще неблизко. Покуль не до верха выведены стены и простенки, заместо околен зияют проемы, о стропилах да перекрытиях помину еще нет. И все-таки к первым испытаниям лаборатория уже готова. На макушке молодой сосны, стоящей близ сруба, укреплена громовая проволока, она торчит выше вершины. Охвостье же проволоки тянется к проему окна, а там, на конце ее, перекинутом через деревянный клин, висит подкова, обращенная вверх рогами.
«Бог в помощь!» – кивает Ломоносов работным мужикам, тут же берет свободный топор и, оседлав окоренное бревно, начинает гнать паз. Заделье поначалу идет ходко да ладно. Ему всегда в радость испытывать свою телесную стать. Однако мало-помалу поясницу начинает сводить ломотой, руки наливаются тяжестью, а главное, как уже повелось с некоторых пор, – стамеют ноги. А тут еще зной – хоть рубаху выжимай. Можно бы в затинок, да негоже это – бросать заделье на полдороге. Какой пример он покажет мужикам!
А небо раскаляется, пышет жаром. Время от времени окрестности обдает гарью – точат палом дальние болота. Каково-то ныне в Петербурге? Небось ад? Как-то там Лизхен? Как дочурка? Здоровы ли? Надобно будет взять их с собой. Воздуха здесь свежее, речная водица чище… А вот и квасок, кой несет с ледника тороватая Меланья. «Ha-ко, батюшка», – подает с поклоном. Приняв запотелый жбан, Михайла Васильевич сторожко отхлебывает холодянки, ибо с пылу с жару такой остудой и жеребца немудрено запалить, при этом попутно и одним глазом окидывает горизонт. Что это? По закрайку неба над лесной гребенкой зыбятся тучки. Неужели дождичка нанесет? Отставив жбан, Михайла Васильевич озирается на все стороны. А может, Илья Пророк и громом порадует?
Крестьянская привычка завершить начатое до ненастья – зарод ли сметать, крышу ли закрыть – торопит Михайлу снова взяться за топор. Стружица вьется, аки пукли на гожем парике, в дудочки завивается, и только когда округ лезвия сбирается цельная куделя, мешая торному следу, профессор-плотник роняет ее под ноги. Очередной паз подходит к комлю, уже недалеко. И тут на обширный Михайлов лоб падает первая капля. Он досадливо морщится: не успел. Да тут же вскидывает голову: неужели? А глаза его полнятся недоверчивой радостью.
Набухшая туча, ровно темная поморская парусина, роняет воду широкими жменями, а после и чохает. Мигом вымокшая рубаха облегает тело, остужая нутряной жар и веселя сердце. Новая туча наливается мраком. Другая, насупленная еще боле, теснит ее, заступая место на небосводе. «Ровно Сашка с Васькой, – весело скалится Михайла. – Лбами сойдутся – до синяков наколотятся». А дождь крепчает. Точно сошедший с ума рисовальщик, он с шумом затушевывает не только дальние, но и ближние картины. Все округ покрывает его серая смирительная рубаха. Но токмо не верха, где сходятся на поединки новые тучи.
И вот снова. Тучи – две туши, – ровно аспидные быки, упираются рогами, никоторая не желает уступать. Нет для двоих места на беспредельном небесном ристалище! Что их может разъять, так не иначе токмо удар громобоя, небесная секира пророка Ильи. Ба-ба-а-а-ах! – раздается обвальный грохот, аукаясь по вселенной. А перед тем – за миг – не то лезвие топора, не то перекрестье белых рогов, не то трескучая щепина, выдранная из небесной плахи, с которой уже, сдается, катятся бычьи головы…
До чего могутная картина разверзается перед очами! Мужики-плотники, торопливо крестясь, поспешно трусят в поисках схорона. А Михайла в восторге пучит глаза да потрясает кулаком: о-о, это то, чего он так жаждал, что ему любо!
Не выпуская из рук топора, Ломоносов вбегает по шаткому трапику в проруб дверей и по зыбкому черновому настилу торопится в угловую горенку – именно здесь подвешена счастливая подкова, над которой провисает кусок парусины. Выглядывая в оконный проруб, Михайла устремляет взгляд на сосну. Деревину потряхивает, но трясет не ветром, а, не иначе, знобкой небесной силой – ведь ближняя от нее сосна, такая же размером, не мечется и не стенает.
Окрестности деревни в сумраке. Внутри сруба морок. Все притихло перед новым обвалом грома. Только шумит не переставая обложной дождь. И тут сквозь этот шмелиный шум доносится ломкий шелест и треск. Так бывает, когда в паутине бьется мотылек. Оторвавшись от проруба, Михайла кидает взгляд на подкову. То не мотылек в тенетах. То железная подкова озаряется бегучим синеватым мерцанием, словно облепили ее бабочки-голубянки. Ломоносов, не мешкая, бросается к сполоху. Запах озона раздувает его ноздри. Он до головокружения тянет и тянет этот дух, норовя, кажется, вместе с озоном втянуть в грудные мехи и электрическую пыльцу, что трепещет на крыльцах небесных бабочек.
Новый раскат грома. Подкова снова озаряется гальваническим светом. Завороженный Михайла не отрывает от нее глаз – так в детстве, бывало, часами любовался северным сиянием: сполохи лучились, до слуха доносилось шелестение небесных сфер. А тут? Михайла замирает, весь обратившись в слух. Подкова гудит. Он явственно слышит какие-то звуки. Небесное электричество превращается в звукоряд. И уже чудится: то не подкова трепещет от гальванического тока – то невидимый Орфей с видимой лирой в руках доносит какую-то дивную, доселе не слыханную музыку.
Снова вспышка, снова гром и прилив небесного электричества. В безрассудном и в то же время осознанно-испытующем порыве Михайла выкидывает вперед руку, в ней – топор. Железный топор – первостатейный мужицкий инструмент – вспыхивает бегучим сиянием и в союзе с подковой, похоже, обращается в пукет сирени. Топорище едва не дымится.
А Михайлу пронизывает какой-то мощный освежающий ток. У него нет страха. Он, кажется, комету готов ухватить за хвост, дабы понять, куда она летит и что собой представляет. Кому суждено сгореть – в воде не потонет, а кому плыть в реке вечности – никакое полымя не спалит!
В прорубе дверей – Рихман. Его озаряет белое марево новой молнии. На лбу его какое-то красное пятно – не то намял, не то оса ужалила. Но выяснять, что да как – недосуг, тем более что глаза Георга полны неподдельного восторга, и, призывно мотнув сердечному другу головой, Михайла вновь поворачивается к громовой машине…
13
…Вот этот последний миг – вспышку молнии и лицо Рихмана в прорубе дверей – Михайла Васильевич вспомнит через две недели, а точнее 26 июля 1753 года, когда, стоя за конторкой, примется писать послание графу Ивану Ивановичу Шувалову.
«…Сего июля в 26 число, в первом часу пополудни, поднялась громовая туча от норда. Гром был нарочито силен, дождя ни капли. Выставленную громовую машину посмотрев, не видел я ни малого признаку электрической силы. Однако, пока кушанье на стол ставили, дождался я нарочитых электрических из проволоки искор, и к тому пришла моя жена и другие, и как я, так и оне беспрестанно до проволоки и до привешенного прута дотыкались, затем что я хотел иметь свидетелей разных цветов огня…»
Подняв голову, Михайла Васильевич глядит в окно: на небе ни облачка.
«…Внезапно гром чрезвычайно грянул в самое то время, как я руку держал у железа и искры трещали. Все от меня прочь побежали. И жена просила, чтобы я прочь шел. Любопытство удержало меня еще две или три минуты, пока мне сказали, что шти простынут, а притом и электрическая сила почти перестала. Только я за столом посидел несколько минут, внезапно…»
В горле ком. Глаза Михайлы Васильевича полнятся слезами – писать нет сил. Он выходит из-за конторки и валится на диван.
Господи! Как чудесно начиналось нынешнее утро. Они, друзья-заединщики, встретились на набережной подле Академии. Как всегда, обменялись рукопожатиями (сухое пожатие Рихмановой руки, кажется, до сих пор теплится на широкой Михайловой ладони). Нева лучилась и сияла. На рейде высился лес мачт. Туда-сюда сновали гребные ялики и парусные верейки. На гишпанском фрегате они приметили обезьянку – она резво скакала по реям – и пожалели, что нет с ними детей, вот бы позабавились.
Насладившись беспечными, мирными картинами, ученые мужи отправились на заседание Академического совета. Сидели, как давно уже повелось, рядом. Первым выступал с полугодовым отчетом о библиотечном заведовании Шумахеров зять. Слушая рутинный и пустой доклад спесивого Тауберта, друзья обменивались язвительными репликами, иные из коих Михайла Васильевич оповещал громко, чем сбивал Тауберта с панталыку, а меж тем набрасывали на одном листе, дополняя один другого, план будущего совместного выступления. Электрических опытов накопилось столько, что пора пришла выносить свои наблюдения на публичное обозрение. А называться сей доклад, по их единодушному мнению, должен был так: «Слово о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих».
День стоял солнечный. В полдень, когда начали бить напольные часы, Рихман машинально поворотился к окну и тут же коснулся руки Ломоносова: на небе появились облака, две тучи, словно тугие креповые банты, наползали из-за Малой Невки. Потерять такой случай было бы досадно. Испросив у высокого собрания дозволения, оба испытателя кинулись в свои домашние лаборатории: Михайла Васильевич на Вторую линию, Георг – на угол Пятой и Большого прешпекта. Вместе с Рихманом улавливать молнии отправился грыдыровальный мастер Иван Соколов, дабы зарисовать их ломкие стрелы на бумаге. Заходя за поворот, Михайла Васильевич в последний раз глянул вослед спешащему вдоль набережной другу. Облаченный в неброский серый камзол, удалявшийся Рихман, казалось, истончался на фоне пасмурного неба и таял, растворяясь в небесной пелене. Сердце Михайлы Васильевича ожгла неизъяснимая тревога. Он протяжно вздохнул – перед грозой, как всегда, недоставало воздуха – и, уже более не мешкая, ускорил шаг.
Громовой провод в лаборатории Рихмана был выведен одним концом на черепичную крышу, а на другом конце его висел футшток, которым испытатель измерял электрическую силу. Едва раздался гром, Рихман кинулся к линейке, дабы по градуировке определить показания. Вот в этот миг, по словам гравера Соколова, из прута вырвался «бледносиневатый огненный клуб, с кулак величиной», и ударил профессора прямо в лоб.
Известие о беде Ломоносову донес слуга Рихмана. Михайла Васильевич, забыв про камзол, как был одетый по-домашнему, кинулся к месту происшествия. Рихман лежал на полу, опрокинутый навзничь. Лицо Георга побелело. Горбатый нос заострился. На лбу чуть выше переносицы темнело «красно-вишневое пятно». «Тихо!» – скомандовал Ломоносов, отстраняя обомлевшую и плачущую родню и дворню. Беременная жена Рихмана судорожно тискала девочку, что хныкала на ее руках. «Тихо!» – опускаясь подле нее на колени и заглядывая ей в глаза, повторил Ломоносов, и обе – мать и маленькая дочь – разом умолкли. Распахнув сорочку, Михайла приник ухом к груди Рихмана. Тело было еще теплое, однако сердце молчало. Засучив рукава, Михайла Васильевич принялся тереть и мять грудь поверженного, как когда-то учили его медики в Германии. А еще, оставив растирание, приникал своим ртом к синеющим губам Рихмана, пытаясь – уста в уста – вдохнуть в него жизнь. В эти минуты он был готов отдать все свое существо, чтобы оживить сердечного друга. Тщетно. Георг Рихман заснул вечным сном, и разбудить его было уже невозможно.
Утишив рыдания и утерев кулаком глаза, Михайла Васильевич поднимается с дивана и вновь подходит к конторке. Надобно дописать письмо к графу Шувалову – и не завтра, а именно нынче, в день гибели сердечного друга. Всем трепещущим нутром сознавая, что и сам был близок к смертному краю, Ломоносов пишет о потрясшей его трагедии и как человек, и как естествоиспытатель. Рихман умер «прекрасной смертью», подчеркивает он, умер, точно солдат на поле брани, своей гибелью он умножил знания людей о природе небесных явлений и при этом доказал, «что электрическую громовую силу отвратить можно», надобно только громоотводы ставить в отдалении.
Для чего, спрашивается, он, Ломоносов, пишет все это вельможе, не шибко смыслящему в науке, хотя и покровительствующему ей? Да для того, во-первых, чтобы упредить наскоки своих злопыхателей, которые непременно воспользуются сим обстоятельством. А во-вторых, чтобы заслуги Рихмана отразились на будущности его осиротевших чад и домочадцев, оставшихся без средств к существованию. Кто же похлопочет о том перед правителями, как не он, Ломоносов, друг покойного?
Свернув послание, Михайла передает его посыльному и сам растворяет окно. Вечереет. Вдали по закрайкам неба вспыхивают отблески зарниц. С заката приближается гроза. В зыбких сполохах высвечивается картинка из книги Свифта, лежащей на подоконнике, – лилипуты расстреливают из луков Гулливера. А в простенке, как эхо, как перекрестная рифма, мерцает другой сюжет – это святой Себастьян, привязанный к столбу и пронзенный стрелами. До слуха доносятся отдаленные раскаты грома. Михайла Васильевич супится, весь наполненный сердечной болью, но – нимало не мешкая, – решительно направляется в лабораторию. Не в его силах отвратить смерть. Но в его силах противостоять темноте и невежеству. И потому, какие бы тучи ни сгущались над его головой, какие бы громы ни гремели, какие бы препоны ни чинили коварник Шумахер и его приспешники, «Слово о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих» он прочитает в общественном собрании. Оно прозвучит, чего бы это ему ни стоило. В память о сердечном друге, во имя Ее Высочества Истины.
14
Господин Шумахер без парика. Таким Иоганн Тауберт его еще не видел, потому поглядывает на тестя с любопытством. Шишковатый череп фатера курчавится младенческим пушком. Оттого нос выглядит крупнее и острее, а обличьем Иоганн Даниил кажется старше. Да и то – чай, не отрок! – Шестьдесят пять лет исполнилось нынче господину советнику канцелярии. Возраст почтенный, если не сказать преклонный, учитывая все житейские обстоятельства, кои довелось ему испытать, да хвори, кои не убывают…
Позади многолюдное торжество, позади подношения и чествования, обильное и по-русски щедрое застолье. А угомону имениннику нынче нет – ни подагра его, похоже, не берет, ни мозельское. Казалось бы, вечно острый рысий прищур затянулся склеротической паутиной да хмельной ряской – ан нет! – черти в тех глазах не угомонились. Видать, они и будоражат Иоганна Даниила Шумахера.
Подхватив под локоток зятенька, Шумахер увлекает его за собой. Они следуют какими-то переходами и анфиладами. Впереди дворецкий с шандалом в руке, освещающий путь. Позади лакей с серебряным подносом. Идут долго – просторные палаты выстроил советник канцелярии. И вдруг…
– О! – изумленно восклицает Тауберт. Что за чертоги растворяются перед ними? Свечи пудовые ярого воска, все до одной запаленные. Просторный коридор. По сторонам его клети и клетки. А в клетках-то кто? Птицы! Большие, маленькие, с долгими хвостами и совсем куцые… О, майн Гот! Птичий двор! Ну и ну! Кто же о нем ведал? Со стороны ведь не видно: все за стенами да под крышей…
– Надо же! – с легкой обидой, но и восхищенно дивится Тауберт: полтора десятка лет в родстве, а доселе и не видывал… Ох, и бестия же он, Иоганн Даниил! Сколько же тайн в нем еще хоронится, и сколько уроков! Вон какой птичник держит в потае от всех, да птицы-то все сытые да благородные!
– Да, – читая во взгляде зятя, подтверждает Шумахер, он доволен произведенным впечатлением. – Птица здесь знатная, отборная. Вот это, – хозяин касается первой клети и завершением жеста отправляет лакея и дворецкого прочь, – это перепелочки. Курочки серенькие, хвостиком маленькие. Зато яички несут золотые, потому как весьма и весьма полезные. – Он щурит глаза, словно что-то припоминая. – С них все и началось. Это мне лейб-медик Петра Алексеевича рекомендовал – Арескин, царствие ему небесное. Правда, самому-то оне не помогли, – Шумахер накатывает на глаза веки и уместным вздохом заключает: – Ну, да на все Божья воля.
Разговор ведется, само собой, по-немецки: с какой стати им, соплеменникам, говорить меж собой на варварском языке? Разве что иногда – для крепости или уточнения – вставляется русское слово.
– А это фазаны, – обратив внимание на длинные, как шпаги, хвосты, решает выказать свою осведомленность Тауберт, да тут же тихонько утягивает голову: меж ними, младшим и старшим, так не принято – как это по-русски? – поперек батьки… да нынче ведь праздник, наверное, можно?
Шумахер кивает: то ли, дескать, можно, то ли, дескать, угадал, что фазаны. И при этом удоволенно улыбается: зятенька вышколен. Прежде привадил, выпестовал его, как ту первую куропатку, заветы свои передал – «чему Гансик не учится – Гансу уже не научиться», – говаривал гросфатер, – потому к сорока годам Тауберт как шелковый, в рот смотрит своему господину и благодетелю, даром что и сам уже в чинах.
– Фазаниха на яйцах сидит, – показывает Шумахер в глубь клетки. – Яйца крупные, крупнее гусиных. Будет ли приплод – неведомо, тут ведь не на воле… Да с Божьей помощью, глядишь, высидит.
Это о фазанах, но не только. Жена Иоганна снова ждет ребенка. Уже четвертого. Три внучки. Может наконец внук родится и Фортуна наградит-таки его, Шумахера, наследником? За благополучный исход следует выпить. Шумахер подзывает зятя к столику, на котором стоят лафитнички и покалы. Сперва они отпивают мозельского, а потом эльзасского. Эльзасское с родины, Шумахер катает его на языке, но предпочтение отдает мозельскому. Где хорошо – там и родина, что хорошо – то и твое.
Внимая тосту тестя, его умным да полезным советам, Тауберт украдкой оглядывает помещение: а ведает ли еще кто об этом птичнике? Вопрос так и вертится на языке. Однако произнести его Тауберт не смеет. Шумахер сам догадывается об этом.
– Сей птичник по чину моему держать невместно, сам смекаешь. Потому и таил. Здесь ни одна душа не бывала. Разве только Гришка Теплов. Он сам, шельма, помешан на птицах. Все записывает за мной, аршином измеряет… Ну да я и не возражаю. – Шумахер вновь отпивает мозельского. – Не возражаю, – повторяет он. – Да и что возражать, коли оно на пользу. – «Польза» да «благо» любимые слова Шумахера. – Мы с ним, с Тепловым, сам ведаешь, не токмо о птице речи ведем. А здесь тихо, ушей посторонних нет. Опять же душевнее… Среди птиц ведь душевнее, нежели в том свинарнике. Хе-хе-хе! – Шумахер всхохатывает, широко обнажая вставные зубы, которые тускло мерцают мокрым золотом. – Потому-то здесь да с Гришкой Тепловым куда легче договор чинить, нежели там… – и поднимает палец.
Ни места, ни имени тестюшка не называет, но сметливый Тауберт и так догадывается, о чем и о ком идет речь – ясно дело, об Академии, ясно дело, о президенте Академии Кириле Григорьевиче Разумовском, младшем брате фаворита и тайно венчанного мужа императрицы. А Григорий Николаевич Теплов, по чину асессор, – доверенный человек Кирилы Григорьевича. «Каких сему голубку зернышек натрусишь – такую он на ушко Разумнику песенку и прогулькает», – обронил однажды Шумахер, и только теперь Тауберт догадывается, что это было, скорее всего, после удачной встречи двух главных чиновников Академической канцелярии в этом тайном месте.
Нет, он не то чтобы не ведал, герр Тауберт, о сем птичнике, он, разумеется, слышал о нем – неужели бы Элеонора скрыла? – однако видеть его доселе не доводилось. Тестюшка дает понять, что таит сию диковинку поелику, что она недостойна его чина, ведь он, дескать, не бюргер, не помещик. Но дело то, конечно, не в этом. Главная причина тайны – скупость. А ну как проведают о сем дворе именитые вельможи! Это же беда! Тот затребует страуса, другой перепела… А разве на всех напасешься?! Другое дело, ежели сам преподнесешь, да не всем подряд, а с прицелом. Алексею Григорьевичу, к примеру, – перепелиных яичек, дабы он умягчал свое певчее горло да тешил хохлацкими думками государыню. А братцу его Кириле, академическому начальнику, – отборного фазаньего мяска, дабы улестить его сердце. Да все с подходцем, дескать, струсовы яйца из Аравии, а гусятина – из Голландии…
Тесть и зять возвращаются к птичьему смотру. Они медленно шествуют по коридору. В следующей после фазанов клети обитает всего одна птица, матерая и неповоротливая.
– А это, – кивает Шумахер, – как видишь, индюк. Грос Нос, по-здешнему. Смекаешь, на кого похож?
Глаза Тауберта, потаенно-выжидающие, выглядывают из глазных норок.
– Миллер? – Глаза юркнули, как мышата. – Профессор-«сибиряк». Герард Фридрих Миллер!
Шумахер коротко фыркает:
– Прикармливаю-прикармливаю, а он вечно нос воротит. Индюк спесивый!
Последняя фраза окрашена брезгливостью, аж слюна выступает в уголках тонких губ. Тауберт примечает это. Но того больше – открывшееся сходство. Он в восторге. Первоначальное изумление охватывает с новой силой, он ворочает головой: а нет ли тут еще известных персон? Шумахер благосклонно кивает, дескать, есть-есть, всему свой черед, и подводит зятя к следующей клетке.
Клетка просторна и весьма обильна. На насесте, закатив глаза, сидят пестрые куры, а по низу важно расхаживает молодой петушок. Он топорщится, подрагивает крылышками, в коих еще ни пера, ни силы, но при этом горделиво поводит головкой с крохотным гребешком и, срываясь на фистулу, покрикивает. Куры на эти команды едва обращают внимание, слегка размыкая глазную поволоку, но ему и то – награда.
– Кочеток Ифашка, – рекомендует его по-русски Шумахер.
– …Елагин? – подхватывает сообразительный зяте к.
– Он самый, – снова возвращаясь к немецкому, кивает Шумахер. – Помнишь, какое «кукареку» он пустил прошлым летом.
– Как же! – круглит глаза Тауберт.
Несколько лет кряду в столице по рукам ходили сатиры и эпиграммы на именитых стихотворцев и даже вельмож. Стало известно, что автор этих сочинений Иван Елагин, молодой адъютант фаворита императрицы Алексея Григорьевича Разумовского. Сатиры одних тешили, других злили. Скандал разразился, когда острие одной из эпиграмм, причем замаскированной под стиль Ломоносова, оказалось направлено не на кого-нибудь, а на другого фаворита императрицы – двадцати шестилетнего графа Ивана Ивановича Шувалова, покровителя наук и особенно трудов Ломоносова. Имя Шувалова не называлось, но всем было ясно, о ком идет речь, ведь ключевым словом в сатире оказалось слово «петиметр», что в переводе с французского означало одно: молодой человек, ветреник и повеса, находящийся на содержании знатной дамы. Таких молодых кочетков в столице обретается немало. Но главным петиметром злые языки объявили именно Шувалова, выходца из бедного дворянского рода, который попал в милость императрице и вскоре удостоился высочайшего звания Действительного камергера. Сатира так уязвила молодого фаворита, что он с лица спал в поисках достойного ответа. Язвительная стрела прилетела из стана Разумовских. Но ведь прямой выпад Ивана Шувалова против Алексея Разумовского был невозможен. Между старшим и младшим фаворитами существовал негласный мир, порукой которому служило любвеобильное сердце государыни.
Петушок при появлении хозяина заметно оживляется, поводя на него круглым глазом, и подает голос.
– Молодец, молодец! – хвалит его Шумахер. – Ты славно потрудился, Ивашка. Вот тебе золотых зернышек. – Он зачерпывает из мешочка горсть отборного пшена и сыплет сквозь решетку в кормушку. – Твой двойник обходится мне куда дороже. – В кормушку насыпается еще одна горсть. – Ну да я не внакладе. Как говорит один русский варвар, если в одном кармане убудет – в другом кошеле прибудет. Хе-хе-хе!
Тауберт сияет: таким Шумахера он еще не видел. Ай да тестенька! Ай да фатер! До чего же лукав, каналья!
Очередную горсть пшена Шумахер сыплет в соседнюю клетку: здесь пара серых гусей, гусак – на переду.
– И тебе, Иван Иваныч, от щедрот моих!..
Обрешетка клети увита разноцветными ленточками, кусочками брабантских кружев…
– Любит шельма пестрое – страсть, – кивает Шумахер. – Не столь зернь золотую, сколько ленты да кружева. Они ему, сдается, дороже гусыни.
– Петиметр? – утягивая голову в плечи, выдыхает Тауберт. Догадка и веселит, и пугает его. Шумахер кивает, а рука его уже тянется к клети напротив. Там близ решетки сидит нахохлившаяся утица.
– Чернеть хохлатая, – делает он упор на втором слове. – Любит колокольцы. – На перемычке решетки висят бубенцы; касаясь их, Шумахер извлекает мягкий перезвон. – Видишь, как хохолком заиграл?
– Разумовский, – с ходу догадывается Тауберт. Он так вошел во вкус, что ловит все на лету. Да и то! Кто же еще так обожает звоны да собирает певчих по всей империи, как не Алексей Григорьевич Разумовский. Сам бывший пастушок и певчий церковного хора, он, попав по случаю с черниговских лан на верха державной пирамиды, по-прежнему радуется хоровому пению. Если хочешь угодить ему – найди для хора голосистого молодца. Страсть как почитает душевное пение.
Шумахер подмигивает: дескать, угадал. И тут же прикладывает палец к губам: все, более ни слова. Хоть тут ушей нет, да мало ли… А Тауберт и не может ничего боле сказать, до того переполнен восторгом.
Ай да тестюшка, ай да шельмец! Вот чего придумал! У государя Петра Алексеевича в юности был потешный полк, а герр Шумахер сотворил потешный двор. Многие из тех, кои сидели за его именинным столом, теперь сидят в клетках да на насестах.
– А где же тут Ломоносов? – в сладостном нетерпении жмурится Тауберт. И тут же осекается, заметив, как судорога корежит лицо Шумахера. Тауберт обмирает, дыханье его сбивается, утянув в глазницы две мышки-норушки, он повинно ждет, не выпуская из виду Шумахера. А того ломает. Череп его каменеет, волосишки на темени встают дыбом, он весь напружинивается, точно Полкан на воротах усадьбы, и только неимоверным усилием воли, каким-то ломким поворотом шеи и плеч все-таки стряхивает этот невидимый, но толь окостенивший его панцирь.
– А Ме-две-дя, – медленно перекусывая золотой зубной вставкой звуки, цедит Шумахер, – на птичнике, герр Тауберт, не держат. Ему место в берлоге. – И, уже обретая прежний кураж, завершает усмешкой – Говорят, цыганам отдали. На цепи увели…
Тауберт подобострастно хихикает, аж ручками сучит. Он доволен: тестюшка оплошку простил. А ему, Иоганну Каспару Тауберту, больше ничего и не надобно – ведь за тестем он как за каменной стеной. Доволен Шумахер: зять – умница, все смекает и все мотает на пукли.
Самое время принять мозельского. Тесть с зятем, возвращаясь к столику, берутся за покалы. Вино густое, терпкое, ароматное. Оно горячит сердце и веселит душу. Дряблые старческие щеки Шумахера подергиваются склеротическим румянцем, а глаза маслятся благодушием. Хорошо! Тауберт согласно кивает: хорошо! И роняет вопрос, который должен потешить тестеньку.
– А что, – вопрос этот вертится у него на языке, – Медведь-то наш рычит?
– Рычит, – брызгая долькой мандаринки, щурится Шумахер и мешает немецкие слова с русскими. – Цыганы-то ярят его, ножичками засапожными щекочут: попляши, дескать, Миша. Топтыгин и пляшет.
Тауберт кивает – он в восторге. Тут самое время задать то, что давно просится на язык. Но чтобы не оплошать в очередной раз, уместно обратиться с пиететом. Дескать, скажите, любезный батюшка, а не ваша ли то была затея – натравить на Медведя цыган?
Шумахер улыбается, однако в глазах его вновь вспыхивают рысьи огоньки. В иной день он не стал бы раскрывать потаенных нитей своих тенет. Но сегодня можно. Тем более здесь, где нет ушей канцлера Бестужева, и тем более что сам канцлер уже в отставке. Отставка коварного и проницательного царедворца – добрый знак: стало быть, близится пора немецкой партии. А это… Нет, он, Шумахер, ничем не выдаёт своих незримых связей с фатерляндом, но они, безусловно, есть и всегда были. Тому порукой выходцы из Германии, коих множество на кафедрах Академии и видных ученых должностях. Удержать такое положение весьма непросто, много сил и тайного усердия для того требуется, а еще, безусловно, поддержки проницательных соплеменников. Шумахер поднимает покал и машинально оттопыривает мизинец – тайный знак, которым приветствуют друг друга масоны. Там, в фатерлянде, ценят его и всемерно откликаются на его озабоченности. Кто ныне главный враг немецкой партии в Академии? Само собой – Ломоносов. В лоб, во фронт его теперь не возьмешь. Он и профессор, и основатель известной в Европе химической лаборатории, и смальтой ведает, построив для производства ее фабрику, и в почете у Шувалова, фаворита императрицы, и что самое непонятное – ему покровительствуют европейские светила: Вольф, Бурнулли, Эйлер…
– Вот! – Шумахер подносит покал к свечам. – Это-то и навело меня на мысль, – он катает мозельское по хрустальным стенкам и поглядывает на просвет. – А не попробовать ли сего Медведя взять с тыла? И не рогатиной, а шпагой?
Тауберт ежится: лицо тестя в багровых пятнах. Но Шумахер сейчас, похоже, ничего не замечает, вновь переживая свои потаенные ходы.
– Доверенный человечек, – продолжает он, – покопался в архивах Марбургского университета, естественно, тайно, и обнаружил фамилию Ломоносова в реестре карцера. Нет, в журнале, куда заносятся имена арестантов, его не было. Но в реестре на отпуск провианта для карцера его фамилия значилась. Причем целую неделю: хлеб, шваденгриц – крупа на кашу и разбавленный сидр. А рядом в те же сроки заносилась другая фамилия. Спрашивается, что произошло? Конфликт? Не исключено. Доверенный человечек стал искать. Оказалось, что конфликт был: Ломоносов дрался с одним немецким студентом. Причину опускаю – не суть есть. Главное, что дуэль имела место. Нашлись и свидетели того происшествия. А вскоре удалось разыскать и самого дуэлянта – противника Ломоносова. Мой человечек приготовил для него кошель с талерами, дабы склонить к участию в нашем замысле. Но того и уговаривать не пришлось – живо согласился. Вот как клокотала в нем ненависть к русскому Медведю, даром что минуло уже пятнадцать лет! Нашли его в Ляйпциге. В науках он не преуспел, подвизался на ниве журналистики. Это и осенило меня. А что, если дать статью в журнале, да не простую, а критику на диссертацию Ломоносова «Рассуждения о причине теплоты и холода», по которой он стал профессором?