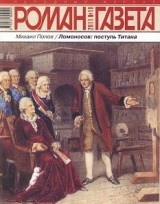
Текст книги "Ломоносов: поступь Титана"
Автор книги: Михаил Попов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 16 страниц)
19
Михайла Васильевич, устало отдуваясь, подымается по беломраморным ступеням Академии. Двадцать лет назад он взлетал подвысь ястребом. Ныне без подпорки уже не обойтись. Годы. Чай, полвека минуло, как явился на свет Божий. Большие годы!
Сверху, из-за балюстрады, доносятся прерывистые возгласы и посмешки, а когда он достигает промежуточного яруса, то явственно слышит торопливые шаги. Опять что-то затеяли, канальи!
В торце лестницы меж этажами воздвигнута поминальная доска: здесь вывешиваются реляции, рескрипты и прочие академические распоряжения и документы. Взгляд Ломоносова, зоркий и пронзительный, как всегда, выхватывает главное. Что нынче главное на этой доске? То, чего не было намедни и что помещено на самом верху – тот немецкий папир с торговой маркой Гейдельберга, который выписывает для нужд Академической грыдоровальни и типографии герр Тауберт. Одного взгляда академику Ломоносову достаточно, чтобы прийти в ярость. Огонь в груди вскипает, ровно пламя в горниле. Сердце бухает, аки било многопудового Реута. Но ни единого звука, ни единого плеска не вырвется наружу. Управлять своими чувствами за два десятка лет он – слава Богу! – научился. Школа была знатная, уроков получил немерено. Вот и теперь он находит силы удержаться, ни жестом, ни взглядом не выдав своего смятения, дабы лишить удовольствия академических крыс, кои исподтишка наблюдают, потирая потные лапки. Лишь дубовая палка громче обычного дубасит карарский мрамор. Поднявшись наверх, Ломоносов степенно, как ни в чем не бывало пересекает циркумполярный зал и, оставляя позади себя недоуменно-постные физиономии, скрывается за дверями Географического департамента. И только уже здесь, в своем заведовании, самообладание оставляет его. Тяжело рухнув в кресло, Михайло Васильевич смахивает с головы докучный парик и обхватывает ладонями горячее чело: колокольное било раскачивается все сильнее и сильнее, и ему блазнится, что вот-вот оно разнесет вдребезги его раскаленный череп. Во рту сухо. Пить! Взгляд тянется к хрустальному кувшину, но мозг командует не сметь – уже давно он, Ломоносов, не прикасается в Академии к воде, подчас мучительно одолевая жажду. Да токмо ли вода тут опасна! – кажется, сам академский воздух напитан тлетворным, пуще того – смертельным ядом.
Слухи по столице носились давно, едва ли не с того дня, когда произошел дворцовый переворот. Понятно было, что тех, кои участвовали в событиях 28 июня, новая государыня оделит милостями. Перечислялись братья Орловы, молодица Дашкова, племянница графа Воронцова; сам Михайла Ларионович Воронцов, Никита Иванович Панин, наставник наследника; и даже Гришка Теплов… Но уж никак не думалось, что среди сестер, коим достанутся серьги, окажется и Тауберт. А вот полюбуйтесь: пожалован статским советником и не в пример прежнему куда более крупным денежным окладом. Спрашивается: за что? За какие такие заслуги? За какие подвиги да деяния бывший обер-библиотекариус Тауберт поставлен выше его, профессора Ломоносова, в чине? Оказывается, за то, что набирал в академической словолитне державный манифест. Набирал да печатал – только и всего. Зато теперь теми же литерами, токмо крупнее манифеста, Тауберт набрал выдержки из указа, особо выпятив свое имя и новый чин. Зачем? Да затем, чтобы показать и утвердить, кто отныне в Академии есть и будет подлинный и единственный хозяин.
– Ну, будет! – Ломоносов хряпает по столу обеими руками – чернильный прибор от удара подпрыгивает, пятная брызгами зеленое сукно. Терпению Михайлы Васильевича наступил предел. – Будет! – уже тише повторяет он, ставит чернилонку на место, подвигает к себе чистый лист комментарной бумаги и берется за перо. Что за напасть! В горлышко чернилонки перо попадает не сразу. Но то полбеды. Беда в том, что дрожит рука, не в силах вывести даже слово. Из-под пера лезут каракули, по листку брызги порскают – вот как расходилось его ретивое. Отпихнув на край испорченный лист – еще сгодится на черновик, – Ломоносов берется за другой. Увы – этот тоже испорчен. Рука явно не в ладу с мыслью. Что же делать? Оставить затею на опосля? Так душа еще более изболится, коли ноне же не завершить задуманное. Надо попробовать вдругорядь, ужели не выйдет.
В двери просовывается голова в циркулярном штудиозном парике. Кто там? А, это Илейка Аврамов, штудент геодезии.
– Подь сюда. – Ломоносов манит его пальцем. Они сговаривались обчертить северную кромку Новой Земли, коя уточнена последней экспедицией. Да нынче не до того – в другой раз буде, – а теперь надо завершить задуманное. Ломоносов показывает глазами на стул, подвигает лист бумаги и протягивает перо, дескать, садись пиши.
Илейка, крепкий, румяный молодец, послушно кивает.
– Титло посередь, а опосля с красной строки… – наставляет Михайла Васильевич.
Илейка опять кивает и окунает перо в чернилонку. «Всепресветлейшая, державнейшая…» – выводит он под диктовку первую строку. И от сей строки, а точнее персоны, к которой его пером обращается профессор, на курносом носу Илейки выступает испарина.
Прошение состоит из пяти частей. Они точно крутые ступени. Труднее всего Илейке дается последняя, он аж покряхтывает от усердия. Ноне потому, что она втрое более предыдущих, а оттого, что здесь обнаруживается самое главное, чего ради профессор бьет челом государыне: он просит об отставке. Слова эти даются трудно и писцу, а того труднее самому Михайле Васильевичу. Он диктует их, тяжело дыша, ровно булыги речные ворочает.
Как и полагается, в концовке челобитной ставится имя писаря, что Илейка делает с особым тщанием. А завершается все подписью просителя: «К сему прошению коллежский советник Михайло Васильев сын Ломоносов руку приложил». С рукой Михайла Васильевич совладать по-прежнему не может, да роспись все же выводит, осаживая дрожь другой рукой.
Илейка, оставив перо, сидит насупленный и растерянный. По всему видать, ему шибко хочется о чем-то спросить, да только мнется и ерзает, не ведая, куда деть свои долгие руки. А в светлых круглых глазах его, кои зыркают исподлобья, кажись, зреют, точно роса поутру, слезы. Михайла Васильевич понимающе крякает. Илейка Аврамов – парняга башковитый. Жалко будет расставаться. И с ним, и с другими молодцами. Их с дюжину наберется, толковых молодых русачков, коих – уйдет он, Ломоносов, – начнут травить немтыри. Да что же делать, коли сил боле нету!
Положив на прибор перо, Михайла Васильевич откидывается на спинку кресла.
– А теперича, братец, спроворька мне извозчика, – просит он. – Мой Сенька токмо к обеду прикатит. А мне надобно немедля…
Пока Илейка обретается на посылках, Михайла Васильевич растопляет на спиртовке сургуч, потом скручивает прошение в трубу и запечатывает бумагу своей именной печатью.
Тут как раз возвертается Илейка. Что такое? На нем лица нет. А, это он прошел через академический крысятник. Да, брат, это все едино, что матросу али солдатику попасть под шпицрутены. Не замордуют, так до костей издерут. Сие на этой шкуре испытано. А то, что на тебе нет никакой вины, так для тех крыс вовсе ничего не значит. Ты виноват уже хоша бы в том, что ты – русский, что ты дерзнул проникнуть в святилище науки, куда вход варварам заповедан, а главное, в чем твоя провинность, что ты якшаешься с Ломоносовым.
Запихнув в карман кафтана парик, Михайла Васильевич прощально окидывает чертоги Географического департамента. Взгляд его останавливается на просторной карте Ледовитого океана. Вот где волища! Здесь – в Академии, в столице, в державе – воли нет. Она там, на краю земли, в океан-море, росская воля.
Нахлобучив на голову черную треуголку, Ломоносов, сопровождаемый Илейкой, выходит наружу. Опять со всех сторон доносятся шепотки, опасливые пробежки, но он не удостаивает академическую мелюзгу даже взглядом. Лишь кивает Адодурову и, стуча по мрамору палкой, спускается вниз.
У портала Академии его дожидается неказистый открытый рыдван – колеса большие, сиделки дощаные. Илейка виновато разводит руками: другого экипажа сыскать не удалось. Михайла Васильевич слабо отмахивается: сойдет, ехать ведь не на Холмогоры и даже не в Рудицу, а всего-навсего на Мойку, как-нибудь доскрипим. Одной рукой он берется за поручи, под другую Илейка подставляет плечо, нога – на приступок, и вот уже дородная фигура Ломоносова оказывается в экипаже. Рыдван под ним ходит ходуном. Жалобно поскрипывая, он вызывает волнение в лопатках кучера.
– Дозвольте проводить, господин профессор, – не столько предлагает, сколько просит штудиозус. Он маленько отошел – дурное в юности быстро облетает – глядь-поглядь, на губах уже теплится слабая улыбка.
– Садись, братец, – кивает Мйхайла Васильевич. – Сам просить хотел.
Поскрипывая и покачиваясь, рыдван наконец трогается. Мужичок-возчик, одетый в бумазейную поддевку, сторожко оборачивается: седок сурьезный, не инако енерал. Но боле кучера беспокоит не чин господина, а его вес: ведь в ем, почитай, восемь пудов, коли не боле. Лошадь-то может встать да передохнуть, а повозка-кормилица обрушится – колес не соберешь.
Скрипя и переваливаясь на булыжной набережной, рыдван неспешно подкатывает к предмостному отвороту – он начинается почти сразу от торца здания Двенадцати коллегий. На спуске пегую лошадку внезапно заносит, возница даже натягивает вожжи, одерживая ее.
– Балуй у меня! – озабоченно бурчит он, словно у него в службе не клячонка, а холеный породистый жеребец. Илейка Аврамов на его покрик отзывается чем-то ехидным. Но кучер, весь озабоченный, ему не отвечает, да оно и лучше смолчать: иной раз рот-то откроешь, опосля зубов недосчитаешься – ровно зерна от цепа вон прыснут.
У наплавного моста столпотворение, здесь скопилось множество экипажей, возков да телег. А все отчего? Оттого, что его разводили, пропуская вон ту важную яхту, которая швартуется теперича возле пристани Зимнего дворца.
Следом за другими повозками рыдван втягивается на мост. Наплавное дерево заводит перебранку и с копытами, и с колесами. Здесь, на воде, повозку качает сильнее, чем на берегу, – с моря идет нагонная волна да еще ветерок пошаливает, вот качка и усиливается. Михайла Васильевич сидит, широко расставив ноги и опираясь на свою дубовую палку, будто мореход на обломок мачты. Идейке возле него становится тесно, он пересаживается напротив, утыкаясь спиной в спину возницы.
Впереди затор. Что такое? А! Не иначе, лошади сдичали, напугавшись яхтенной пушки, а сдичав, так зацепились оглоблями, что ни взад, ни вперед не скрянутся.
– Пр-р-у! – бурчит кучер, запоздало натягивая вожжи, – его лошаденка едва не загораживает дорогу встречной повозке. Оттуда, с тарантаса, раздается окрик. Мужичонко-кучер отмахивается: мол, и ты виноват. Но тут из-за полога показывается ражий купчина, ясно дело, хозяин экипажа, и возница, не дожидаясь, когда ему покажут кулак, живо-живо дергая правой вожжой, ставит кобылку в свой ряд.
В середке моста не стихает колготня да неразбериха – экипажи все никак не могут разминуться. А тут, у края переправы, колоток проехавших повозок затухает и округ наступает зыбкая тишина. Лишь доносятся всхрапы лошадей, которых донимают докучные слепни да оводы, всплески невской водицы, да слышно, как что-то бормочет себе под нос возница.
– Не здешний, што ли? – окликает его Илейка, заслышав какое-то невнятное словцо.
– Скопские мы, – оборотясь на козлах, отвечает мужичонка. Бородешка старит его, а на погляд он – ровня штуденту, разве на год-два постарше. – С-под Порхова.
– Но-о. – Илейка тоже оборачивается, и они, возница и штудент, утыкаются почти нос к носу. – А пошто не дома-то? Ведь косовица небось…
Михайла Васильевич, занятый своими гнетущими думами, сидит, полуприкрыв глаза. Кажется, ничто не может привлечь его внимания, оторвать от тягостных размышлений. Но последняя фраза неожиданно касается сознания, и веки его, налитые свинцом, поднимаются. Эва! Илья Аврамов – корневой горожанин, а рассуждает сейчас ровно посельщик. Да вон еще как: крестьянскую страду не просто сенокосом называет, а косовицей, явно подразумевая, что вслед за меткой сена следует уборка хлебов. Вот что значит любознательный – и наука ему впрок идет, и у жизни учится. В стенах университета он в охотку водится со всеми однокашниками, не чураясь и разночинцев, кои прибыли из далеких городков и весей, – он набирается ума-разума у них, они – у него; а здесь, в городской гуще, он, похоже, готов заговорить с любым встречным, вольно переходя на простую речь.
Михайле Васильевичу по нраву всякая пытливая натура, а юношеская – особливо. Она – ровно зеркало, в котором он зрит себя в юные лета. Вот уж поистине «юности честное зерцало». Досадно токмо, что юношеские порывы подчас скоро гаснут, облекаясь в казенную форму, покрываясь рутиной да плесенью. Пример тому – того же Ильи Аврамова родитель. Персона в столице приметная – директор Петербургской типографии. В юности тянулся к просветительству, тем определилась и жизненная планида. А теперь что? А теперь он обретается среди гонителей естествоиспытания и вообще хулителей науки. Каково-то Илейке, пытливому молодцу, жить подле отца, который порочит и гнобит ученую мысль?!
Стараясь не нарушить завязавшегося разговора, Михайла Васильевич снова прикрывает глаза, а сам меж тем прислушивается. Что ответствует мужичонка-скобарь на вопрос штудента насчет косовицы? А то, что и следует: косовица и впрямь в самом разгаре, сено ставят по всей Псковщине. Но ему – при этом мужичонка вздыхает – возвертаться восвояси не положено, барин не велит.
– Что-то, малый, я тебя не пойму, – толкает его локтем Илейка. – Как тебя зовут? Дороня? Так что у тебя, Дороня, за барин такой, коли мужика в самую страду из деревни гонит? Или новый титл барщины завелся? – это добавляется явно для слуха профессора. Михайла Васильевич на сию реплику и ухом не ведет. Зато Дороню ровно подменяют: он поджимает нижнюю губу, бородешка его вздымается, а потом начинает мелко-мелко трястись. – Да ты што? – уже встревоженно вопрошает Илейка. Вскочив с сиделки, он склоняется над Дороней и тормошит его за плечо. – Што с тобой, братец?
Последнее слово, которое толь участливо и душевно, окончательно расслабляет возницу. Дороня стягивает с головы суконный колпак, утыкается в него лицом, задавливая рыдания, а плечи его костистые ходуном ходят.
Илейка от такого оборота на миг теряется, бросает растерянный взгляд на профессора, а потом вдруг встряхивает мужичонку за плечи и решительно, аки былинный его тезка, супит брови.
– А ну, кто тебя забидел?
Мужичонка от неожиданности осекается, икотно всхлипывает, открыв лицо, поднимает на Илью светлые глаза и глядит с удивлением и робкой надёжей, точно сей молодой господин и впрямь способен утешить и помочь его горю.
– Б-б-а-арин, – всхлипывает он. – Женка моя ему поглянулась… Вот…
– А-а, – морщит лоб Илейка, решительный вид его заметно теряется. – А она?
– Штё она?
– Ну, женка-то твоя? Как она к нему?..
– А она штё?.. – шмыгает носом Дороня. – Она привыкши…
Илейка трет переносицу, круглые глаза его пучатся – о таких житейских передрягах ему еще не ведомо. А и впрямь, как тут быть, коли барин приветил свою крепостную бабу, даром что она мужняя, а она, мужняя, теперича к барину льнет? Наконец лицо штудента озаряется, он хлопает себя по лбу, будто выводит научную мысль:
– Эко дело – баба! Дак брось! Мало, што ли, здесь девок! Гли! – Он тычет пальцем в сторону передней телеги, на которой сидит румяная, под стать самому Илейке, молодуха.
Мужичонка на его совет даже не ведет глазом, голова его клонится долу.
– Так ить люба, – с невыразимой кручиной стонет Дороня. – Люба…
Он медленно поднимает понурую голову, норовя подкрепить сказанное глазами, да до студента взгляд его не доходит. Все внимание его неожиданно обращается на сановитого господина. Что это с ним?
Во взоре Ломоносова неизъяснимая боль. Отлученный от Академии, он совершает из нее последний путь. Куда?.. Здание Куншткамеры, увенчанное стрельчатой башней, напоминает птицу, устремленную в небо. А массив Академии надменен, словно канцелярский стол.
Отуманенные слезами глаза устремлены влево, на царский дворец, что высится на том берегу Невы. Он красив, как малахитовый ларец, этот терем, однако же радости для взора сейчас в нем нет, он холоден и неприступен. Дороня в изумлении – он впервые видит барские слезы. Отрешенный и, кажется, забывший о своем горе-злосчастии, мужичонка жалостливо пялится на Ломоносова. А Михайла Васильевич в свою очередь молча и тоже с пониманием глядит на мужика. Две судьбы, две доли, внешне разные, но глубинно схожие, потому что обе покорежены чужой неукротимой волей.
Сумятица посреди моста наконец-то разрешается. Разноликие повозки – все эти двуколки, кареты, берлины, одноколки, ломовые подводы, – застрявшие в заторе, снова приходят в движение. Трогается вслед за другими и рыдван, на котором каменно сидит профессор Ломоносов. Застоявшиеся лошади ходко одолевают пролеты, норовя скорее пересечь зыбкое пространство и выбраться на матёру. Не отстает от передних и пегая, рыдван вскоре выкатывает на левый берег. Отсюда, прямо с моста, можно бы домой, на Мойку, да прежде надо завершить начатое, и Михайла Васильевич наклоном головы велит поворачивать налево.
Перед торцом Зимнего дворца – высокая железная ограда. По сторонам широких кованых ворот полосатые будки с караульщиками. Меж ними артикульным шагом ходит туда-сюда дежурный офицер.
Илейка показывает глазами на скрученную в трубу челобитную, что лежит на коленях Ломоносова, во взгляде вопрос. Михайла Васильевич кивает и протягивает бумагу:
– Скажешь: от профессора Академии господина Ломоносова. Донесение конфидентное. – Он поднимает палец. – Понял?
Таковая посылка челобитной не по уставу, да ему ныне не до политеса, тем паче что эдак послание дойдет быстрее, а главное – вернее. Илейка кивает и спешит к воротам. Передача челобитной происходит живо – офицер закладывает бумагу в специальный ларец и отдает честь, что в данном случае исключает всякие сумления. Довольный Илейка возвращается назад. Михайла Васильевич благодарно кивает и велит трогать. Дело сделано, теперь будь что будет – всё в руке царской, всё в деснице Божией. И устало, но покойно вздохнув, он вновь прикрывает глаза.
Повозка трогается, теперь она катит уже не по набережной, а через Невскую першпективу, потому как этим путем короче. По правую руку тянется вал Адмиралтейской фортеции, а впереди слева открывается просторный пустырь. При виде обширного пространства Илейка, а следом и возница оживляются. Они наперебой принимаются обсуждать, что на этом месте творилось всего четыре месяца назад.
(В июле 1762 года Илейка с Дороней не могли даже и вообразить, что на месте этого пустыря много лет спустя поднимется арка Генерального штаба, вознесется Александрийский столп, обустроится самая короткая в мире улица – улица Росси, и прочее и прочее. Зато они хорошо ведали, как это место выглядело в начале того самого года. Зимний дворец, который заложила Елизавета Петровна и которой не довелось в нем пожить, спешно достраивали для нового императора. К Пасхе все было закончено. Одно затрудняло и делало новоселье просто невозможным – огромная строительная площадка перед дворцом. Тут, куда ни кинь взгляд, громоздились хибарки, в которых жили мастеровые; шалаши и будки, где они обтесывали камни, пилили доски, бревна, замешивали раствор; всевозможные амбарушки, где хранились дранка, кирпичи, кровельное железо; а вокруг лежали кучи битого кирпича, горы щепы, опилок – словом, строительная площадка представляла собой форменный бедлам. Нет, очистка территории велась, но столь вяло и медленно, что Карл Петер Ульрих, то бишь Петр III, однажды рассвирепел. Не желая даже на день откладывать дату новоселья, он вызвал в Зимний дворец градоначальника Корфа и повелел очистить окрестности до грядущей субботы. Как – это его не интересовало. Махнул батистовым платком, точно пыль смахнул с любимой табакерки, и все – такова царская воля. А когда генерал-поручик Корф попытался пояснить, что работы много, а сроки малы, новоиспеченный император выхватил прусскую шпажонку и, тыча ею в окно, на весь дворец возопил: «Форвертц! Форвертц! Вперьет!», более чем ясно давая понять, что аудиенция окончена. Дородный Корф, говорят, вылетел из дворца, как пробка от бургундского. Он был растерян и подавлен. «Доннер веттер! – чертыхался градоначальник, озирая порученцев. – Такие завалы в одночасье не уберешь. – Что делать?» Порученцы в свою очередь тоже схватились за головы – их судьба зависела от карьеры градоначальника, а карьера Корфа в тот час висела на волоске. И вот тут кого-то из тороватых людей осенила идея. Предложение передали Корфу. Генерал-поручик доложил о нем императору. Тот благосклонно на это кивнул. И тогда во все концы Санкт-Петербурга кинулись нарочные. Весть, которую они огласили, сначала привела горожан в смущение. Еще бы! Со стройки, с которой многие, как это водится, потихоньку подворовывали, предлагалось уносить все, что кому понравится и заблагорассудится, то есть дозволялось то, что прежде пресекалось. Однако замешательство длилось недолго – на дармовщину и лежебока с печи слезет. Вскоре в центр города потянулся народ – кто пешем, кто на телеге, а кто таща тачку или тележку.
Это не только русская черта – ухватить то, что отдается за так или за пятак. Блошиные рынки прежде появились в Европе, а потом уже в России.
Здесь, на строительной площадке перед Зимним дворцом, особой давки не наблюдалось – территория-то открывалась обширная, поперек она простиралась до Мойки, а вдоль– от Миллионной до Исаакиевской церкви. Но колготня, само собой, стояла. Тут один перед одним копошились тысячи петербуржцев, и каждый, стар и мал, норовил прибрать к рукам то, что поцелее и может сгодиться в хозяйстве, – доска, гвоздь, бочка из-под вара, забытая стамеска или напарня…
Вот об этой истории, проезжая мимо чистого, теперь устланного свежим травяным ковром плаца, и судачили студент с возницей. «Во-во, – тыкал пальцем Илейка, показывая, где он нашел добротную поперечную пилу. – Эвон!» Оказывается, семья директора Петербургской типографии тоже промышляла на стройке. Сам глава в этом предприятии не участвовал – ему по чину было не уместно, – но старшие сыновья и слуги тут потрудились изрядно. В результате этого набега семья разжилась строительными материалами – добротными досками, кирпичами, а дров работники набили целую речную барку. Дороня в ответ на это понимающе кивал, а потом поделился, что и он не упустил своего. Дров насмекал здесь аж два воза, и хозяин постоялого двора обещал не брать у него за тепло аж до весны).
Рыдван, на котором едет домой профессор Ломоносов, сворачивает на Невскую першпективу, с главной питерской улицы – на Мойку, держась правого ее берега, а Илейка с Дороней по-прежнему судят-рядят на все лады странную царскую милость, коя свалилась на Петербург минувшей весной. Они готовы и дальше обсуждать все перипетии этого происшествия, да тут повозка наконец достигает дома Ломоносова, и разговор поневоле стихает.
Ворота усадьбы наполовину открыты, на этой створке катаются дворовые огольцы. При виде барина они прыскают наземь, токмо один малец, забравшийся на верею, боится спрыгнуть вниз и, сидя на верхотуре, жалобно хнычет. Рыдван вкатывается во двор и, обогнув угол дома, останавливается напротив парадного крыльца. Штудент и возница оглядывают усадьбу – они здесь впервые и им, конечно, любопытно. И что они видят? В глаза бросаются отворенные для просушки служебные постройки. Открыт амбар, отворен каретник. Возле дверей открытой конюшни стоит с разинутым ртом кучер Сенька. А еще открыт дровяник: он пуст, только в глубине посвечивает крохотная поленница березнячка. Это же надо! Такие возможности открывались по весне – можно было весь дровяник забить под крышу. Неужто некому было озаботиться? Самому Михайле Васильевичу, понятно дело, недосуг: по весне болел да еще оду писал новому императору. Но дворня-то! Чего же дворня-то не подсуетилась? Под берегом у причальца стоит ломоносовская лодка, на ней можно было сплавиться туда-сюда не один раз… Али распоряжений ждали? Особого приказа? Али лежебоки тут собрались?
Взгляд Ильи не ускользает от внимания Ломоносова, токмо отвечать на этот немой вопрос у Михайлы Васильевича нет сейчас ни желания, ни сил. Норовя сойти, он тяжело переваливается на сиделке. Илейка подает ему руку и подставляет плечо.
– Ой! – неожиданно вскрикивает он. Что стряслось? Уж не досадился ли? Михайла Васильевич ставит вторую ногу на ступеньку и только тут перехватывает взгляд штудента – Илейка уставился на его голени. Белые гарусные чулки Ломоносова темнеют бурыми пятнами.





