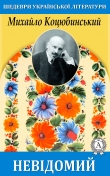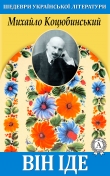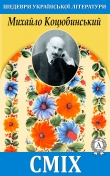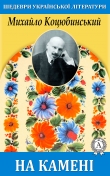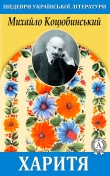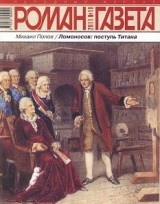
Текст книги "Ломоносов: поступь Титана"
Автор книги: Михаил Попов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 16 страниц)
2
Из оконца свечной лавки, что примыкает к порталу Троицкого собора, Михайла позыркивает на озеро. Там, в десяти саженях от кромки берега, боркается мужичонко-трудник. Он рубит в оковалом январском льду крестовую иордань. Грядет Богоявление. Сюда, в Антониево-Сийский монастырь, сберутся насельники окрестных деревень, паломники с двинских верховий, а иные и из самого губернского города. Великий сбор ожидается на Крещение. Оттого и беспокоен Михайла: а ну как кто из земляков явится али – того пуще – из куростровской родовы.
Суемно Михайле. Щеки пылают, его знобит. От дома оторвался – позади осемьдесят верст, – но незримую пуповину повитуха Судьба еще не перекусила. Здесь, в монастыре, где остановился рыбный обоз, его могут настичь. С мачехи-грызлы станется, коли вызнает. Такой вой подымет – всю деревню сполошит. «Сын неслух. Двадцать годов батька кормил-поил, чаял, гожий работник будет, а он эко че удумал – утек! Ослухом, без блаословения – и утек!» Накрутит ведьма батюшку, накалит ему сердце, тот и кинется вдогон. Прискачет в Сию да, чего доброго, вожжами почнет охаживать. Да вожжи-то полбеды – то и стерпеть можно, даже и на людях, не впервой. А ну как силом да отцовской властью назад потянет на тех вожжах?
Михайла знобко передергивает плечами, явственно представляя тот возвратный путь. А мысли-то уже дале норовят. Ведь возвратом все не окончится. Дабы закодолить, как кодолят норовистого жеребца, потянут его под венец. У батюшки уж давно девка присмотрена. Сперва из Колы хотел сватать – он, Михайла, отказался, теперь ближе подыскал, в Холмогорах. «Не схотел на Коле – будешь на приколе», – язвит мачеха. И коли окрутят – не видать тогда ни Москвы, ни любезной сердцу науки.
До чего мешкотно мужичонко-трудник рубит иордань. Ровно сонный. Этак и к Крещенскому сочельнику не поспеет. Свое сумление Михайла роняет вслух. Служка Кирила, обретающийся при свечной лавочке, смиренно вздыхает: с Божией помощью-де поспеет.
Караванный приказчик сулился тронуться в дорогу сразу после водосвятия и трапезы – стало быть, уже через сутки. Все помыслы Михайлы, когда он стоял на заутрене, были обращены к предстоящему пути. Он истово молился и так благостно выпевал псалмы, что отец Порфирий после службы похвалил его и поставил в пример монастырским юношам. Может, потому и послуха дневного не дал, предоставив самому распорядиться временем. Михайла выглядывает в околенку. Взгляд мимоходно кидается к келейному корпусу – нет ли возле крыльца новых паломников, а после – снова обращается к труднику, что пестается на льду. На ногах мужичонки обшитые кожей бахилы, на коленях кожаные заплаты, с шеи фартук кожаный свисает коробом – какая уж тут сноровка. Да и силенки в нем, похоже, не ахти, и навыков в руках нет натодельных.
На бережку у трудника запален костерок, там он калит долгие кованые гвозди – это чтобы трещин не наделать, гвозди те вбивает по наметкам, на них под шляпку накручивает бечевку и вдоль того вервия ширяет пешней. Ширяет медливо да слабо, ровно шилом завойным. Глядя на эту нероботь, Михайла не выдерживает. Он запахивает нагольный полушубок, нахлобучивает овчинный треух и вылетает из свечной лавочки на улицу. Мороз крещенский, лютый, он живо спирает дыхалку, обдает стужей и без того обветренное лицо. Михайла скатывается с белокаменного крыльца и торопится под угорец.
– Дай-ко! – вытягивает он из рук трудника пешню и, забыв надеть на руки деленки, начинает лупить по льду что есть силы. Колючие сколыши летят во все стороны, только лицо уворачивай. Зато какими царскими адамантами они вспыхивают под низким красным солнцем, что рдеет меж монастырскими храмами.
– Мотри, за бечеву не выходи, – наставляет Михайлу мужичонко, довольный подмогой. Потрясывая редкой бородешкой, он ладит греться к костерку. А Михайле сугрев – пешня. Он вздымает сомкнутые на рукояти руки выше головы и с уханьем вонзает острие пешни в ледовую толщу. «Ух!» – вырывается из груди. «Ух!» – вонзается в лед. «Ух!» – разносится по окрестностям. Сколыши и крупные куски льда отлетают на стороны, а после очередного удара из ямины вырывается снопец брызг. Отставив пешню, Михайла подхватывает плетеный ивовый черпак и выгребает из отворенной полыньи шугу.
Теперь черед пиле. Но прежде чем за нее взяться, Михайла тянется к топору. Топор в руках молодца не работает – веселится. Как, бывало, выгонял паз на бревне, так во льду Михайла тянет каналец. По нему сподручнее, нежели по бечевке, гнать пропил.
Пила для заделья приготовлена удлиненная и, само собой, одноручная. Здесь двуручной делать нечего. Водяного, что ли, в напарники кликать или чертей? Так их, зеленастых, в округе за его верст, поди, нет – всех монахи поразогнали.
Михайла окунает пилу в малую прорубь и принимается вести пропил по канальцу. Пила идет мягко – не то что в деревине, – но усилие требуется не меньшее, ведь толща льда с ядреную комлевую чурку будет. Лезвие выведено напрямую. Теперь знай гони пропил от одного гвоздя до другого. Только бы силенок хватило.
– Охолонись, – канючит мужичонко, что угрелся возле костерка. Да Михайле не до него. Он ладит один пропил за другим: то вдоль, то поперек, то опять вдоль. Да все торопит себя: скорее, скорее, скорее… В яром запале Михайла скинул полушубок, оставшись в одном кафтанце, а потом, разгоряченный, смахнул на лед и шапку. Жарко! Пар валит от него – страсть! Но передыху себе Михайла не дает. Не до того ноне.
Одна забота обуревает Михайлу: нать завершить иордань самому, не дожидая подмоги. Это его послух. И остановка эта недельная в монастыре, и обязанности псаломщика, которые он исполняет, и наконец вот эта иордань – это ему испытание перед дорогой. Ежели одолеет, то и дальнейшее свершится с Божьей помощью. Он это чует. Потому и не оставляет свой добровольный упряг.
Сделан еще один пропил, еще… В Михайловых руках то топор, то пила, а то иногда пешня. Силы тают, а заделью конца-краю, кажется, нет.
– Передохни, – тянет трудник.
На сей раз Михайла соглашается. Он надсадно выгибает поясницу, ломко потягивается и замирает. За озером, мерцая зарницами, клубится стремительное облачко. Оно напоминает парусок тятиного гукорца. Сердце сжимается. Михайла смятенно оборачивается к Троицкому храму, словно ища укрепы. А потом снова кидает взгляд за озеро. Облачко на глазах обращается в простертую длань, больше того – Михайле чудятся три перста. Это длится мгновение – оборотистый сиверик уже вытягивает персты в силуэт поморника. Обретя пернатость розовой чайки, облачко ускоряет свой полет и стремительно исчезает.
Дали в дымке. Рдяное солнце, будто заиндевелая брусница. Над ширью Большого Михайловского озера, над полуостровом зиждется Антониево-Сийская обитель. Она вся на долони, точно на иконе преподобного Антония Сийского. За смарагдовой низкой пихт, что окаймляет берег, – белокаменные соборы. Справа – Благовещенская церковь, шатровая глава которой возвышается над всеми. Далее ошуя – ризница и усыпальница. Затем – Троицкий собор, следом – храм-колокольня Трех святителей Московских. В глубине – игуменский корпус, а на отлете – надвратный, ровно застежка на опояске-ограде, Сергиевский храм.
Чем ближе к обители, тем явственнее становятся звуки: неугомонно стучит работное железо. В ближнем к озеру окне игуменских палатей – старец. Это сам настоятель отец Порфирий. К ветхому архимандриту, доживающему последние сроки, только что наведался келарь, дабы просить благословение отправить на прорубку иордани еще двух трудников да псаломщика. Но настоятель жестом подзывает его к окну.
– Вот, – кивает он на лед, где пластается Михайла. – У этого молодца не иначе озарение. Так пусть и вершит с Божьей помощью, покуль сил достанет. – И в знак благословения осеняет работника смиренным крестным знамением.
А Михайла запалился. Сердце бухает в грудь, точно пешня в ледовый панцирь. Его уже качает от натуги. Но от своего не отступает. Мужичонко-трудник, видя упорство парня, более не окликает его. Лишь трясет изумленно бороденкой, не решаясь подступиться, толь истово вершит дело этот неугомонный.
Пропилы продольные наконец сделаны. Михайла вытягивает изо льда гвоздье – каленные огнем да морозом штыри. Ломко – до хруста – разгинает остамелую поясницу, аж искры из глаз сыплются. И, маленько переведя дух, снова берется за пилу. Теперь нать перепилить поперечные связи, на коих еще держится ледяной остов. Эти пропилы короче, и Михайла живо перерезает одну за другой внутренние и внешние перемычки. Бруски льда начинают зыбиться, потеряв последнюю связь с матерым панцирем. Михайла откидывает в сторону пилу – она более не занадобится – и берется за крючья. Одному вытягивать эти глыбы тяжело и несподручно – окликает трудника. Тот, сомлелый да малехо напуганный, трусит на зов. Вот вдвоем они и довершают дело. Иные бруски, зацепив крючьями, вытягивают своими силами. Иные– воротом, охомутав пенькой ближнюю пихту.
Когда последний брусок вытягивается на матерый лед, Михайла оседает на колени. Отворенная крещенская вода – агиасма – дымится большим осьмиконечным крестом.
– Слава те, Господи! – выстанывает изнуренный Михайла, глядя на воду. Для него это не только крест. Это – его путеводный знак. Это – подобие стрелки матки, поморского компаса. Вот что это такое.
С трудом поднявшись на ноги, Михайла переводит взгляд на кресты Троицкого собора. Сил, кажется, осталось на одну молитву:
– Пресвятая Троице, просвети мои очи мысленныя, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумети заповеди Твоя, и творити волю Твою, и пети Тя во исповедании сердечнем, и воспевати всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Осенив себя крестом, Михайла подхватывает одежонку и, распоясанный, идет к берегу.
– Беги, паря, к печке, – торопит его изумленный трудник. – Околеешь нито.
– Теперича не околею, – отзывается Михайла и, чуя, как грудь его наполняется духоподъемной силой, уже громко, уже во весь голос повторяет: – Теперича точно не околею!
3
Девятнадцатое марта 1736 года. В приемной зале главы Петербургской Академии Наук, помещении узком и тесном, сидят трое молодых людей. Это штуденты Академии Дмитрий Виноградов, попович из Суздаля, Густав Райзер, сын горного советника и президента Берг-коллегии, и Михайла Ломоносов, крестьянский сын из Поморья. На них темно-синие кафтаны, черные сюртуки и кюлоты, гарусные серые чулки и черные туфли с большими пряжками. Молодые люди вызваны к барону Иоганну Альбрехту фон Корфу, главному командиру, как тогда называли президента Академии. А сам барон в этот момент находится по срочному зову в императорском дворце. Сколь долго продлится аудиенция у Анны Иоанновны, никому не ведомо – мало ли что за надоба возникла у Ее Императорского Величества, то ли внушение чинит, то ли совет держит, – но расходиться господам штудентам не велено, а предписано ждать. Так наказал советник Академической канцелярии господин Шумахер.
Сидя в присутствии, молодые люди маются, позевывают и от бездельного досуга болтают о чем придется. Впрочем, болтает больше Дмитрий Виноградов, самый юный из них – ему всего шестнадцать лет. Сухощавый и высокий немец Райзер, хоть всего на год старше товарища, степенно молчит. А Михайла, он самый старший из них, ему уже двадцать пятый год, что-то пишет в небольшой, но толстой тетради да бросает время от времени реплики.
Попович, порывистый и нетерпеливый, вскакивает со стула и подходит к высокому италийскому окну. На снегу под окнами копошатся снегири. Как их грудки, пылают щеки юного Дмитрия. Махнув рукой, он спугивает птах, тотчас возвращается на место и начинает вслух размышлять, что поделывает во дворце барон Корф, да при этом мечтательно жмурится.
– Страсть охота во дворец! Государыню увидеть, на гоф-девиц поглядеть. А шуты там, говорят!.. А карлы!..
Густав на эти зазывные речи не откликается: с русским языком у него все еще нелады – родился на Москве, да долго жил в Германии, за что вкупе с ростом прозвали «швабской верстой», – вдаваться в рассуждения, даже досужие, ему тяжело, не будешь же об императрице и ее гоф-девицах рассуждать на латыни. А Михайле и слышать неохота.
Попович, однако, не отступает.
– Мне зятенька так говорил, – развивает он тему, поглаживая холеный ноготок на мизинце, – желаешь попасть ко дворцу – учись палить из фузеи. Матушка-государыня шибко любит сие. Особенно когда молодцы нарочито палят. А зятенька ведает, потому как служивый.
Михайла хмыкает, а Густав недоуменно пожимает плечами.
– Пошто скалитесь! – супится попович. – Не верите? – Он лезет в потай кафтана и оттуда извлекает тетрадочку. – Вот слушайте, – и начинает читать:
– «В прошедшую среду и пятницу изволила Ея Императорское Величество самодержавнейшая наша монархиня стрелянием в цель забавляться, которое от Его Высокографского сиятельства обер-камергера фон Бирон в третьем саду учреждено было».
Попович окидывает товарищей победительным взглядом.
– А вот еще: «…Ея Величество при продолжающейся ныне приятной погоды, иногда гулянием, а иногда стрелянием в цель забавляться изволит. Здешние и иностранные министры приезжают и отъезжают почти ежедневно, и куртаги обыкновенным образом в великом числе бывают». Куртаги! – отрывается от чтения Виноградов. – Ах, куртаги! Музыка! Аглицкие контрдансы, французские котильоны! Ах, боже!.. Вот извольте, – и он снова принимается читать: – «В прошедшую субботу, то есть в кавалерский праздник святаго Александра Невского…» тут много имен, пропущу… вот… «с вышепоимянутыми Кавалерами изволила Ея Императорское Величество в большой сале летняго дому за одним столом публично кушать. Музыкальный концерт отправлялся при том от искуснейших италианских музыкантов и певиц к высочайшему удовольствию Ея Императорского Величества. По окончании стола был бал, а в вечеру иллюминированы все дворы здешняго города. Платье оных Кавалеров, которое они в сей день впервые надели, состоит в голубых кафтанах с понсовою подкладкою и в понсовых камзолах, золотым позументом укладенных, а шляпы с красным пером».
Митенька кончает читать.
– С красным пером, – точно эхо, повторяет он с умилением. – С красным пером, – и щеки его горят, как те перья.
Михайла, оторвавшись от своих записей, заглядывает в тетрадь Виноградова. Там на страничках тесными рядами наклеены крахмальным клеем вырезки из газеты.
– Не иначе «Санкт-Петербургские ведомости» распотрошил, – хмыкает Ломоносов. – А я-то смекаю, кто это казенную газету кромсает? Как не наведаюсь в канцелярию – «Ведомости» опять в дырках.
Попович малость смущен.
– Дак на, – тянет он тетрадку, – почитай.
– Не-е, мне сие не надобно, – отмахивается Михайла.
– А чего ты искал? – простодушно надувает губы попович.
– А что искал, то и нашел, – уклончиво отвечает Михайла.
Глаза у поповича разгораются.
– Чего я такого там це приметил? Скажи, Михайле, – тянет он, ровно малый ребенок.
Ломоносов добродушно усмехается:
– Ладно, – и принимается зачитывать то, что он выписал из газеты: – «В прошедшую субботу изволила Ея Императорское Величество всемилостивейше приказать, чтоб Профессора Астрономии господина Делила и Профессора Физики господина Крафта ко дворцу призвать, по которых прибытии туда, последний из них до обеда в высочайшем присутствии Ея Величества, – тут Михайла поднимает палец, – с Гирнгаузенским зажигательным стеклом некоторыя опыты делал; а в вечеру показывал прежде помянутой господин Профессор Делиль разные Астрономическия обсервации, при чем Ея Величество между прочими на Сатурна с его кольцом и спутниками через Невтонианскую трубу, которая семь футов длиною была, смотреть изволила…».
– Сие было в «Ведомостях»? – дивится Виноградов.
– Третьего марта минувшего года, – уточняет Ломоносов и читает далее: – «На прошедшей нёделе учинены при дворе к высочайшему удовольствию Ея Императорского Величества разные опыты Антлиею Пневмотическою, також де некоторыя Гидраулическия и Гидростатическия эксперименты…»
– И сие оттуль? – тянет шею попович.
– Оттуда, из «Ведомостей». Того же года марта десятого… Токмо антлию я назвал бы насосом. Эко нагородили…
Попович пристыженно тупится. А потом, одолев смущение, тянется к Михайле, ровно к старшему брату.
– Ах, Михайлушка, страсть как охота ко дворцу! Там такая гоф-девица – прелесть! С мушкою вот здесь. – Он тычет пальцем в свою щеку. – Видел на Святки. На Мойке, близь дворца.
Тут в разговор неожиданно вступает до того молчавший Райзер:
– Скоро тфоя тефиц путет талеко.
Попович недоуменно поворачивается к нему, дескать, объясни. Райзер объясняет как может:
– Скоро ти путеш талеко.
– Дак девица али я? – вскидывается нетерпеливый попович.
– Ти. – Райзер для верности тычет в него пальцем.
– Ну? – тут уже не выдерживает и Михайла. – Пошто волынишь?
– Фатер, – Райзер косится на дверь, за которой сидит Шумахер, и прикладывает палец к губам, – фатер слышать грос… секрет… Я, – он тычет себе в грудь, – и ви ехать Германия. Нах штудия.
– Учиться в Германию? – ошалело глядит на него Ломоносов и, хлопнув себя по коленям, аж подпрыгивает. – Ух!
– Тс-с, – таращит глаза Райзер, тыча в двери канцелярии, и переводит взгляд на Виноградова. Попович тоже радуется, но по лицу его пробегает грустная тень, ведь та гоф-девица тоже приметила его.
– Нишего, Митя, – Райзер отваживается на целую речь, – там, Германия, тоже гут тефиц ест.
– Есть, – кивает довольный Михайла. – Но главная персона там для нас – госпожа Наука. Так-то, отроки!
Из-за окон доносится стук копыт. Виноградов спешит к окну.
– Он…
Из тяжелой санной берлины выбирается барон Корф. Несмотря на зимнее облачение он скор и стремителен. Не проходит минуты, как глава Академии уже появляется в своей резиденции. На ходу скидывая на руки слуги шубу, отороченную собольим мехом, и соболью же шапку, барон оглядывает замерших навытяжку штудентов. На нем зеленый мундир, на правой стороне груди сияет звезда, полученная из рук самого Петра Алексеевича. Лицо у Корфа свежее, округлое, ему еще нет сорока. Глаза большие, темные, но, похоже, после визита во дворец они затемнели еще больше. Это не ускользает от внимания Шумахера, который уже тут как тут. Потому так подобострастно поглядывает на барона, готовый исполнить любое повеление, и одновременно зорко доглядывает за штудентами, дабы кто-нибудь из них неуклюжим жестом, тем паче словом еще пуще не омрачил бы начальствующего лица.
Не говоря ни слова, Корф приглашает господ штудентов к себе в кабинет. Это просторный, богато обставленный зал, где много позолоты и дорогих драпировок. Над столом главного командира парадный портрет императрицы – мрачновато-темное лицо с обращенным внутрь себя взглядом. Прямо перед Корфом на противоположной стене портрет Петра Великого – взор прямой, вдохновенный, устремленный в неоглядную даль.
Штуденты садятся под портретом императора, Шумахер – сбоку возле стола барона. Корф раздумчиво перебирает бумаги, лежащие на столе, изредка бросает взгляд на штудентов. Потом, помешкав, встает, отводит бумагу от глаз, как это делают дальнозоркие люди. Следом за ним встают штуденты и Шумахер.
– Указом Ея Императорского Величества…
Корф читает рескрипт. Согласно этому документу, трое молодых людей – Дмитрий Виноградов, Михайла Ломоносов и Густав Райзер как самые прилежные и даровитые штуденты отправятся на учебу в один из европейских университетов. Барону бы радоваться. Более года он добивался сего рескрипта. Но с лица его никак не сходит злополучная тень. Более года правительственный Сенат всячески затягивал его обращения, хотя в них черным по белому были прописаны заветы блаженной памяти Петра Алексеевича. А все отчего? Да оттого, что за десять лет со дня кончины государя в Сенате явились новые персоны. Но дело не только в Сенате. Сенат – отражение двора, его зерцало. Разительные перемены произошли там. У царствующей племянницы Петра Алексеевича на уме одно: кудесы, покусы да фузейная пальба. Во дворце калики перехожие, бабки-бабарихи, вещуны да ведуны. За таковых и ученых мужей там держат, дабы кудесы да фейерверки устраивали. Вот и нынче его, Корфа, по прихоти барона за тем вызывали. Когда-де вновь явятся господа химические профессора? А во дворце-то срам. Бабки с бородавками во всю личину, кликуши да дураки. То поросячья рожа Педрилло, италийского музыкера, то плутовская физия Лакосты, португальского жида. И всюду зубоскальство. Разве таким надлежит быть лицу просвещенного государства? Разве таким надлежит быть двору – зерцалу государства?
Корф устремляет взгляд на троицу молодых людей. Глаза у них чистые, вдохновенные, готовые к труду и дерзанию. Вот он, подлинный образ молодой России, которую завещал государь-просветитель!
Завершив чтение, барон садится за стол, рукой показывая сделать то же остальным. И напоследок добавляет о сроках отправки: сие зависит от почтовых сношений с европейскими профессорами, а также от того, когда будут получены необходимые для этого деньги.
Вопрос главного командира Академии, заданный по-немецки, обращен к советнику академической канцелярии. Лицо у Иоганна Даниила Шумахера редкостное. Кажется, оно принимает черты той персоны, от коей падает начальственный свет. Прежде он неуловимо походил на предшественника
Кайзерлинга, а сейчас, как все примечают, – на него, Корфа. Это, конечно, занятно. Но лучше бы он, Шумахер, перенимал направление мысли. А то ведь тут он являет подчас прямо противоположное, а где и своевольничает. Не далее как в январе по его, Корфа, ходатайству прибыла из Москвы дюжина отобранных штудентов, в том числе и эти молодцы. Шумахер доложил об их прибытии в Сенат и испросил денег на содержание. А в концовке – уже от себя – добавил: «Буде же суммы на оных отпущено не будет, то б велено было оных учеников куда надлежит отослать обратно». У Шумахера на уме одно – деньги. И чем больше их останется в академической казне, коя под его управой, тем для него прельстительнее.
– Господин барон, – Шумахер делает озабоченное лицо, ответ он держит по-немецки, – денег в казне Академии нет, – и при этом разводит тонкими цепкими руками.
Корф почти довольно хмыкает: он так и знал. А из глаз его, аспидно-угольных, летят искры.
– И-изы-ы-ска-ать! – цедит он.
– Слушаюсь, – покорно клонит голову Шумахер. Такой поклон что тебе выстрел, коим убиваешь сразу двух зайцев. С одной стороны, показываешь преданность и готовность исполнять приказания. А меж тем можешь искоса глянуть в сторону, дабы окинуть случайных свидетелей. Ишь, как эти юные шалопаи восторженно пялят зенки на Корфа – и попенок, и отпрыск президента Берг-коллегии. А этот-то, самый рослый и самый старший из них! Э-э! Да он, похоже, видит больше, чем показывает: глядит на Корфа, но и его, Шумахера, не выпускает из виду, охватывая боковым усмешливым зрением скрюченную в поклоне фигуру. Ишь ты! Как бишь тебя зовут? Ломоносов. Ну, гляди, Ломо-носов! Как бы тебе твоя фамилия не аукнулась, дабы носа не задирал!