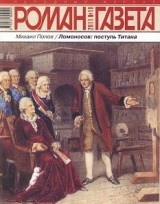
Текст книги "Ломоносов: поступь Титана"
Автор книги: Михаил Попов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц)
9
1743 год, 26 апреля. С вестового адмиралтейского корвета гремит полуденная пушка. Выстрел эхом отдается на стрелке Васильевского острова. И тотчас, словно раскаленное ядро, в Академию врывается адъюнкт Михайла Ломоносов. Полы его кафтана распахнуты. Они пластаются по сторонам, точно ястребиные крылья.
Вот они, чертоги учености, к коим он, Михайла, столь страстно стремился! Беломраморная лестница – ровно путь на Олимп, и ступени ее, аки строки ироической поэмы. Но для кого?
Горько-хмельная усмешка кривит губы Ломоносова. По возвращении из Германии он почти год обретался без должности, а стало быть, и без оклада. Жил на жалкие разовые подачки, кои получал в счет эфемерного будущего жалованья. А дело, к которому его приставили, было и вовсе сродни насмешке – перебирать в Куншткамере каменья, в том числе почечные, да составлять на них надлежащую опись. Камни из вельможных черевов – конечно, не булыги, и труд сей – не Сизифов, да токмо ежели учесть его, Михайловы, познания да сердечную жажду все силы отдать российской науке, каково ему было дни напролет, месяц за месяцем перебирать их! Ладно год, заглаживая вину за то, что своевольничал на чужбине, он отдал на те камни. Но еще-то доколе?!
Устремляясь наверх, Михайла перепрыгивает через две ступени. Точно так же, с лету, он готов одолевать и ступени знаний, лишь бы не чинили преград. А что выходит?
Через год в его судьбе вроде бы появился просвет. Звания профессора, обоснованного рескриптом, он, правда, не получил, но после преодоления препон, чинимых академической канцелярией, стал адъюнктом физического класса. Казалось бы, все – отныне можно всецело заниматься лабораторными опытами, ставить эксперименты, читать студентам лекции… Ан нет! Его, адъюнкта, помощника профессора, то и дело занимают переводческой работой, сводя энергию ученого к обязанностям толмача. Да если бы только его – всех природных русаков отодвигают на зады, уравнивая с ремесленниками и подмастерьями. Стон стоит в Академии.
По осени жалобы академической голытьбы наконец достигли двора. 30 сентября Сенат создал Следственную комиссию. 7 октября советник канцелярии и его приспешники были взяты под стражу, причем «со всеми их имениями» – и Шумахер, и контролер Гофман, и книгопродавец Прейсер, и канцелярист Паули… – все осиное гнездо. К руководству канцелярией пришел Андрей Константинович Нартов, главный механик Академии, к тому же – сподвижник императора Петра. То-то обрадели мужи русские: пришел-таки конец шумахерщины, капец теперь засилью немчуры, все теперь откроется – все лихоимства, поборы и хищения: и то, как Шумахер присваивал деньги, предназначавшиеся на угощение посетителей Куншткамеры – таковых за многие лета набралась баснословная сумма – 7000 рублей; и то, как на должность служителей Куншткамеры назначал собственных лакеев, не платя тем ни копейки, а в свой гроссбух положил ни много ни мало 1440 рублей; и то, как за счет Академии завел себе шестивесельный ял с наемными гребцами и пересекал Неву, точно адмирал; и то, как, радея своему тестю Фельтингу – прежде повару императора Петра Алексеевича, а теперь главному эконому Академии, он, Шумахер, втридорога оплачивал из академической казны все академические заказы; и то, какие деньги он прикарманил от доходов академической типографии и книжной лавки…
Перечислялось многое, да, разумеется, далеко не все, в чем преуспел коварник Шумахер. Это была лишь видимая часть айсберга, который громоздился на пути российского корабля науки. Куда большую опасность представляла нижняя, невидимая его часть, коя распарывала днище сего научного корабля, корежила его скрепы-шпангоуты, сокрушала сами устои Российской Академии – бесконечные интриги и каверзы Шумахера, пресекавшие русскую научную мысль; натравливанье иноземных ученых на русских; науськиванье научной молодежи против именитых ученых; и наконец, полный развал академического университета, детища Петра I, где, по его державным замыслам, должна была твориться свежая кровь российской науки.
Шумахеру вменяли в вину только очевидное, что подтверждалось свидетельствами, то есть факты казнокрадства. Однако даже и этих злодеяний было довольно, чтобы сослать лихоимца на веки вечные в Сибирь, а то и отправить на дыбу. А что вышло? Да ничего! Все обвинения, которые предъявили казнокраду, растаяли аки дым, словно ничего и в помине не было – ни взяток и подношений; ни шестивесельного адмиральского яла; ни даже дома на Васильевском острове, который целиком содержался на казенный кошт. Ничего!..
По Академии поползли слухи. Одни утверждали, что члены Сенатской комиссии получили мзду. Другие полагали, что они просто-напросто остолопы. Однако, скорее всего, имело место и то, и другое. Один из комиссаров генерал-лейтенант Игнатьев, обер-комендант Петербурга, был по натуре солдафон. Покорная повинность стоявшего перед ним немца Шумахера, скорбный трепет этого лукавца-лицедея вызвали благосклонность простодушного генерала, привыкшего ко фрунту и дисциплине. А другого члена комиссии, князя Юсупова, потомка татарского мурзы, приспешники Шумахера, видимо, удоволили достойным «ясаком». Потому все обвинения к концу осени осыпались, аки пожухлые листья. Единственно, что углядели сенатские комиссары, так это отсутствие партии академического вина. Казенного пития, числившегося по реестру, недосчитались на сто с лишним рублев – не одну бочку. Куда же оно девалось? Такой вопрос задали Шумахеру. Он, как всегда, не понял. Опять пришлось прибегать к помощи толмача. То, что чиновник Российской Академии не знает русского языка, никто в вину ему не поставил. Напротив, сие обернулось даже на пользу ему: человек без языка – наполовину юродивый, а на Руси завсегда почитали убогих. Говорят, заслышав Шумахерову речь, не слишком склонная к улыбкам Анна Иоанновна аж расхохоталась – было это в 1732 году, когда тогдашняя императрица посетила Академию. С той поры минуло десять лет, но Шумахер говорить по-русски так и не научился. Выслушав толмача, арестованный принялся отвечать. Из его долгих и путаных объяснений выходило, что его вины в растрате казенного вина нет, что он, Шумахер, всего лишь выполнял приказ главы Академии, приказ же тот строго-настрого повелевает оберегать собрание Куншткамеры, основанной еще государем императором Петром Алексеевичем, и постоянно менять в сосудах с диковинками спиртовые препараты, а также заспиртовывать и тех человеческих и животных уродцев, кои поступают в хранилище вновь. «Монстры, – потупив взгляд, пояснял Шумахер, – присылались в ночное время и требовали… налития тем спиртом, чтоб не могли испортиться». Сие объяснение у одних представителей следствия вызвало снисходительную усмешку, у других благосклонный кивок. Но и те, и другие таким объяснением удовлетворились: по российским представлениям, некоторая питейная вольность была проступком вполне понятным, а потому простительным.
В итоге все встало на свои места, ежели не сказать, что переменилось с ног на голову. 24 декабря вердиктом комиссии Шумахер и его подчиненные были освобождены. Им вернули все их имущество и состояние, их восстановили на службе. Но самое поразительное заключалось в том, что острие следственного пера, точно флюгер, резко повернулось в супротивную сторону, то есть в сторону той самой академической голытьбы, коя, взывая к справедливости, и потребовала разбирательства.
Ошарашенные оборотом тяжбы, супротивники Шумахера растерялись. Вместе со всеми переживал поражение и он, адъюнкт Ломоносов. «Почему опять проиграли природные русские? – размышлял он как наедине, так и в кругу заединщиков. – К тому же проиграли у себя дома, а чужеземцы вдругорядь одержали викторию?»
Все тайное, ежели оно не от Бога, рано или поздно становится явным. Так случилось и на сей раз. Вскорости открылось, что секретарь следственной комиссии Андрей Иванов путается с немцами. Иоганн Тауберт, выкормыш Шумахера и его правая рука, втерся к Иванову в доверие. Где мытьем, где катаньем, то бишь угощениями да подношениями, он так улестил секретаря, что тот открыл перед ним все следственные бумаги. Вот тебе и «природный русский»!
На руку немецкой партии, сам того не подозревая, сыграл другой природный русский – Нартов. Человек прямолинейный, а подчас и грубый, Андрей Константинович никогда не держался политеса, а также и дипломатии. А уж получив в управление академическую канцелярию, он и вовсе перестал считаться с чужим мнением. В результате многие единомышленники к нему переменились, в том числе и он, Ломоносов. А иные русские, кои колебались спервоначалу, взяли сторону Шумахера – это Адодуров, Теплов и Тредиаковский.
И все же главный козырь немецкой стороне выпал не из академической колоды. Окольным путем, через одного письмоводителя, стало известно, что Шумахер, уже вновь водворившийся в канцелярии, рассылает известным особам подношения. Среди таковых оказался медик Иоганн Лесток. Обращаясь к своему тезке, герр Шумахер предложил назвать коллекцию редких трав, поступивших в собрание Куншткамеры, Herbarium Lestokianum. За какие такие заслуги советник канцелярии решил «обессмертить» – как он выразился – имя господина Лестока? Ведь не за клистиры и примочки, тем более что лично Шумахера Лесток и не пользовал. Герр Лесток был лейб-медиком и, следовательно, пользовал только государыню. Зато Шумахер воспользовался его покровительством – как лица, приближенного к императорской особе и своего соотечественника – в полной мере. Это и определило результаты следствия.
После сего положение русской партии стало и вовсе невыносимым. Русским, как говорят в таких случаях немцы, пришел полный швах. Зато супротивники, поникшие было после ареста Шумахера, разом воспряли и сплотились так, как это умеют делать, в отличие от русских, наверное, только они. Забыв прежние междоусобные распри, немцы выстроились в боевые порядки, как их предки-тевтоны выстраивались «свиньей», и поперли на русаков с новой силой.
Что оставалось делать русским? Токмо отступать да огрызаться, токмо огрызаться да отступать.
Среди тех, кто ярился против «дойче швайн», был и он, Михайла Ломоносов. В бессилии отступая, он метал в чужеземцев громы и молнии. А крючкотворцам немецким, сим новым рыцарям клеветы и навета, только это и надо. Выводя его, Ломоносова, из себя, они обвиняли его в оскорблении профессорского синклита и при этом составляли соответствующие протоколы. Когда число подметных – по сути – бумаг достигло требуемого количества, академики-немцы лишили его, русского адъюнкта, права присутствовать на заседаниях Академического собрания. Причем вплоть до решения Сенатской следственной комиссии, в которую они, приспешники Шумахера, подали встречную жалобу. Вот как все повернули тати!
И теперь после всего этого – после изгнания из Академического собрания, после двухмесячного неведения о своей дальнейшей судьбе, после полного безденежья и голодухи, отощавший, уязвленный, хвативший от тоски спиритуса вини, что понятно и без знания латыни, – он, адъюнкт Михайла Ломоносов, врывается на крыльях ярости в Академию и, перескакивая через две ступени не то от легкости телесной, не то от вольных аквавитных паров, несется наверх.
Ой, Михайлушка, не надо бы тебе туда! Ничего хорошего там тебя не ждет! Им, немчинам, ведь токмо того и надобно, чтобы вконец тебя окоротить, а потом и доконать! Одумайся!
Тут Михайла замешкался, будто услышал остерегающий голос матушки, да где там. Он ведь русский. А какой русский остановится на полпути, если уже кинулся в драку? Сейчас ему, Михайле, нет преграды. Разве токмо пуля остановит его или штык, наскрозь пронзающий сердце.
Стремительно одолевая мраморные пролеты, Ломоносов взлетает на второй этаж. В центре ротонда – просторный циркумполярный зал. За круглым столом сидят трое – профессор Вингсгейм, конференц-секретарь Академии, и два канцеляриста. Вингсгейм что-то диктует, тяжело ворочая массивной челюстью. Зубы редкие, клыки не помещаются во рту, языку тесно, не говорит – блеет. Мелко завитой парик дополняет впечатление: ни дать ни взять баран. А двое по бокам – овечки. Лупают преданными глазенками, ловя каждое блеяние верховода.
Взгляд Михайлы мимоходно пробегает по стопкам казенных бумаг. Где-то здесь лежит тот протокол, которым иноземная профессура запретила ему, русскому ученому, посещать заседания Российской Академии. Не та ли это, скрепленная красным сургучом бумага, что пестрит готическими подписями? До чего велико желание нанизать сей гроспапир на клинок, а потом подсунуть под нос герру Вингсгейму и предложить ему отправиться до ветру, то бишь ватер-клозета, а то еще дальше – до фатерлянда. Хорошо, что оставил шпагу дома, остерегаясь вспышки ярости! А то, чего доброго, не просто наломал бы дров – рубанул бы по столу, инкрустированному красным да эбеновым деревом, или раскроил двери, как это было поздней осенью у соседа Штурма.
Впрочем, те двери, что ведут в Географический департамент, крушить не надо– они отворены. Стало быть, путь свободен. Не снимая треуголки и не здороваясь с оцепеневшим конференц-секрета-рем, который жмется к столу, готовый, ежели что, и унырнуть под него, Ломоносов устремляется мимо. Однако, не доходя до Географического департамента, на ходу задирает полы кафтана и, живо согнувшись, выставляет перед Вингсгеймом соответствующую часть своего тела, что и по-русски, и по-немецки пояснения не требует. Однако кто может поручиться, что герр секретарь карашо понимайт сей жест? Чего доброго, понадобится переводчик – потянут Гришутку Козицкого. А тот юный, застенчивый, не сумеет доходчиво растолковать. Лучше уж самому выполнить роль толмача. И Ломоносов, не поворачивая головы, добавляет к своему жесту пару крепких русских выражений. Постной физиономии Вингсгейма Михайла не видит, но по гробовому молчанию догадывается, что тот ловит ртом воздух, щеря желтые клыки.
– Ужо я те их поправлю! – сулит Михайла и явственно слышит, как позади щелкает секретарева челюсть.
Что дале? Дале Географический департамент, в просторной аудитории которого сидят русские студенты. А кто это там возвышается на кафедре, надменно изрекая прописные истины? Ба! Да это же адъюнкт Трускот, серая мышь в напудренном французском волосе. У Трускота то же звание, что и у него, Ломоносова, но какой он к лешему адъюнкт, коли латыни не ведает!
Впрочем, сейчас Михайлу занимает не это. У него, природного русака, уж который месяц бескормица, едва концы с концами сводит, платье не на что справить, все рукава пообтерхались. А сей немчуренок, что ни день, меняет обновки: то щеголяет в аглицком жюстокоре[4]4
Широкий кафтан.
[Закрыть], то в италийских башмаках, то во французском камзоле… А нынче как вырядился! Нынче на Трускоте бархатный кафтан, батистовая веста[5]5
Жилет.
[Закрыть], парик a la pigeon[6]6
Как голубь (фр.)
[Закрыть], выписанный явно из Парижа. Откуда, спрашивается, у него деньги? Да всё оттуда – из академической казны. А казна та целиком в руках Шумахера. «Сапожник», как зовут его за глаза русские, придавая нарицательный смысл фамилии советника академической канцелярии, «кроит обутку» по двойной колодке: прежде – иноземцам, а что останется – русакам.
– Ах вы, плуты! Ах вы, пиявицы! Доколе же вы будете пить кровушку русского человека! Доколе же вы, захребетники, будете попирать нашу волю!
Голос Ломоносова гремит на всю Академию. Не голос – глас. Стекла от него дрожат. А вырываясь наружу, глас Громоносова, не иначе, вспучивает гладь Невы.
– Вот, – тычет Михайла в окно, – Нева свободна и вольна. А русло росской науки доселе запружено торосами.
Вывод один: льдины невские не растаяли, не ушли в унос, а выперлись на брег да обложили все здание Академии, обратив ее в ледяной дом, кой, говорят, строили при Анне Иоанновне. На дворе весна. На троне Петрова дщерь. А потепления в науке нет и поныне. Никак не тают тевтонски хладны глыбы!
Гневен Михайла. Жмутся от страха его противники, прихвостни и приспешники Шумахера. Зато влюбленно и радостно взирают на него соотечественники-штуденты. Несколько пар глаз – его однокашники по Славяно-греко-латинской академии. Это они дразнили его, дергая за полы, когда великовозрастным детиной явился он на учение. Тринадцать лет минуло с тех пор. Они уже не отроки – мужи, надежа и опора росской науки. Их бы нынче поддержать, ободрить. Они сторицей все отдадут, показав усердие и рачение на благо Отечества. А их обирают, впроголодь держат. Да то еще полбеды. Беда в другом – нету духовного и научного кормления. Чем может попотчевать этих студиозусов тот же Трускот, коли ему неведомы сочинения Геродота и Птоломея?.. А Вингсгейм? Званием профессор, а составил астрономический календарь и все созвездия переврал. Куда, спрашивается, глядел? В небо? Тогда о чем мыслил? Взирал на созвездие Тельца, а все помыслы были о золотом тельце? Не с того ли собственный выезд завел – пару гнедых в золоченой карете? Не с того ли бархатную шубу с золотыми кистями справил?
– Ужо вам, тати! – кидает напоследок Михайла и, сверкая очами, ровно молодой Петр, уносится прочь. Он еще вернется в Академию. Он еще им покажет, этим заморским плутням! Они еще узнают, что такое росский норов и неукротимость! Еще изведают его блистательный ум и поморскую упрямку!
10
Полукружье оконца забрано железами. Сквозь него на каменный пол падают отраженные солнечные пятна. Здесь до того жарко, что, кажется, плавится рассудок. Ускользает даже простейшая мысль. Невозможно, к примеру, понять, на что похожи эти зыбкие солнечные ляпаки.
Михайла, обнаженный по пояс, сидит на табурете спиной к столу, руки его раскинуты по столешнице. На нем короткие порты да башмаки на босу ногу. Он угрюмо глядит в оконце, из которого зримо пышет зноем. Два железных шкворня разделяют полукружье на три части, и кажется, то не жар, а три склизкие змеи ползут в каземат. Ползут, обвивают тугими кольцами все его существо, покрывая зловонной слизью тело. Ни в каком углу нет от этих тварей спасу – ни на койке, прикованной цепями к стене, ни на ворохе соломы, брошенной в угол. Нигде.
Глаза Михайлы застит испарина. Она до того обильна да солона, что все вокруг теряет очертания. Даже черные зубья оконца. Зрительная хмарь мешается с мороком рассудка, и вот уже блазнится, что это вовсе не оконце, забранное в железы, а воротца какой-то дальней заставы. Какая застава зыбится перед истомленным взором? A-а! Да это воротца за Даниловом-городком. Вот куда, рыская в поисках не то схорона, не то выхода, кидается память.
Было это в обозе, с коим он, Михайла, наладился в Москву. Три недели топали-ехали поморцы до Белокаменной. И всю-то дорогу его, сиротею, не отпускала смута. Тревожило грядущее, обдавая сердце то жаром, то студенцом: как-то оно там? Что его ждет? Но того более, кажется, бередило оставленное. Да как! Толь зримо и толь яро – никакого спасу не было. То сиверик охлестывал тугой удавкой, аж дыхало спирало. То поземка визжала и рвала овчинные полы, ровно бешеная сука. И до того он дооглядывался да доуворачивался, топая следом за дровнями, что где-то перед Вологдой ухнул под угор. Добро, дедко Пафнутий, на чьих дровнях порой мостился, заметил пропажу, а то бы не миновать беды. «Ты чека, паря, ворон считашь? – подсобляя вызняться из глыбкого сугроба, корил он. – Наладился вперед, дак кормилом-то не рыскай. Прямо гляди». Вот тут-то Михайла и поведал о своей кручине: хотя и далече обоз утянулся от отчины, а всё смутно, всё мерещится, что ведьма-мачеха догоном грозит. Дело-то, признаться, было не в мачехе. Сама прежняя жизнь стала в тягость, потому как не давала воли его пытливости и зреющему уму. Но Пафнутию-то он в том не открылся, смекнув, что старик может и не понять. А причину своей смуты обратил на мачеху. «Эвон как! – отеплев сердцем, отозвался Пафнутий. – Ну, ништо, паря! Мы ее отвадим, эту уросину. Вот Офанасий Ломонос придет – и отвадим ужо! Помяни мое слово». 18 января, как и заведено по стародавним памятям, ударил мороз, да такой ядреный, да такой хваткий, что на Даниловском подворье бревна за-потрескивали. «Пришел Афоня – нос береги ноне», – пыхали мужики-обозники, запрягая лошадей. «На Офанасия Ломоноса не задирай носа», – отзывалась дворня. А старый Пафнутий, дальний – по матушке-покоенке – матигорский сродник, выйдя на крыльцо, ударил рукавицей об рукавицу, крякнул и сквозь куделю бороды пыханул: «О! В самый раз! Вот такой мороз и нать, штоб нечисту силу батогами гнать». Когда рыбный обоз потянулся из Данилова, дедко Пафнутий, пропустив всехсопутников, выехал с подворья последним. Возле градской заставы он остановил своего Чалого и велел Михайле затворить ворота. А уж после приступил вершить то, что посулил. Долго дедко-ведун топтался возле наборных ворот, долго ширкал рукавицами подоскам да что-то бормотал-покрикивал, конца-края этому не было.
Уже и Чалый запоматывал недовольно головой, застоявшись на стуже, уже и Михайла обтоптал округ себя снег, дабы не околеть, пока наконец старик не подошел к концовке заговора. Напоследок он вытащил из потая тулупа темную скляночку, откупорив ее, отхлебнул и прыснул на ворота. Брызги пучком сыпанули в доски – как раз на стыке створов – и мигом заиндевели, образовав пятно, похожее на человеческий череп, даже проемы глазниц проступили темными пятнами. «Во, паря! – довольно заключил Пафнутий, – Теперя шабаш! Ежели полетит тая ведьма, неминуче лоб об энти ворота расквасит. Не сумлевайся». Под косматыми бровями мерцали раскаленные уголья. Михайла глядел в них с опаской и недоверием. А ведь все сделалось так, как и сулил ведун. С той поры Михайла и впрямь шел без оглядки, точно там, у заставы Данилова-городка, судьба таки перегрызла незримое кодолище, коим удерживало его опостылевшее прошлое.
Давнее воспоминание касается края сознания и разом откатывается, ровно волна зноя, оставляя во рту сухость. Михайла ломко ворочает шеей. Дышать нечем. Воздух раскален. Вдобавок ко всему из околенного проема несет гарью. Это уже едва не месяц чадит заневская болотина. О конец июня выгорела вся Мойка, ни одной постройки на ней не осталось. Поговаривают, поджог, да запальщиков так и не нашли. А пожарище и поселе тлеет.
Рука узника нащупывает оловянную кружку. В забытьи он хватает ее. Но тут же, не донеся воду до пересохших губ, с отвращением выплескивает. Кружка раскалена – вода в ней едва не кипит. К лешему! Кружка летит в сторону окна. Вода на миг отемняет солнечные пятна. Но ярый жар мигом слизывает остатки воды, и испарения вместе с пылью, поднятой кружкой, еще явственней проявляют змеиные кольца. Михайла устало смахивает с залысин испарину, тыльной стороной ладони протирает глаза. Кого напоминают эти три змеиные образины? Они тянутся к нему, шипят, норовя оковать его тело, удушить склизкими кольцами, впиться в его усталое сердце. А! Вот это кто! Посередке Шумахер. По бокам не то Вингсгейм и Тауберт, не то Трускот и Штурм. А посередке точно Шумахер. Нет, Пафнутий, таких заговором не одолеть! Тут иная сила потребна. У, аспиды! У, змеи подколодные! Рука Михайлы вздымается над головой. Где ты, меч-кладенец? Явись в карающей деснице, дабы укротить этих тварей! Взгляд тянется вверх. Увы! Нет меча. Рука безвольно падает на колени, закрывая заплату на кюлотах, а вместе с нею опадает и всколыхнувшееся было сердце. Нет, брат, ты не Илья Муромец, богатырь былинный. А перед тобой не Змей Горыныч о трех головах, пышущих полымем. Ты не Илья, ты Аника-воин с деревянной саблюшкой, вот ты кто. Да не с саблюшкой – с деревянной колотушкой, болванкой для парика.
Стыд и мука охватывают Михайлу. Он бросается на ворох соломы, силясь укрыться от внезапно нахлынувшего воспоминания. Да где там! Ты ведь не мышка, чтобы схорониться в соломе, а Мишка. Разве от себя спрячешься?
Не так досадно, что, хвативши малость из штофа, гнев свой выплеснул в Академии – поделом им, татям напудренным! А то стыдно, что гонял соседей. Конечно, повод для того был – пропал полушубок. Двери-то в казенной фатере хлипкие, вот кто-то и воспользовался. Но кто? Стал выспрашивать. К одному пихнулся – тот плечами пожимает. К другому – то же самое. Наконец сунулся к Штурму. Не ты ли, дескать, герр садовник, решил попользоваться моей одежонкой, почуяв ядреный русский зазимок? А у того гезауф – пирушка. Гогот стоит, немецкий гвалт, капустой кислой да сосисками пахнет, табак брезиль клубами. Весело, сыто и пьяно. Русский хозяин при таком раскладе заприглашал бы к столу, мол, не кручинься, соседушка, сыщется твоя пропажа, а покуда садись с нами, гостеньком будешь, вдругорядь сам взаимообразно угостишь, верно? А тут – нет. У немцев так не водится. И Штурм – не исключение. Что с того, что сосед? Что с того, что ведал, сколь давно русский адъюнкт в отличие от него, немецкого садовника, не получал в Академии жалованья. Криво ухмыльнулся, сделал оскорбленное лицо и показал на дверь, только что «фас!» не рявкнул, как немецкие бюргеры командуют своим овчаркам. Но эта свора и без науськиванья взъярилась. Вскочили со скамеек, зарычали на все голоса: вас истдас? русише швайн! херраус, херраус! шнель![7]7
Что такое? Русская свинья! Вон, вон! Живо!
[Закрыть] Не стерпело у него, Михайлы, ретивое: влепил по рылу одному, дал затрещину другому. Они стаей-то лаются, а поодинке враз хвосты поджали. А уж схватил он, Михайла, деревянную колотушку – болванку для парика, – и вовсе кинулись врассыпную. Кто в двери норовит выскользнуть, кто под стол хоронится… И смех, и грех. Нет, не так: сперва смех, а опосля – грех. Ладно бы мужиков гонял, немчуру эту толстопятую. Так ведь там и бабы сидели. А Штурмерша, хозяйка, к тому же на сносях была. До того ополоумела, дуреха, что в окно полезла. Слава богу, нижний этаж, а то бы не миновать беды. Да и так, знамодело, неладно. Ведь напугал. Как там отпрыск-то? Хоть и в срок разродилась, а все одно думно.
Сердце узника, истомленное зноем, стонет и изнывает. Но, кажется, того боле долит тоска. Никому-то он здесь не нужен, ровно на чужбине. Никто за него не вступится, некому слово замолвить. Те, кто горюют о его доле, природные русаки, – невелики чином. А академический синклит – сплошь немцы. Они, приспешники Шумахера, ныне сладостно потирают руки, загнав русского буяна в каземат. Из всех профессоров, пожалуй, один Георг Рихман благоволит ему, ссужая подчас деньгами. Да и тот делает это тайком.
Тоска сжимает сердце. Два месяца он, Ломоносов, мается на гауптвахте. Два месяца пишет прошения об освобождении да выдаче денег: «…ото время, в которое бы я, нижайший, других моим учением пользовать мог, тратится напрасно, и от меня никакой пользы отечеству не происходит…» А в ответ – ни звука. Проходят дни. Меняются караульщики. Но более не меняется ничего. Кусок житника, кружка воды. Иной раз оловянная миса полбы. И все. Голод донимает, жажда. Но того боле – бессилие и тоска.
Эк как славно потрудилась Следственная комиссия Сената! Вместо того, чтобы наказать казнокрада и лиходея Шумахера, упекли в кутузку ни в чем не повинного человека. Не иначе о том распорядился генерал Игнатьев, поклонник Военного и Морского устава. «Что с того, что наказанный – лицо статское. Почитать старших по званию и чину обязан всякий гражданин».
Ворочаясь на соломе, Михайла стонет и скрипит зубами. За что? За что и почему толь немилостива к нему судьба? Отчего она твердит ему один и тот же урок – один бесконечный урок: растирай и толки? Ключник Паисий всё вапу велел растирать. Берг-физик Генкель– ядовитую сулему. А Шумахер воду в ступе толочь заставляет. Ни заделья ему в Академии гожего, ни должности профессорской, о коей в рескрипте утверждалось, ни жалованья. Ни-че-го! Зато опять темница. Которая уже по счету! Чулан в скиту, темная в Заиконоспасском училище, карцер в Марбурге, тюрьма в Весселе, а теперь вот равелин…
В утрах в кордегардию тайком наведался Гришутка Козицкий, переводчик. Михайла обрадовался ему, но вести, что тот принес, не утешили. Ему, Михайле, грозит увольнение и порка плетьми. Порка ладно – это он стерпит. Не такое терпел. И совсем еще недавно, по осени. После бузы на фатере Штурма его скрутили, навалившись впятером – немчура, дворня, прислуга, потащили на съезжую, а там десятские да рогатные караульщики, да все с похмелья, стервенелые, и так почали дубасить арестанта, пуская юшку… Ну, да то ништо! Порку он стерпит. Стиснет зубы, но стерпит, ни звука не обронит. Но увольне-е-ение!.. Из Акаде-емии!!!







