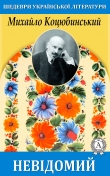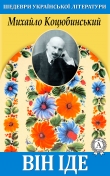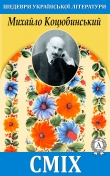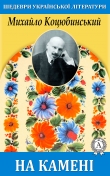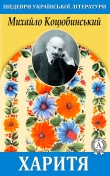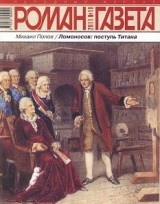
Текст книги "Ломоносов: поступь Титана"
Автор книги: Михаил Попов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 16 страниц)
18
Поздняя осень. Нева еще не встала. Балтийский ветер да морской прилив гоняют туда-сюда ледяное сало.
Карета Ломоносова, украшенная гербом-монограммой, не шибко видная на погляд, пересекает наплавной обледенелый мост и вкатывается на Васильевский остров. Кучер, одетый в просторный зипун с накинутым на голову башлыком, приворачивает к порталу Академии. Однако Михайла Васильевич, потянувшись через переднее оконце, торкает его в спину: дале, Сенька.
Экипаж катит вдоль Большой Невы, взбивая жидястую снежную пахту. Таскаться даже на колесах по экой грязи – последнее дело, да того требует долг, а еще пуще – собственная совесть.
Брызги из-под копыт рысачка секут по боковым оконцам, замутняя обзор. Михайла Васильевич трет стекло полою епанчи, да тщетно – видимости не прибавляется. Впрочем, в этих местах ему и без того все ведомо. Линии Васильевского острова вытянуты в струну, просматриваясь от начала до конца, то бишь до Малой Невки. Как Государь повелел, так они и застыли, ровно баталионы на плацу.
А вот и Вторая линия, особо ему памятная. Здесь в середине жилой шпалеры располагается Боновский дом – обиталище академических служащих. В нем 8 июня 1741 года он, вернувшись из Германии, получил в свое распоряжение две каморки. Здесь он жил, подчас не имея полушки на кусок хлеба, как это было в первые годы учебы на Москве. Здесь он маялся от тоски и беспросветности, в которые его загнали Шумахер и его приспешники, здесь, что греха таить, он ударялся в куликанье[10]10
Пьянство
[Закрыть]. Сюда, когда он был уже выпущен из каземата, но находился еще под домашним арестом, в октябре 1743 года приехала его Лиза…
За давними памятями карета миновала череду линий. А вот и Пятнадцатая…
– Стой! – велит Ломоносов вознице.
Крайний дом, стоящий торцом к набережной, – это академические Университет и Гимназия. Указом президента Академии Кирилы Григорьевича Разумовского эти заведения отданы на попечение академика Ломоносова. Свое заведование Михайла Васильевич посещает по регламенту. Но сегодня он решает навестить школяров и штудентов безо всякого оповещения.
Привратник у дверей – старый, еще Петра Алексеевича солдат – при виде могучего академика вытягивается во фрунт, да тут же, опомнившись, что не в строю, сгибается в поклоне.
– Здорово, Егорыч! – кивает Ломоносов, и встряхнув мокрую треуголку, передает ее старику.
– Здра жела, ваш бродие!
Этот из служивых – субординацию чтит. Раз коллежский советник, значит, считай, полковник, потому и обращение должно быть соответствующее: «ваше высокоблагородие». Лицо старика, с юности привычное к бритью, сияет. На нем форменная ливрея, украшенная галунами, и широкая, каких уже не носят, поярковая шляпа с потрепанным золотистым кантом.
– Небось бомбардирская? – Ломоносов показывает на нее глазами.
– Так точно, Михал Василич! Мортирная батарея…
Привратник помогает Ломоносову снять теплую епанчу – широкий серый плащ, подбитый мехом, но при этом предупреждает, что в дому не жарко.
– Ништо, – роняет Ломоносов, – я ить груманлан, к холоду обвычный, – и, взяв с гардеробного столика трость, направляется в канцелярию.
Инспектор гимназии Семен Котельников, его, Ломоносова, в недавнем ученик, при виде Михайлы Васильевича медленно поднимается, норовя не то сказать, не то спросить что-то. Он и рад появлению учителя, но и смущен: чем же вызван столь неурочный визит? Теряясь в догадках, Котельников поспешно выходит из-за стола. Михайла Васильевич настроен вполне благодушно. Здороваясь с инспектором, он улыбается и, стуча оковкой трости, направляется к голландке. Печка едва теплится.
– Эва, – качает головой Ломоносов.
– Дров не напасешься, Михайла Васильевич, – сетует смущенный Котельников. – Мигом выдувает.
Перед столом инспектора сидит, ужав голову в плечи, белобрысый худощавый отрок. На поджатых ногах его разношенные опорки, одежка бедная, заплатанная.
– Пошто не в классах? – кивает на него Ломоносов, прижавшись спиной к печке.
– Ступай, Минаев, – велит гимназисту инспектор и, когда тот ускальзывает за дверь, поясняет: – Болезный сей отрок. На руках цыпки, по телу коросты. Скорбут донимает.
Ломоносов хмурится – ему не надо объяснять причины тех хворей, сам все изведал.
– Зябнем, Михайла Васильевич, – вздыхает Котельников, сам не ахти какой здоровый на погляд человек, о таких говорят «кожа да кости». – Крыша что решето. В классах сыро. А у иных, особливо посадских, платья гожего нет. Что летом, то и по сю пору.
Котельников, загибая пальцы, начинает перечислять гимназические да университетские беды, а Михайла Васильевич, которому и без того сие ведомо, все больше мрачнеет. Вот уже скоро год, как Университет и Гимназия отданы в его единоличное правление, он здесь главный. А деньгами, как и в самой Академии, по-прежнему распоряжается канцелярия. Он, академик Ломоносов, создает артикулы, пишет регламенты и наставления, ведая на своем опыте, как надо образовывать будущих ученых. А денег на книги, учебники и пособия ему в должной мере не выдают. Он расписывает, как надлежит облачать гимназистов и штудентов, дабы выглядели опрятно и не зябли, – тут и «шуба баранья, покрытая крашеною льняною материею», и «8 пар башмаков», «6 рубашек по 30-ти копеек», и батист «на черные фроловые галстухи», – а денег даже на половину сего в канцелярии не допросишься. Его заботит здоровье будущих русских ученых. Он на себе испытал, что значит «один алтын в день жалованья»: учась в Спасских школах, покупал «на денежку хлеба и на денежку кваса», тем и жил изо дня в день, превозмогая голодуху. Потому и требует у канцелярии, дабы в Гимназии и в Университете было организовано достойное питание: «в мясные дни…три кушанья – щи, мясо и каша, а в ужин два из вышепоказанных…» Но канцелярия и тут всякий раз затягивает с оплатой. Вот сейчас, в предзимье, в самый раз закупать впрок соленья, мясо, капусту, дабы заложить все в погреба и ледники. Потом, на изломе зимы, это все подорожает, придется втридорога платить. Но канцелярия по-прежнему упорно мурыжит…
Нет денег на учебные пособия, на достойное пропитание, на форменное платье. Нет денег даже на дрова. Михайла Васильевич отступает от едва теплой печи и садится в кресло. Потому и топят, считая каждую чурку.
Котельников, смущенный суровым видом Ломоносова, на полуслове осекается, вспоминая вдруг, какой сегодня день.
– С тезоименитством, Михайла Васильевич! Простите меня, грешного, запамятовал! – Он искренен в своих чувствах и сокрушается об оплошности с горечью.
– Да полно, Семен Кириллович! – успокаивает ученика Ломоносов. – Скажи лучше о подопечных. Как успехи?
Котельников готовно кивает и принимается перечислять, кто из гимназистов чего достиг. Михайла Васильевич внимает вполуха, не теряя, впрочем, нити доклада, а сам меж тем размышляет о своем.
За минувший год и он добился кое-чего. В гимназии шестьдесят душ – здесь дети не токмо дворянской крови, но и духовного сана, из купечества и даже из посадских низов. «На военной службе числятся и дворяне, и недворяне, так нечего стыдиться этого и при обучении наукам», – заключил он в своем «Проекте регламента Академической гимназии» и сумел убедить в том Разумовского, ссылаясь на свой пример и намекая на его, Кирилы Григорьевича, пастушескую юность.
– Среди оных, кто показывает прилежание, и помянутый Минаев, – добавляет Котельников. Михайла Васильевич кивает. Сей бледный отрок – из посадской голытьбы. В семье – семеро по лавкам. Мало того, что не на что справить одежку – впроголодь перебиваются. А гимназист Минаев, дабы подкормить брателок да сестриц, утаивает казенный хлеб.
Михайла Васильевич хмурится – деньги, на все потребны деньги. А где их взять? Власть над Гимназией и Университетом по титлу у него, профессора Ломоносова. А на деле – в руках канцелярии, поскольку именно канцелярия распоряжается бюджетом и обязана оплачивать все нужды и потребности.
Прежде академической канцелярией много лет заправлял Шумахер, плут и интриган, по сути тайный враг росской науки. Как ждали Михайла Васильевич и его сподвижники, что уйдет рано или поздно сей немчин со своего поприща – чай, не ворон же он, какой триста лет теребит падаль. Наконец свершилось. Шумахер, ослабнув здоровьем, подал в отставку. Русские академические мужи возликовали: ну, теперь-то все изменится, пойдет на лад. Но не тут-то было. Рано радовались. На месте старого ворона осталась его тень – зятек и выученик Иоганн Тауберт. И все в Академии, в том числе канцелярия, сохранилось в руках немецкой партии.
– Намедни был в канцелярии, – не дослушав Котельникова, хмуро цедит Ломоносов. – Говорю, деньги-де нужны. Как без казенного кошта содержать Гимназию да Университет? А Тауберт, ведаешь, как ответил? – корить начал. Достойно ли, дескать, говорить о дровах да солонине, о сих пустяках, коли держава ведет военную кампанию? Когда-де армии потребно пороховое зелье да амуниция…
Тут Ломоносов вытягивает дудочкой губы, косит к переносице глаза, отчего Котельников прыскает– много ли надо, чтобы представить облик Тауберта, а Михайла Васильевич еще и голосом того рисует:
– «Егта наша топлесна армия, не щатя шивота своеко, пролифает кроф на полях Марсофых…»
Маска тут же исчезает с лица, и Ломоносов предстает в обычном виде:
– Ах ты, думаю, чума ты немецкая! Чью кровь ты в уме держишь, немчин хренов – русскую или прусскую? Однако вслух не говорю – помалкиваю. Научился уже язык держать. Оне, суки, научили. Их же там цельна свора. Что скажешь – враз перелают и доложат. И останусь я в дураках, хоть и без колпака. Оне – патриоты, а меня врагом Отечества выставят.
Михайла Васильевич со стоном мотает головой:
– Ах, Иогашка, тать ползучий! Все переведал от Шумахера, все похмычки и выверты перенял! – И тут же без перехода поворачивает на то, что болит уже не по одну годину: – Будь она неладна, сия война! Конца-краю ей нету! Сколь крови выпила из народа! А проку?!
Тут Ломоносов тяжело подымается и велит вести в классы. Котельников поспешно отворяет двери. Они идут по сумрачному коридору, минуя рекреации, и входят в аудиторию. Гимназисты при виде Ломоносова вскакивают с мест, приветствуя великого мужа. И учитель – это тоже недавний выпускник Университета Глебов, ныне адъюнкт, также вытягивается в струнку. Михайла Васильевич кивает, жестом велит продолжать урок, а сам с Котельниковым идет на задний ряд, где пустуют две долгие скамьи.
На гвозде возле аспидной доски висит карта Европы. Идет урок истории. Да не далекой – римской али греческой – досюльной. Тема – прусская кампания, та самая война, что так затянулась.
На доске набросана схема театра военных действий. В середине Прусские области, где мечется окруженный король Фридрих II. Вокруг армии союзных держав: Австрии, Испании, России, Саксонии, Швеции и Франции.
Учитель ходит от карты к схеме, как солдат на плацу, потирая руки. В классе зябко. Нахохлившиеся гимназисты ежатся и передергивают худенькими плечами.
– Таково Марсово поле на минувший тысяча семьсот пятьдесят девятый год, – поводит рукой учитель и грифелем вытягивает жирную стрелку. – Сие армия генерал-фельдмаршала Петра Семеновича Салтыкова, полководца нашего. Тут корпус графа Чернышева Захария Григорьевича. Здесь корпус графа Фермора Виллима Виллимовича. Сей славный муж аглицкого роду-племени, а начал служить еще при государе Петре Алексеевиче.
Учитель делает паузу и против стрелы чертит квадрат:
– Супротив росских сил стоит принц Гейнрих, брат прусского короля, с нарочитым корпусом. Вот здесь. – Учитель тычет в квадрат, и грифель от давления крошится.
Учитель долго объясняет перемещение союзных армий, марши войск прусского короля, называет имена полководцев и наконец подводит свой рассказ к победе русских войск при Куннерсдорфе. И тут, обратив свои глаза в сторону Михайлы Васильевича, он наизусть читает строки из его последней оды.
Богини нашей важность слова
К бессмертной славе совершить
Стремится Сердце Салтыкова,
Дабы коварну мочь сломить.
Ни Польские леса глубоки,
Ни горы Шлонские высоки
В защиту не стоят врагам;
Напрасно путь нам возбраняют:
Российски стопы досягают
Чрез трупы к Франкфуртским стенам.
Гордый росской славой, учитель отдает честь отважным орлам Отечества, а одновременно – дань уважения державному Пииту, автору одических строк. Однако Михайлу Васильевича это почему-то не радует. Он хмурится, отводит глаза, но лицо выдает его, и, дабы не сорваться во гневе да не навредить авторитету учителя, он встает и, кивнув вставшим во фрунт гимназистам, выходит наружу.
– Что-то не так, Михайла Васильевич? – озабоченно осведомляется инспектор, когда они возвращаются в канцелярию.
Ломоносов пожимает плечами.
– Да будто так, – отвечает он медленно, – а будто не так. – Кресло под ним скрипит. – Ода-то моя год назад писана. Я чаял, после Куннерсдорфской виктории конец настанет кампании. Аль забыли?
– Никак нет, Михайла Васильевич! – пылко возражает Котельников и, как по писаному, начинает читать концовку оды:
С верьхов цветущего Парнаса
Смотря на рвение сердец,
Мы ждем желаемого гласа:
«Еще победа, и конец,
Конец губительным брани».
– Во, – маленько просветлев лицом, отзывается Ломоносов. – «Конец губительныя брани». А где же он, конец сей?!
Котельников на это молча кивает – что тут скажешь? А потом, кажется, неожиданно даже для самого себя тихо роняет, что у Минаева, отрока давешнего, брат под Берлином пал.
Ломоносов поднимает голову, невидяще щурит на него глаза, трет лоб, сдвигая при этом парик, и медленно, раздумчиво, не то припоминая, не то заклиная кого-то, читает:
Воззри на плач осиротевших,
Воззри на слезы престаревших.
Воззри на кровь рабов Твоих…
Это последняя строфа той же оды. Но заключительные строки ее Ломоносов читает, потупив глаза в пол, явно нехотя и скороговоркой:
К Тебе, любовь и радость света,
В сей день зовет Елисавета:
«Низвергни брань с концев земных».
Котельников глядит на учителя выжидающе: отчего у Михайлы Васильевича такая перемена? Однако спросить не смеет. Ломоносов сам отвечает на его немой вопрос:
– Не может матушка укротить супостата. Не дают ей. – И, подняв тяжелую голову, глядя прямо в глаза ученика, жестко добавляет: – И не дадут.
– Кто? – затаенно выдыхает Котельников.
– Кто? – переспрашивает раздумчиво Ломоносов, словно что-то взвешивая. – А вот послушай-ка. – Он извлекает из-за обшлага кафтана какие-то бумаги. – Письмо оттуль… Третьего дня получил…
Ломоносов разворачивает листы. Бумага рыхлая, незнакомая, явно чужой выделки. Он перебирает листы и где-то на втором развороте находит глазами нужные строки.
– Аха, вот! – и начинает читать: – «У нас, в течение сего лета… прославился бывший совсем до того неизвестным немчин, генерал-майор граф Тотлебен, командовавший тогда всеми легкими войсками и приобретший в короткое время от них и от всей армии себе любовь всеобщую. Все были о храбрости, расторопности и счастии его так удостоверены, что надеялись на него, как на ангела, сосланного с небес для хранения и защищения армии нашей. Как сему немчину случилось не только бывать, но и долгое время до того живать в Берлине, и ему как положение города сего, так и все обстоятельства в нем были коротко известны, то поручено было ему в сей экспедиции передовое из трех тысяч человек состоящее войско, с которым он и отправлен был вперед».
Ломоносов поводит глазами и перескакивает абзац.
– «Тотлебен… – он пробегает еще несколько строк, – явился пред воротами Берлина и в тот же час отправил в оный трубача с требованием сдачи оного. Сей превеликий столичный королевский город, не имеющий вокруг себя ни каменных стен, ни земляных валов и всего меньше сего посещения ожидавший, имел в себе только 1200 человек гарнизонного войска… Комендантом в оном был… генерал Рохов… Случившийся тогда в Берлине– старик фельдмаршал Левальд, раненый генерал Зейдлиц и генерал Кноплох присоветовали ему обороняться… Тотлебен, получив отказ, велел тотчас сделать две батареи и стрелять по городу. Стрельба сия продолжилась с двух часов пополудни по шестой час… В вечеру же, в 9 часов, началась опять жестокая стрельба и бомбардирование… Все сие продолжилось за полночь; после чего и во все 4-е число стояли спокойно, а между тем, сего числа подоспел к Берлину на помощь прусский генерал принц Евгений Виртенбергский с 5000-ми бывшего в Померании войска и, оправившись, атаковал тотчас маленький Тотлебенов корпус и принудил его отойтить несколько далее до Копеника».
Михайла Васильевич на миг отрывает глаза от листа: Котельников стоит не шелохнувшись.
– «Тут является… граф Чернышев со своим достальным корпусом и соединяется с Тотлебеном. Оба… пошли вперед, а пруссаки, увидев сие, начали подаваться назад. Между тем подоспел… другой прусский корпус, состоящий из 28 батальонов и находившийся под командою генерала Гильзена, и пруссаки в городе сделались так сильны, что могли оборонить ворота городские. И если б подержались они хотя несколько суток, то спасся бы Берлин, ибо король сам летел уже к нему на вспоможение… Но, по счастию нашему, прусские начальники поиспужались приближающейся к тамошним пределам… нашей армии и генерала Панина, идущего с нарочитым корпусом… – и опасаясь подвергнуть его от бомбардирования разорению… заблагорассудили со всем войском своим ретироваться в крепость Шпандау…»
Ломоносов снова отрывает взгляд и поднимает палец: далее самое важное.
– «Город, по отшествии прусских войск, выслал тотчас депутатов и сдался немедленно Тотлебену, который поступил в сем случае далеко не так, как бы ожидать надлежало. – Здесь Ломоносов снова поднимает палец. – …Нашед в нем многих старинных друзей своих и вспомнив, как они с ними тут весело и хорошо живали, заключил с городом не только весьма выгодную для него капитуляцию, но поступил с ним слишком милостиво и снисходительно. В особливости же поспешествовал непомерной благосклонности к сему городу некто из берлинских купцов, по имени Гоцковский… Тотлебен требовал с города четыре миллиона талеров контрибуции и при всех представлениях был сначала неумолим. Он ссылался на полученное им от графа Фермораточное повеление – выбрать неотменно сию сумму и не новыми негодными, а старыми и хорошими деньгами. Все берлинские жители пришли от того в отчаяние, но наконец удалось купцу сему… требуемую сумму уменьшить до полутора миллиона, да сверх того, чтоб дано было войскам в подарок 200 тысяч талеров, также добиться и того, чтоб и вся оная… сумма принята была вместо старых новыми маловесными и тогда ходившими обманными деньгами».
Ломоносов поднимает глаза. Ему не надо спрашивать у Котельникова: «Каково?» У того яростно ходят желваки.
– «От Фермора дано было повеление, чтоб все королевские фабрики сперва разграбить, а потом разорить, и между прочим были… упомянуты так называемый Лагергаус, с которой становилось сукно на всю прусскую армию, также золотая и серебряная мануфактура… Гоцковский узнает о том в полночь, бежит без памяти к Тотлебену…»
– Измена! – задушенно шепчет Котельников. Ломоносов бросает на него короткий взгляд, но не останавливается.
– «Сим образом зависело от одного Тотлебена тогда причинить королю прусскому неописанный и ничем не наградимый убыток. Берлин находился тогда в самом цветущем состоянии… был величайшим мануфактурным городом во всей Германии, средоточием всех военных снарядов и потребностей и питателем всех прусских войск. Тут находилось в заготовлении множество всяких повозок, мундиров, оружия и всяких военных орудий и припасов… было множество богатейших купцов и жидов, и первые можно б было все разорить и уничтожить, а последние могли б заплатить огромные суммы, если б Тотлебен не так был к ним и ко всем берлинцам снисходителен».
– Измена! Измена! – твердит Котельников, а Ломоносов, читая письмо с позиций, словно добавляет запального зелья.
– «Тотлебен принужден был принимать на себя разные личины и играть различные роли. Публично делал он страшные угрозы и произносил клятвы и злословия, а тайно изъявлял благосклонное расположение, которое и подтверждалось делом».
Ломоносов опять отрывается от текста:
– Дале о Берлинском цейхгаузе… Там хранились мортиры, фузеи, свинец, амуниция. Приказано было взорвать сей цейхгауз. Отправили пятьдесят душ солдат российских в пороховую башню за зарядом. А башня та в сей миг взорвалась и все солдаты пропали.
– И тут измена, – обессиленно выдыхает Котельников. – Округ измена.
– «Далее повещено было всему городу, чтоб все жители… сносили все свое огнестрельное оружие на дворцовую площадь. Сие произвело всему городу изумление и новое опасение, но Гоцковский произвел то, что и сей приказ был отменен и для одного только имени принесено на площадь несколько сот старых и негодных ружей и по переломании казаками брошены в реку… Другое повеление Фермора относилось до взятия особливой контрибуции с берлинских жидов, и чтоб богатейших из них, Ефраима и Ицига, взять в аманаты[11]11
Заложники
[Закрыть], но Гоцковский умел сделать, что и сие повеление было не исполнено».
– Дале опущу, – решает Ломоносов. – Тут о саксонцах. О том, как эти «лучшие и порядочнейшие солдаты» – так о них в Европе судят – грабили увеселительный дворец прусского короля. Меня досадило даже не то, что грабили, а то, что всё переломали. Антику, статуи греческие времен Еврипидовых разбили. Вот что сотворили сии «порядочнейшие».
Ломоносов делает паузу, потом вновь обращается к письму:
– «Жители шарлоттенбургские думали было откупиться, заплатив контрибуцию 15 тысяч талеров, но они в том обманулись. Все их дома были выпорожнены, все, чего не можно было унесть с собою, переколоно, перебито и перепорчено, мужчины избиты и изранены саблями, женщины и девки изнасильничаны, и некоторые из мужчин до того были избиты и изранены, что испустили дух при глазах своих мучителей».
Котельников опускается в кресло.
– Немцы бьют немцев, – озадаченно роняет он.
Ломоносов переворачивает листы и подводит чтение к концу.
– «Вся сия… берлинская экспедиция далеко не произвела тех польз и выгод, каких от ней ожидали, но сделалась почти тщетною и пустою. Если б по занятии войсками нашими Берлина все союзные армии и самая наша двинулись внутрь Бранденбургии и в оной и даже в окрестностях Берлина расположились на зимние квартиры, то король был бы окружен со всех сторон и доведен до крайности, и войне б через то положен был конец; но…»
Ломоносов опускает еще один абзац и завершает чтение:
– «Таким образом окончилась в сей год кампания… не принесшая ни союзникам дальних выгод, ни изнурившая короля прусского. Он остался при тех же границах, в каких был с начала весны, и все труды, убытки и люди потеряны были по-пустому…»
Они сидят молча, ученик и учитель. За окном смеркается. В ноябре день короток, что воробьиный скок. Год 1760-й подходит к концу.
– По-пустому, – повторяет Ломоносов, пряча листы, и поднимается. Он тянется к трости, что прислонена к креслу, но на полдороге останавливается. Рука уныривает в потай кафтана и извлекает кошель, окрученный кожаной завязкой. Опояска развязана – на ладонь ссыпаются серебряные монеты. Из горстки серебра Михайла Васильевич выбирает двухрублевик. Профиль императрицы обращен вправо, то есть на восход. Но лицо ее затенено, блестят только выпуклые щеки да висок. Что-то символическое угадывается в этом барельефе, но Михайле Васильевичу думать о том уже неохота.
– Вот, Семен Кириллович. – Он кладет серебро на стол инспектора, монета ложится державным орлом. – Справишь Минаеву какую-нито кирейку[12]12
Лисий тулупчик, крытый сукном
[Закрыть]. – И, берясь за трость, добавляет: – Зима на носу.
Путь на выход лежит через рекреацию. По стенам прогулочной залы череда парсун – парадных изображений именитых ученых. Среди прочих – Леонард Эйлер. Михайла Васильевич бросает на парсуну заботный взгляд. До него дошло, что при бомбардировке Берлина усадьба Эйлера пострадала. Коварник Шумахер в свои поры развел его с этим досточтимым мужем. Но благодарность Эйлеру, бескорыстному покровителю, оттого не померкла. И, узнав о беде, он, Ломоносов, немедля обратился к канцлеру Воронцову, дабы русская казна по мере сил восполнила нанесенный Эйлеру ущерб.
Котельников провожает Ломоносова до гардероба. Привратник, заслышав стукоток окованной трости, уже торопится навстречу. Облачив Михайлу Васильевича в епанчу, он норовит застегнуть и пуговицы, но Ломоносов отстраняет его:
– Сам, Егорыч…
Привратник топчется возле, не зная, чем бы угодить могучему академику и такому доступному, приветливому человеку. А тот вдруг обращается к нему с вопросом:
– А скажи-ка, братец, когда ты служил при Петре Алексеевиче и вы брали фортецию, как держались в городе? Сильничали?..
– Как можно, Михал Василич! – хлопает глазами старый бомбардир. – Николи!
– А что бывает солдату, коли он позарится?..
– Лишен будет живота, – рапортует старый вояка. Устав, писанный государем, он помнит и чтит.
– Спасибо, братец! – кивает Ломоносов, прикладывая руку к сердцу. Для него такой ответ лучше всякого подарка в день небесного воителя, Архангела Михаила. – Спасибо!