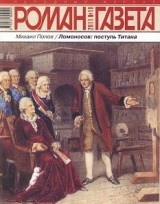
Текст книги "Ломоносов: поступь Титана"
Автор книги: Михаил Попов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 16 страниц)
– Гениально! – с придыханием шепчет Тауберт. – Попадание в самое «яблочко»!
– Вот-вот! – довольно осклабившись, кивает Шумахер, на лбу его выступает испарина. – Статья такая вышла в журнале по естествознанию и медицине, где сотрудничал супротивник Ломоносова. Имени своего он, понятно дело, раскрыть не пожелал: статья, ты сам видел, вышла без подписи. Да оно и к лучшему, иначе всплыли бы личные мотивы…
– …И тогда результат от критики был бы уже не тот, – подхватывает Тауберт.
– Вот именно, – цедит Шумахер. – Статья та получилась не ахти какая. Да для читателя-болвана что важно? Скандал. А скандал-то вот он! Какому бюргеру или мещанину не приятно чувствовать, что он выше всех в Старом Свете?..
– …И полагать, что он не чета восточным дикарям, – подхватывает Тауберт.
– Потом, – кивает Шумахер, – такая же поносная статья появилась в другом журнале, как бишь?..
– Гамбургский «Магазин», – подсказывает Тауберт.
– Во-во! – усмехается Шумахер. – Что с того, что аргументов там кот наплакал, а по сути – и совсем нет, зато хлестко и беспощадно. – Он с силой ставит пустой покал на столик. – Только так надо отстаивать европейские ценности!
Тауберт кивает – слов у него нет. Кивает и кивает, точно дрессированная лошадка.
– Ну, и третье издание… Помнишь? – Шумахер не ждет подтверждения, – «Гамбургские штатские и ученые ведомости…». Там тоже не поскупились на эпитеты, хотя по существу-то тоже сказать было нечего…
Шумахер супится. Это не угрызение. То давняя досада, которой никак не находится удовлетворения. Обращался к светилам, к тому же Эйлеру, дабы он разнес сочинения этого русского мужика, а тот в ответ таких панегириков напел, что пришлось прятать его послание. Черт дернул показать отзыв Эйлера Гришке Теплову. Тот, прохвост, дал его самому Ломоносову, правда, после одумался, да было уж поздно – Ломоносов сделал копию с того письма и потом прикрывался оным как щитом.
По лицу Шумахера пробегает тень раздражения, это не ускользает от внимания Тауберта, он спешно подливает тестю вина. При виде наполненного по-кала Шумахер оживляется, в рысьих глазах его опять занимается огонек.
– Издания с поносными статьями достигли Петербурга через год и даже полтора. Я попридержал их пересылку. Зато обрушились залфом… Помнишь?
– Как не помнить? – почти мечтательно тянет Тауберт. – Заряд картечи поверг Медведя навзничь, не иначе. Едва опамятовал…
Попивая мозельское, Шумахер и Тауберт с удовольствием вспоминают, как метался по Академии разъяренный Ломоносов. Когда он зачитывал Академическому собранию «сии пашквили», был красный, как вареный рак, и глаза навыкате… То-то была потеха! Академики шушукались. Кто-то сочувствовал, кое-кто скептически улыбался, а иные не скрывали удовольствия. Правда, протест Ломоносова – его «Рассуждения об обязанностях журналистов…» одобрили единогласно. Но что с того? Где бы он опубликовал свои заметки? В Германии? С какой стати? «Свобода философии», о коей печется Ломоносов в своих «Рассуждениях», в каждой стране понимается по-своему, тем более в центре Европы, в Германии. Даже профессор Эйлер, хоть и написал сочувственное письмо Ломоносову, тоже не мог ничего поделать. Правда, он передал те «Рассуждения» профессору Формею и тот обещал их напечатать, но где? – в журнальце на французском языке, к тому же выходящем крохотным тиражом. Короче, гнев Медведя, по сути, пропал впустую. Даже в Петербурге его «Рассуждениям» не нашлось места. Миллер, редактор академического журнала «Новые комментарии», статью к печати не принял, заявив, что шумиха в немецких журналах касается одного Ломоносова.
– Браво, Грос Нос! – поминая сей эпизод, всхохатывает Шумахер и поводит покалом в сторону клетки индюка. – Хоть здесь ты оказался на достойном тебя насесте!
Вино ласкает нутро, недавние воспоминания – самолюбие. Он, Шумахер, тогда дожидался только скандала. А в результате одним метким выстрелом поразил сразу две мишени: взбесил Ломоносова и порушил его дружбу с Эйлером. Причем получилось это почти само собой, без всяких на то дополнительных усилий, точно по маслу. Растерянный Ломоносов передал частное письмо Эйлера, где тот выражал ему сочувствие и поддержку, в петербургский журнал «Литературный хамелеон». Оно было напечатано. Но в письме том, к вящему сокрушению автора, оказалось имя профессора Ляйпцигского университета Авраама Готтгельфа Кестнера, которого господин Эйлер официально рекомендовал на вакансию в Петербургскую академию, а в эпистоле поминал как одного из ярых журнальных насмешников. С тех пор переписка Ломоносова с Эйлером, длившаяся десяток лет, поневоле оборвалась.
– Вы гениус, мой фатер! – почти не лукавя, восклицает Тауберт.
Шумахер снисходительно усмехается.
– Твои бы слова да Разумовскому-младшему в уши. – Однако довольства не скрывает, подводя итог: – Европе спокойнее, если русский Медведь будет дрыхнуть в берлоге.
– И не только зимой, – подхватывает верный Тауберт, так же как тесть оттопыривая мизинец.
С покалами в руках Шумахер и Тауберт направляются в конец птичника.
– А вот это цесарки, – подводя зятя к последней клетке, показывает Шумахер.
Особого интереса Тауберт к этим птицам не проявляет.
– Оно так, – соглашается хозяин. – Пока не видные, молодые еще. Но цесарки ведь. Анхальт-Цербстские. – Он делает упор на последнем. – Дай срок, распустят хвосты, а на головках хохолки зазолотятся.
Далеко смотрит старый лис – все видит. «Молодой двор» уже перышки чистит. Екатерина Алексеевна вызрела, приходит ее пора. И елагинские стрелы – это пробы.
– А что же наседка? – стараясь попасть в тон, осведомляется Тауберт. – Наследница Великого Петушка?
Шумахер оценивает насмешку зятя вполне снисходительно.
– Так ведь остарела. Яичек не кладет. – И уже тише добавляет: – Падучей, говорят, страдает. Как и батюшка. Да и то: к его годам близится. Едва ли минует…
Какой вкрадчивый голос! Сколь в нем знания и тайны! Ведает куда больше, чем говорит, но и то, что изволит поведать, доселе не слыхано. Да и не мудрено! Ведь тестенька пережил нескольких государей, начиная с Петра Великого, и нескольких государынь, начиная с Екатерины. А уж смертей приближенных к трону – и не перечесть. Одно колесование Виллима Монса чего стоит! – того самого Монса, который ему, Шумахеру, на первых порах составил протекцию. Виллим Монс был в фаворе, да еще в каком! Ему покровительствовала сама государыня, коронованная уже Екатериной Первой. И покровительствовала, как вскоре оказалось, не только за красивые глаза и кудрявую амурную головку. То-то исказилось лицо императрицы, когда она увидела околевший труп Виллима на эшафоте! Это случилось 7 декабря 1724 года – в один из дней, когда шла свадебная церемония цесаревны Анны, выходившей замуж за голштинского принца Карла. Так все и пересеклось в ее взоре: счастливые глаза дочери, стеклянные очи полюбовника и налитое кровью око державного мужа.
Тауберт ловит каждое слово, каждый жест и поворот головы, каждую складку на лице Шумахера, все потаенные тени и проблески. Его давно занимает один вопрос, но и сейчас ни жестом, ни намеком он не выдаст снедающего его любопытства. Тезка супруги императора Петра Первого французская королева Екатерина Медичи, говорят, кого-то отравила, смочив ядом книжные страницы. Листал человек ту книгу, слюнил палец, а яд медленно проникал в его чрево. Шумахер в младые лета был личным библиотекарем императора. Как раз на исходе его жизни…
Один промельк, смятенная тень на лице, но проницательный тесть улавливает это. Он вовсе не пьян, Иоганн Даниил Шумахер. Он абсолютно трезв, каковым бывает всегда. На то он и немец, чтобы не терять головы и во всем и везде наводить надлежащий порядок.
– Твой черед настает, Йехан, – по-эльзасски мягко заключает он и кладет руку на плечо зятя. – Тебе бразды правления в Академии перенимать.
Тауберт внимает ему, потупив взор. Хорошо склонить голову в такой момент: и вроде почтение проявляешь, даже сокрушение по поводу грусти в словах фатера, а одновременно радость можно скрыть, кою ни за что не утаить в глазах, тем более под проницательным и насквозь видящим взором Шумахера.
15
Перья для письма Михайла Васильевич смекает сам. Земляки-поморцы завозят по первопутку дичь, вот он и отбирает для этой надобы пару самых матерых гуменников. Левые крылья отдаются стряпухе – они годятся на печное опахало, перья из них хороши для плошки с рокшей, дабы умасливать пироги да шаньги. А правые, которые, по его давней примете, крепче да машистее, он забирает себе.
Природная упругость для писчего инструмента – первое дело. Но одного этого все-таки недостаточно. Важно правильно очинить стило. Для такой операции у него имеется садовый ножичек о два леза, из Германии еще привезенный. Сперва, чикнув по комельку, надо отворить полость. Да чикнуть не абы как, а под правильным углом, под коим лучатся древесные ветви. Затем края перьевой трубки обрезать полуциркулем. Шпору, возникшую сзади, – удалить. Писчую трость расщепить наполы, а само копьецо, положив на ноготь, ровно подрезать. Вот оно и готово, гусиное писало – пособник лёта живой духоподъемной мысли.
Заточив перо, Михайла Васильевич кладет его на чернильный прибор. Взгляд со стола устремляется к темному окну. Небо в звездном мареве. Над крышей особняка пыхают сполохи – светлый привет с родной полуночной стороны.
В новой ломоносовской усадьбе – тишина. Двухэтажный просторный дом, словно сморенный гамом да хлопотами человек, отдыхает от недавней, закончившейся в конце лета стройки. Изба дворни тоже безмолвна. Тихо в конюшне, на скотьем дворе. Только слышно, как на заледенелом прудке все еще гомонят сорванцы из дворовой челяди, да здесь, в обсерватории, что-то бормочет себе под нос старый папагал, мешая русский с французским. Но чу! До слуха Ломоносова доносится приглушенный свежей порошей перестук подков.
– Кого там черти?.. – бурчит Михайла Васильевич и, оторвавшись от эскиза, выглядывает в окно.
Взгляд его мимоходом скользит по мерцающей глади прудка, по шалунам-огольцам, коих не берет первая декабрьская стужа, минует арку, увитую сохлыми плетьми хмеля, и устремляется к карете, которая останавливается против внутреннего парадного крыльца, освещенного карбидным фонарем. Ломоносов щурится. Карета богатая – вон форейтор, на запятках гайдуки с факелами, в отблесках пламени на дверцах экипажа сияют золотые гербы.
– Иван Иваныч, што ли? – озадаченно бормочет Ломоносов. – Али нет?..
– Хиван Хиваныч! – разбойным покриком вторит папагал. Какаду, доставленный с нарочным из Ферне, до того замучил всех домашних – ни днем, ни ночью покоя нет, – что Лизавета Андреевна упросила супруга забрать его в обсерваторский флигель.
– Кыш, Франька! – шикает Михайла Васильевич, а взглядом тянется к эскизу. Ежели Шувалов, то ладно– перемолвиться с Шуваловым нелишне… Шувалов – это куда ни шло… А с другой стороны – и он некстати, до того заждалась запущенная работа. Едва не полгода он, профессор Российской Академии, вынужден был ходить в подмастерьях у Вольтера, составляя для него, по указу императрицы, исторические записки. Для кого-то сие представляло бы великую честь – помогать знаменитому Фернейскому патриарху, но токмо не для него, Ломоносова. И дело даже не в том, что у него самого замыслов прорва. Причина в другом – почему российскую историю поручили писать иноземцу? По первости эта досада столь мешала сосредоточиться – до отвращения доходило. Но потом заключил, что дело не в авторстве – славой-тоонитакне обижен, главное – польза для Отечества и, зажав в горсти ретивое – как уже не однажды бывало, принялся за работу. Да как! Он столь тщательно и подробно стал составлять те записки, что удивил даже самого Вольтера. Фернейский затворник, человек заносчивый и язвительный, выразил в письме российской императрице великую благодарность. А «мэтру Ломонософф» в знак признательности послал заморскую птицу, да не абы какую, а с явным намеком: дескать, я, Вольтер, повторял ваши записки, «досточтимый мэтр», как сей какаду, то есть слово в слово. «Ну, и добро», – простодушно оценил этот дар он, Ломоносов, принимая от посольского скорохода клетку с папагалом, и, хитровато прищурившись, нарек дареного говоруна одним из имен Вольтера: как аукнется – так и откликнется. Тем паче что схож оказался.
Все еще не ведая, кто там пожаловал, Михайла Васильевич вглядывается в окно. На лице его озабоченность и досада: чаял поработать, соскучился по своим задельям. А выходит, опять по его душу… С чем? Все еще от Вольтера?.. Али какое иное поручение? Ежели Иван Иванович – тут подвоха не будет. А вот ежели от Разумовских – тогда ухо надо держать востро. Ведь Вольтера с российской историей повязали именно они, подтолкнув в пристяжку и его, Ломоносова. Точнее так – затею эту каверзную выдумали Теплов с Шумахером, они же подсунули ее Кириле Разумовскому, гот предложил ее старшему брату, а уж Алексей-фаворит напел про нее своим вкрадчивым хохлацким баритоном в уши государыни.
Гайдуки поднимают факелы, освещая путь вельможной особе, и процессия от крыльца направляется в глубь усадьбы.
– Хиван Хиваныч! – снова кричит папагал. – Кого там чер-р-рти?.. Хиван Хиваныч!..
– Иван Иваныч, – уже распознав Шувалова, спокойно подтверждает Ломоносов, однако от окна не отворачивается. Путь Шувалова, знамо дело, лежит через арку – она хошь и не триумфальная, а его высокопревосходительству миновать ее никак нельзя, иначе фортуны не будет. Он ведь суеверный, Шувалов. Дворовые огольцы при виде факельного шествия упорхивают, ровно воробыши. Кортеж огибает пруд и достигает флигелька обсерватории.
– Пора встречать, – вздыхает Михайла Васильевич. А попутно кидает взгляд на какаду, который шебаршит, разевая клюв, и, от греха подальше, накрывает Вольтерово подношение черным непроницаемым платом.
И вот уже Шувалов вторгается в уединенные чертоги Ломоносова. У них давно заведено без церемоний: едва раскланяются, сразу – к разговору, да обо всем сразу, да с пятого на десятое. Ему-то, Ломоносову, любезнее обстоятельность. Да гость молод, ему всего тридцать, еще не остепенился, не заматерел, характер порой – ровно порох. Но не глуп. Конечно, блеск ума не сравнить с золотом шитья на камергерском кафтане, однако в сметливости ему не откажешь, схватывает все налету.
Скорехонько огибая обсерваторские столы – то к окуляру мелкоскопа прильнет, то в колбы заглянет, – Шувалов между тем обсказывает дворцовые новости. Все, разумеется, вертится вокруг государыни. Матушка сказалась хворой, даже датского посланника не приняла, а потом и «дражайшего голубчика Ванечку» отпустила восвояси. Ему бы – по главной першпективе да к себе, в свой дворец, что недавно выстроен на углу Малой Садовой да Невского, а вместо этого он – в круговую да сюда, на Мойку, к любезному другу Михайле Васильевичу. Страсть как охота полюбопытствовать в ночезрительную трубу, увидеть в окуляры Марсия, а особливо Луну.
Михайла Васильевич поначалу следует за гостем, показывая новые диковинки и коротко объясняя их суть и назначение, но вскоре, сославшись на лом в ногах, возвращается к столу. Взяв в руки грифель, он снова касается наброска Петрова лика, кой замыслил воплотить в мозаике. Однако взгляд его то и дело устремляется к знатному гостю, который донимает расспросами, и в конце концов Ломоносов оставляет свои попытки. Глядя на профиль Шувалова, он ловит себя на мысли, что сей молодец походит на молодого Петра – усов котофеистых, правда, нет, атак сходство вполне угадывается. Не потому ли и потянулась к нему царская дочь, что углядела черты батюшки? К Алексею Разумовскому – за папенькиным ростом да бархатным голосом, а к Шувалову – за ликом. Так сие или нет, но для него, Ломоносова, этот союз – союз Елизаветы Петровны и Ивана Ивановича – оказался более чем удачен. Шувалов напрямую связал его с двором и тем паче с государыней. С тех пор куда как быстрее доходят до верхов его, Ломоносова, прожекты и рацеи. Один Московский университет, открытый два года назад, чего стоит. Не будь Шувалова, когда бы еще удалось воплотить свой давний замысел. Слава и почет, знамо дело, достались Ивану Ивановичу, хоть в фундаменте Храма науки – его, Ломоносова, мысли и чаяния. Он же, Иван Иваныч, указом государыни был назначен куратором нового учебного заведения. Да дело не в славе, главное – великая польза Отечеству, ведь экое диво удалось сотворить. А Усть-Рудица? В стекольно-мусийной мануфактуре тоже не обошлось без Шувалова. Да и сей новый дом, возведенный за один год, явился не иначе как милостью того же Ивана Ивановича. Чего уж тут лукавить?!
Шумахер язвит, что Ломоносов-де окрутил молодого фаворита, точно Шувалов – красна девица. Чего же сам-то не окрутил? Али не вышло? То-то! На что уж тогда, десять-двенадцать лет назад, Шувалов был совсем отрок, а ведь узрел, что скрывается за вкрадчивой личиной советника канцелярии – сердцем своим чистым да прозорливым распознал. А к нему, Ломоносову, потянулся. Понятно, не сразу. Государыне к сердцу пригожего да сметливого юноши дорожку проторил всесильный Амур. А ему, Ломоносову, самому пришлось добиваться расположения Шувалова. И это было вовсе не просто, даром что от природы тот оказался любознательным. Любознательных пруд пруди, да многим ли хватает терпения, дабы следовать по тернистой стезе познания. Сперва увлек покусами да кудесами, затем – мусией да стеклом, а когда построил фабрику, научил господина камергера варить стекло и даже целую поэму о стекле сочинил, посвятив ее Шувалову. Так, образовывая и просвещая открывшийся для знаний ум, он, профессор Ломоносов, и добился своего, направив сердце и помыслы Ивана Ивановича на благо Отечества.
Шувалов – это дар судьбы, награда ему, Ломоносову, за долгие годы лишений и борений. Не будь Шувалова, его первейшего покровителя, совсем туго бы ему пришлось в противостоянии с Шумахером и его камарильей. Тут ни убавишь, ни прибавишь. Однако есть у этой драгоценной медали и оборотная сторона. Помогая ему, Шувалов, сам, возможно, не задумываясь над этим, создает и затруднения. Президент Академии – младший Разумовский, а старший Разумовский, как и Шувалов, – фаворит Елизаветы. Разве тут не возникнет противоборства, пусть подчас невидимого, тайного? И разве может не отразиться сие противостояние на его, ломоносовской судьбе, на его деяниях и прожектах?
Следя за снованиями Ивана Ивановича подле телескопа, Ломоносов ловит себя на почти отеческом чувстве, тем более что разница в возрасте тому соответствует. Ему вовсе не столь легко и радостно живется, камергеру Шувалову, как кажется со стороны. У него нежное, пламенное сердце. Оно без остатка объяло бы своим животворным огнем сердце любимой женщины. Но не все в его воле – приходится делить это сердце с соперником. Кто ведает, о чем он сейчас думает, младший по возрасту фаворит, глядя в телескоп на лик Венеры? Быть может, государыня, отославшая его восвояси, сейчас принимает в царской опочивальне своего старого друга и ровесника Алексея Разумовского…
Обследовав научные чертоги, все оглядев и потрогав в очередной раз, Шувалов переходит к просторному ломоносовскому столу, что расположен у окна. Подле на маленькой приставочке уже стоит кофейник, доставленный ключницей, и молочник. Сердце у Шувалова еще молодое, да токмо кофий без молочной разбавки да на ночь глядючи ни к чему. Так заключает многоопытный Михайла Васильевич, поглядывая на Шувалова, ровно отец – на сына: ему много надо здоровья, Ивану Шувалову, дабы достойно исполнять свои непростые обязанности.
Михайла Васильевич на правах хозяина подвигает ближе к гостю вазочку с постными заедками – знак того, что наступил Филипповский пост. Шувалов благодарно кивает, но к заедкам не притрагивается – потчевался у государыни. Разговор у них идет о том о сем. И тут между прочим Иван Иванович сказывает то, что повергает Ломоносова в уныние.
– Матушка государыня изволит напомнить, чтобы ты, Михайла Василич, был бы непременно на новогоднем машкераде и готовился рядить в фанты.
– В фанты? – пучит глаза Ломоносов, он в недоумении.
– Али забыл? – отхлебывая кофиек, жмурит глаза Иван Иванович. – Должок-то? Матушка не забыла.
Михайла Васильевич, вытянувшись дородным лицом, выжидательно молчит. Шувалов поводит округлым подбородком:
– Опосля «Гимна бороде» помнишь што было?..
«Гимн бороде» Ломоносов написал в позапрошлом, 1756 году. Этот стих вызвал с одной стороны негодование среди духовенства, а с другой – необычайный отзыв в обществе. Списки ходили по всем городам и весям, чиновные гонцы из Петербурга докладывали, что встречали их аж в Сибири. Спрашивается, почему? Чем был вызван столь необычный отклик? Да тем, что стихотворение попало в точку, точно пуля из фузеи.
В эти поры в Церкви обострились две крайности: одна часть духовенства отрицала напрочь все нововведения, доставшиеся в наследство от Петра Великого, в том числе экспериментальную академическую науку; другая, наоборот, внешне соблюдая церковные обряды и каноны, ханжески облачалась – в прямом и переносном смыслах – в мирское. Вот это и нашло отражение в «Гимне бороде».
Прототипов этих крайностей в жизни было немало, но ближе других к Ломоносову находились две персоны. Олицетворением одной послужил Димитрий Сеченов, епископ Новгородский и Великолукский. А олицетворением другой – Гидеон Криновский, священник дворцовой императорской церкви. Первый, в миру Даниил, был соучеником Ломоносова по Славяно-греко-латинской академии и еще тогда, в юности, отличался неукротимой запальчивостью: что не по нему – сразу в драку. С годами эта черта явно усилилась, а порой – о чем разносились слухи – доходила до фанатизма. Став епископом в Нижегородской губернии, Сеченов столь ретиво принялся крестить чувашских да мордовских язычников, что лупил их кадилом, ровно кистенем. А другой, Гидеон Криновский, оказавшись близ державного трона и обласканный императрицей, столь напитался мирским духом, что и на священника стал не похож: духами благоухает, пудрится, перстнями посверкивает, мирское платье под рясой носит. Короче, не духовное лицо, а франт, кои фланируют по Невской першпективе. И при этом ханжески клевещет на тех, кто порицает сие.
Крайности, как ведомо, сходятся. Меж концами согнутого в дугу железа при грозе искры пыхают. Так случилось и здесь. И Криновский, и Сеченов, закуся бороды, кинулись в Священный Синод. Синод углядел в «Гимне бороде» «непозволительную дерзость» и выступил с «всеподданнейшим докладом». Рассмотрев доклад, государыня безоговорочно приняла сторону Синода. Почему? Во-первых, потому, что она набожная и не смеет лишний раз перечить святым отцам, тем паче что Гидеон Криновский, придворный священник, с заутрени до вечери у нее на глазах и всем своим видом, не токмо словом, наставлял ее на сей шаг. А во-вторых, потому, что отцы Церкви, ведая ее, Елизаветы Петровны, нежную дочернюю память, не преминули помянуть в том докладе и родителя – да как! – дескать, Государь император повелевал, согласно Военному артикулу, «пашквилей сочинителей наказывать, а пашквильные письма через палача под виселицею жечь».
Призвав пред свои державные очи виновника смуты, то есть его, Ломоносова, государыня обрушила на него весь свой гнев. Криновский при сем не присутствовал. Был только Шувалов. Но, судя по речам государыни, тень Гидеона так и колыхалась у нее за плечами. Ведь державные уста произносили именно то, чем придворный священник хулил «натуралистов, афеистов, фармазонов», имея в виду ученых и грозя им анафемой. Иван Иванович всячески умасливал государыню, сводя все к тому, что стих тот досадный – всего лишь шутка, шутка и ничего боле. И мягонько так подводил к тому, чтобы матушка сменила гнев на милость. А он, автор «Гимна бороде», все больше супился да молчал, не зная, что говорить: лукавить не обучен, а на рожон лезть кому охота. Но в конце концов все-таки не выдержал. Досадно стало. Досадно не от запальчивости Петровой дщери, не от слов ее укорных, явно заемных. Досадно стало оттого, что государыня не видит явных противоречий. Великий родитель ее всячески насаждал просвещение и науку, радея о славе державы. В его поры и Церковь ратовала за го же. Феофан Прокопович, соратник Петра Великого, в 1721 году обнародовал «Духовный регламент», в коем возвестил, что обучение наукам не токмо допустимо, но и желаемо. А теперь что же – все вспять обратилось?
Напомнив государыне заветы великого отца, он, виновник смуты, неожиданно сбил ее с толку и незаметно из обвиняемого обратился, по сути, в обвинителя. Особа чувствительная и пылкая, Елизавета Петровна далеко не во всем следовала логике и под напором иных аргументов подчас терялась. Так произошло и теперь. А уж он, профессор Ломоносов, своего не упустил, дабы преподать урок державной особе. Ведь в своих одах он тоже не столько восхвалял ее, сколько наставлял.
Что он сказал тогда? Многое. Но главным было то, что, придав мысли блеск, он перевел потом на бумагу: «Создатель дал роду человеческому две книги. В одной показал Свое величество, в другой – Свою волю. Первая – видимый сей мир. Им созданный, чтобы человек, смотря на огромность, красоту и стройность Его здания, признал Божественное могущество по мере себе дарованного понятия. Вторая книга – Священное писание. В ней показано Создателево благоволение к нашему спасению».
«Богу – Богово, а кесарю – кесарево», – твердо и строго произнес он, не отводя взора. А дальнейшее перевел на то, что впоследствии заключил в формулу: «Не здраво рассудителен математик, ежели он хочет Божескую волю вымерять циркулем. Таков же и Богословия учитель, если он думает, что по Псалтире научиться можно астрономии или химии». Однако, разделив ипостаси единого мира, он не развел их в разные стороны, а тут же и соединил, назвав правду и веру, то есть знания, науку, просвещение, с одной стороны, и Православие – с другой, двумя сестрами.
Государыня от его вдохновенной речи, – а он сам чуял, как его несла порывистая стихия, – пришла в трепет. Она не могла вымолвить слова, столь была очарована и околдована силой и мощью образов. А Иван Иванович, весь сияющий, глядел то на него, то – с некоторой тревогой – на государыню.
Мало-помалу Елизавета Петровна отошла. На лице ее опять занялся румянец. Но то ли оттого, что она была смущена своим длительным замешательством, то ли потому, что за плечами колыхалась недовольная тень, только государыня никак не могла найти верного тона и потому холодноватый блеск в ее очах никак не гаснул: «Шутник ты, Михайла Василич, – покачала она головой, – большой шутник. – И неожиданно, как она умела это делать, обратилась к Шувалову: – А не пошутить ли и нам? А, Иван Иваныч? Не нарядить ли господина Ломоносова… мужиком? На машкераде? Что скажешь, любезный?.. Мужик с дежей сбитня… А?..» «Негоже, матушка, – защищал старшего друга Шувалов, – профессора, коллежского советника – и мужиком!» «Негоже, говоришь? – помешкала императрица. – Пожалуй. Тогда пусть пошутит в фанты. Ужо будет машкерад – вот пусть и рядит. Да хорошенько шутит. – И, уже возводя державные очи на него, Ломоносова, добавила, слегка усмехаясь: – Смекаешь, Михайла Василич?..»
Машкерад тот ожидаемый минул. Его не тронули. Проболел целых два месяца – не потянешь же с постели. На сей раз лом в ногах сослужил службу. Потом начался Великий пост – не до машкерадов стало. Потом пришла весна – императрица засобиралась в Первопрестольную… По осени, вернувшись в Санкт-Петербург, она заболела… потом начался лом у него… Короче, минул год, истаял другой. Казалось, все уже быльем поросло, замялось и забылось. И вот надо же такому случиться – спустя два года аукнулось. Али кто из недоброхотов надоумил? Тот же Криновский, например… А может, и сам любезный друг Иван Иванович. Он тихий-тихий, а все может статься… Тем более что есть причина. Ивашка Елагин – было дело – сочинил на Шувалова пашквильный стишок. Шувалов разобиделся, кинулся к нему, Ломоносову, ровно младший брат – к старшему, дескать, дай сдачи. А он уклонился от этого, не пожелав, как и прежде, влезать в придворные и околодворцовые козни и дрязги. Нет, злопамятности в Шувалове не водится. Зачем напраслину возводить? Обидеться может, как тогда, – месяца два не наведывался и не писал. Да где ему выдержать больше, при его-то любознательном и пытливом уме. Сам явился, соскучившись по телескопам да пробиркам. Нет, злопамятства в Шувалове не водится, это очевидно. Однако напомнить таким способом о том досадном для него случае Иван Иванович мог, сие угадывается в его озорном прищуре.
– Ну что же, – кивает Михайла Васильевич, не выдавая ни жестом, ни взглядом своих чувств. – Коли матушка велит, будет исполнено. – И уже тише, склонив голову и набычив крутой лоб, тихо добавляет: – Будут вам фанты. Ужо натешитесь…







