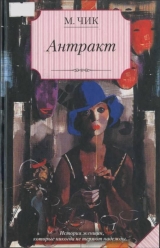
Текст книги "Антракт"
Автор книги: Мейвис Чик
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 16 страниц)
Мейвис Чик
Антракт
Моей дочери Белле
Особая благодарность за дружбу, поддержку и время, подаренное мне моими подругами, без которых…
Часть первая
Глава 1
Думаю, все началось три года назад, когда от меня ушел Джек. В этом было что-то театральное. Я как раз вешала гирлянду на елку – слишком рано, но это было первое Рождество после нашей свадьбы, а елки на рынке продавались очень зеленые и свежие, – когда он позвонил из Дарема.
Мне кажется, я все поняла, едва он сказал, что останется там еще на какое-то время, но все же заставила себя выговорить что-то вроде «Ну, конечно! Ничего страшного!» и намеренно не спросила о причине. В его поведении не было ничего необычного, ведь он снимал фильмы для телевидения, а такая работа не подчиняется жесткому графику. И я продолжала разговор, наматывая на палец мишуру и любуясь в окно на свежий снег на дороге. Спросила о погоде в Дареме и не мерзнут ли они в соборе (где проходили съемки). Джек сообщил, что там холодно, но в целом эта поездка – удивительный духовный опыт.
Должно быть, это был чертовски удивительный духовный опыт, потому что – тон его не допускал возражений – он влюбился. В соборе, в окружении великолепия романской эпохи, под уносящееся ввысь хоровое пение, при слабом свете звезд, мерцающих за огромным витражным окном, он – в состоянии духовного подъема – оглянулся и увидел… Не меня, а помощницу редактора, бледную, с большой грудью и веселыми ирландскими глазами с поволокой, с интересом устремленными на своего привлекательного успешного начальника.
Она выиграла. К тому моменту, когда муж позвонил мне, ирландка одержала полную победу – битва была окончена. Я не могу вспомнить, ни в какой момент изменился тон разговора, ни как Джек внезапно произнес, что теперь вообще не вернется домой. Память почти не сохранила собственных слов, кроме странных и неуместных: «О Господи, а я уже купила елку, какая досада…»
Единственное воспоминание: когда он повесил трубку, я почувствовала сильную боль, которая несколько сгладила мои душевные муки. Я так сильно намотала мишуру на палец, что порезалась. Красные капли на белом ковре. Чтобы праздник был полным, не хватало только ветвей остролиста или лавра.
Бедное деревце, и бедная я. К тому моменту, когда я пришла в себя, все иголки стали коричневыми и высохли так, что осыпались от одного прикосновения. Ель едва держалась, накренившись в подставке, – лишенная корней, безжизненная, чем-то похожая на меня.
Я встречалась с Джеком в ее квартире. С собой принесла букет из двенадцати красных гвоздик, на вложенной карточке было написано «Я по-прежнему тебя люблю». Мне не хотелось захлопывать все двери, если он захочет вернуться. Душевную рану, как порез на пальце, я заклеила пластырем и знала, что со временем она затянется. У них всего лишь легкомысленная интрижка, такое не может продлиться долго. Муж поступил глупо. И я была бы готова его простить… А пока собиралась быть сдержанной. Опасности, что я поведу себя как-то иначе, практически не существовало – я была абсолютно спокойна. Мертва, я уже говорила об этом, словно высохшее дерево. Я припарковала мой «моррис-майнор» – да, именно его, я из тех, кто предпочитает этот автомобиль, – на соседней с ее домом улице и направилась к ним, чувствуя себя вполне сносно, насколько это вообще возможно для безжизненного тела. Небольшая прогулка на морозном воздухе наверняка улучшила цвет моего лица – приятное событие, способное компенсировать то, что мне так и не удалось хорошенько обдумать свой наряд. Что обычно надевают для первой встречи с мужем-изменником? Отделы одежды в магазинах пестрят табличками «для спорта», «шик после восьми вечера», «для коктейлей» – но, насколько мне известно, не существует нарядов «для брошенных жен»…
Повинуясь интуиции, я надела джинсы и джемпер. Вот я какая, Джек! Взгляни. Смотри, я не изменилась с тех пор, как ты ушел.
Позже я жалела о том, что не повязала джи-стринг [1]1
Джи-стринг – лента, спускающаяся с талии; единственная одежда, остающаяся на исполнительнице стриптиза в конце представления.
[Закрыть]и не надела сапоги до бедра. Джек, оказавшийся, к моему удивлению, банальным любителем женских прелестей, не вынес бы этого. Но по крайней мере я выступила бы с блеском. И пронизывающий холод того дня добавил бы румянца не одной паре щек. Но нет – Джоан Баттрем, урожденная Эллис, могла о таком только мечтать. Итак, в джинсах и джемпере я целеустремленно шагала вперед, навстречу своей судьбе.
Естественно, она жила в районе Ноттинг-Хилл – густонаселенном и многонациональном; каждое парадное здесь украшает сотня табличек с именами жильцов, практически ни на одном окне нет тюля, а комнаты заставлены горшками с цветами и увешаны эзотерическими постерами. И я когда-то жила здесь, и Джек, только он – в лучшей части этого района. Именно такой жизни мы сторонились после того, как поженились и меньше года назад купили дом в районе Чизвик, где молочники каждое утро свистом объявляют о своем появлении. Вот где настоящая стабильность. А в Ноттинг-Хилле молоко продается в картонных пакетах и жители не знают имен друг друга. Я пробиралась по снеговой каше к подъезду этой замечательной дамы, и район казался мне абсолютно незнакомым, чужим. Я была так далека от одинокой жизни в съемной квартире. За девять месяцев брака я привыкла к стабильности, как утка к воде: полюбила наших соседей – Джеральдину и Фреда; мне нравилось строить планы обустройства дома и даже заниматься садоводством. Ноттинг-Хилл больше не подходил мне. Но когда Джек открыл дверь, я поняла, что его этот район по-прежнему устраивает. Он выглядел превосходно. Сияющий, он казался лет на десять моложе: ему сорок, но можно было дать тридцать. А я в свои тридцать чувствовала себя на девяносто. Или на девятьсот девяносто… после того как он проводил меня внутрь и я увидела, что она тоже там. Когда мы договаривались о встрече, я, как человек воспитанный, не стала говорить, что хотела бы видеть его одного. Предположила, что иначе быть не могло. Но ошиблась. Я протянула ему цветы, и – сюрреалистический или, скорее, театральный момент – он передал их этой самой Лиззи, решив, что они предназначаются ей. Та прочитала карточку, деликатно кашлянула и вернула букет ему. Джек взглянул на текст, потом на меня – в его глазах читалась жалость. Я проиграла.
Они снова и снова демонстрировали полноту моего поражения: сидели, прильнув друг к другу, на диване, накрытом мешковиной, она в основном молчала и иногда кивала, один или два раза заметив с приятным ирландским акцентом, что очень, очень сожалеет. Не сомневаюсь, она не лукавила. Я вела себя очень сдержанно, воспринимала происходящее молча и с пониманием во взгляде, а через некоторое время перестала вслушиваться и принялась рассматривать их, пока оба с убеждением мне что-то втолковывали. Красивая получилась пара. Джек – высокий, длинноногий, с мощными плечами и узкими бедрами (все стандартные определения); коротко подстриженные темные волосы с проседью, лицо галантного кавалера, сбежавшего из приторного американского сериала. Вот только он вовсе не был им… Она же оказалась типичной ирландской красоткой с копной темных вьющихся волос, большими карими глазами и бархатистой кожей, слегка присыпанной веснушками. Хрупкая, но с округлыми формами, Лиззи была абсолютно реальна – счастливая обладательница груди, воинственно выпирающей из-под мягкого шерстяного джемпера. Мои груди по сравнению с ее напоминали пару вишневых косточек. Мне очень хотелось, чтобы она вышла на некоторое время, вместо того чтобы сидеть так близко к нему. Но маленькая баньши [2]2
Привидение-плакальщица в шотландском и ирландском фольклоре; опекает какую-либо семью и предвещает душераздирающими воплями смерть кого-либо из ее членов.
[Закрыть]была достаточно умна, чтобы не оставлять нас наедине. Я посмотрела в глаза Джеку, стараясь установить с ним контакт, но он не хотел этого, моргал и отводил взгляд, внезапно проявив интерес к огромным растениям, которыми была заставлена комната. Я начала вслушиваться в его слова – в конце концов, именно за этим я и пришла. Он говорил только о практических вопросах, обращаясь в основном к сырному дереву и разноцветному плющу. Я уже готова была наклониться – нас разделяло совсем немного, – толкнуть его и сообщить, что я здесь. Но, черт побери, какая разница, обращался он ко мне или к листве: смысл слов все равно был бы одинаков. Джек был влюблен в свою Лиззи, Джек больше не любил свою Джоан. В этом не было моей вины, просто химический процесс, – и он хотел, чтобы я страдала как можно меньше. «Как животное, которое вот-вот поведут на бойню», – хотела сказать я, но вовремя сдержалась, потому что это было бы заявление на грани истерики. Ирландка – спокойная, как монашка, – все это время разглядывала свои руки. А я старалась сосредоточиться и слушать.
Дом, естественно, останется мне. И, если я не возражаю – возражаю? – не могла бы я собрать личные вещи Джека (как после кончины?), принадлежащую ему технику и все, что я посчитаю необходимым отдать ему, упаковать и отправить по адресу, который он мне сообщит.
– Значит, не сюда? – проявила я чудеса сообразительности.
Напряженное изучение листьев жасмина, а затем:
– Э-э, нет, мы переезжаем в Фулем. Я продал лодку. – Он с некоторым раздражением пожал плечами. – Это всего лишь небольшой домик. Но другого мы не можем себе позволить. Понимаешь, я не хотел, чтобы ты страдала. – (Опять это слово.) – Закладная за дом в Чизвике будет выплачиваться. Мой адвокат проследит за этим…
Его адвокат?
Значит, все, конец? Я посмотрела на гвоздики, брошенные на подлокотник дивана и забытые там. Что Сильвия Плат писала о красных цветах? Тюльпанах, а не гвоздиках – но таких же ярких? Внезапно я осознала смысл этих строк, хотя предпочла бы пребывать в отвлеченном неведении.
Во-первых, тюльпаны слишком красные, они делают мне больно…
Они такие яркие, что похожи на мою рану…
Их яркость обращается к моей ране, она похожа на нее…
Они приковывают мое внимание
Когда-то счастливое и свободное, не привязанное ни к чему…
Какая боль сконцентрирована в этих строках!
Я поднялась, с трудом расправляя тело, застывшее от напряжения и неудобного положения на низком стуле – о глупости хозяйки можно было судить по ее мебели. Ладони покрылись потом, я чувствовала тошноту и головокружение. Эти двое тоже встали, и мне казалось, что они очень далеко от меня. Голос с ирландским акцентом произнес: «Ты в порядке?» Что за вопрос! Я вспомнила, как репортер программы новостей брал интервью у женщины, мужа которой разорвало на куски при взрыве бомбы. «И как вы себя сейчас чувствуете?» – поинтересовался он. Честь и хвала, если бы она ответила: «О, великолепно! Я собираюсь выпить чашечку чаю и рвануть в „Палас“ посмотреть народные танцы».
– Отлично, со мной все хорошо, – заявила я, когда снова увидела их и комнату в обычном ракурсе. – Просто здесь немного жарко…
– Да, – согласилась Лиззи, – я поддерживаю высокую температуру из-за растений.
– Я вижу, им это нравится, – заметила я и… Нет, будь я проклята, если ей удастся вовлечь меня в разговор.
Так или иначе, мне удалось выбраться оттуда. Когда я стояла на пороге и Джек вложил мне в руку листок, мое сердце заколотилось. Но в его записке не было ни просьбы о свидании, ни комментариев, предназначенных мне одной, – всего лишь адрес, где они будут жить, и дата переезда. Разве там могло быть что-то другое?
– Все в порядке? – осторожно спросил он.
Отлично, великолепно! Я собираюсь выпить чашечку чаю и рвануть в «Палас»…
Легкий морозец привел меня в чувство. Около получаса я брела пешком, размышляя: элементарная, старая, как мир, история. Он влюбился в серые глаза, с обожанием смотрящие на него, – глаза той, кто на пятнадцать лет моложе его. Все просто. Он, дурачок, ошибся лишь в одном – обставил все слишком театрально. Ему всегда нравились трагедии, он хотел снимать фильмы о спектаклях и актерах: «миры в мирах» – так он их назвал, когда делал передачу о труппе Королевского шекспировского театра. А теперь Джек поставил и сыграл свою собственную маленькую пьесу. Ему нужно было бы сохранить эту связь в тайне. Не говорить мне, позволить ситуации развиться естественным путем, и когда страсть любовников погибла бы в раздражении раннего утра и спорах о том, кто первый пойдет в ванную, он потерял бы не все. Работа могла бы стать великолепным прикрытием для внебрачной связи – он с легкостью мог общаться с нами обеими одновременно. Но нет, для мистера Джека «зовите меня Шлезингер» [3]3
Джон Шлезингер – знаменитый режиссер, снявший фильм «Полуночный ковбой».
[Закрыть]Баттрема такой вариант был бы слишком банальным.
И, естественно, к тому моменту, когда из-за некоторых ужасно раздражающих привычек обоих часть «Тристан и Изольда» в отношениях пылких любовников подошла к концу – а это произошло меньше чем через полгода, – мне было уже наплевать и на него, и на всех остальных. Я жила в полном согласии с самой собой – холодная, как мрамор – и, вполне довольная таким состоянием, собиралась пребывать в нем всегда. Тот репортер из программы новостей со своим интервью сослужил мне хорошую службу.
Подозрения – я делала все возможное, чтобы ничего не замечать, – полностью подтвердились примерно через неделю после моего визита в их увитое растительностью любовное гнездышко. Я взяла у врача пузырек, помочилась в него и пару дней спустя знала результат. Я ждала ребенка.
Я не считала нужным рассказывать об этом никому, кроме моего врача, – необходимая консультация, потому что оставлять ребенка я не собиралась. Меня записали в клинику на среду, а в следующую пятницу я вышла оттуда уже без лишнего груза. Все было похоже на конвейер, и мне так и не пришлось воспользоваться чудесной историей, которую я придумала, чтобы скоротать время. Я представляла себе заботливую медсестру в накрахмаленном белом халате: она низко склоняется над моей подушкой и с сочувствием прохладной рукой прикасается к моему лбу, а я рассказываю ей, что мой муж погиб, умер загадочной смертью в африканской саванне и у меня нет возможности растить ребенка одной. В реальности же мне пришлось иметь дело с измученной и неопрятной медсестрой. Она выглядела так, будто ее напоили лимонным соком, и с удовольствием отправила бы всех бесстыдниц в тюрьму, если бы смогла. Маленькая палата была заполнена чувством вины, раскаяния и вульгарными остротами. Единственное яркое воспоминание – девушка-шотландка по имени Энни, проститутка, сделавшая свой третий аборт. Как-то, оторвавшись от журналов с кроссвордами, она заметила, что, по ее мнению, аборты безопаснее пилюль.
– Чем ты зарабатываешь на жизнь? – спросила она меня.
– Ничем, – был мой ответ.
– Ничем, – повторила она. – И я тоже – чаще всего. В наше время большинство клиентов хотят поговорить о своих матерях. – Она говорила и просматривала журнал, потом внезапно остановилась, перелистнула страницу назад и сказала: – Не обижайся, но, думаю, тебе лучше сделать вот такую стрижку.
И бросила журнал мне на кровать. На фотографии была модель с высокими скулами, раздувшая ноздри, злобно уставившись в объектив. У нее была стрижка, как у официанток-китаянок, – черный шлем с ровно обрезанными краями.
– Попробуй, – сказала Энни. – Тебе пойдет, честно.
– Но у меня светлые волосы, – заметила я скептически.
– Не важно. Длинные и волнистые, как у тебя, сейчас не в моде. И ты всегда сможешь отрастить их снова…
– Может быть, – сказала я уклончиво, но уже знала, что сделаю это. «И плевать я хотела, Джек, – подумала я, – что давным-давно по ночам ты любил накручивать эти локоны на пальцы и притягивать меня к себе».
Ким, моя парикмахерша, сначала упиралась. Она пропускала пряди, которые я так долго отращивала, сквозь пальцы и рассматривала мое отражение в зеркале.
– Нет и нет, – заключила она. – Тебе это не пойдет. Сейчас ты выглядишь идеально.
Я встретилась с ней взглядом в зеркале.
– В каждом совершенстве должен быть изъян, Ким, – сказала я ей, – иначе каждый из нас был бы Богом.
Естественно, она решила, что я слегка повредилась рассудком, – что ж, возможно, так оно и было, – но спорить перестала и взялась за ножницы. Когда все было кончено, она неохотно признала, что в итоге вышло не так уж плохо. Энни, бросив мне журнал, не ошиблась. Стрижка смотрелась очень неплохо. Просто я перестала быть похожей на себя. Из зеркала на меня смотрела незнакомка. Новая прическа для новой жизни, так ведь? Вряд ли… Скорее это стало отпущением грехов прошлой жизни, чтобы я могла войти в новую, так похожую на небытие. Это было нечто, поднявшее меня над собственной трагедией, и тогда во всех событиях, происшедших после Рождества, появилась некая театральность. Я шла по жизни, чувствуя себя героиней пьесы с ролью для одной женщины, а заодно – единственным зрителем. Проблема была в том, что сценарий писал кто-то другой – та женщина в зеркале.
Глава 2
Мне совсем не хотелось, чтобы кто-то узнал о том, что произошло с другой женщиной – той, с длинными волнистыми локонами. Не из чувства стыда или сожаления. Просто она перестала существовать. Разводной мост поднят, она осталась на том берегу – вот и все. Я не прятала своих эмоций – их не было, как не было ни единого повода для общения или обсуждения. После пасхальных каникул я ушла из крупной престижной средней школы и бросила профессиональное преподавание. Хотя замученный чувством вины Джек и подарил мне дом, нужны были деньги на жизнь и оплату счетов, поэтому я начала работать по утрам в местной школе. Директриса с холодком сообщила мне, что я должна немного помочь ученикам – от одиннадцати до тринадцати лет – почувствовать вкус литературы, прежде чем они начнут изучать серьезные произведения, входящие в экзаменационную программу. Так же с холодком я и отнеслась к этой задаче. Она была абсолютно бессмысленной, но вполне меня устраивала: я не пыталась никого вдохновлять и не вдохновляла, а дети, в основном из семей среднего достатка, вели себя прилично. Очень редко, когда мы читали всем классом и я слышала монотонный голос ребенка, запинающегося при чтении моих любимых строк стихотворении Шелли «Озимандия», где Генри обращается к Катерине, у меня непроизвольно открывался рот, и я готова была сказать: «Остановись, ты должен читать нараспев, чтобы слова парили в воздухе», но я ни разу не произнесла этого вслух. Если меня стихи больше не захватывают, чего я могла требовать от детей? Но вопреки всему класс неплохо усваивал произведения из учебного плана, и это, конечно, свидетельствовало об одаренности моих подопечных. Меня не критиковали ни директор школы, ни остальные педагоги; пусть я плыла с трудом, но по крайней мере держалась на поверхности, а Шекспир, Шелли и другие корифеи служили достаточно крепкой опорой.
Поскольку я была занята не весь день, удавалось избегать близкого общения с коллегами. Ежедневно я заканчивала работу в двенадцать пятнадцать, а значит, когда учителя вместе шли на ленч или выпить по стаканчику в конце дня – в это время опасность установления дружеских контактов была бы особенно сильной, – я не присоединялась к ним. С коллегами я вела себя как человек, страдающий аутизмом: выбирала самый укромный уголок в учительской или углублялась в книгу, даже проходя по коридорам. И хотя я никогда не скажу плохого слова в адрес больных аутизмом, раньше я не понимала, насколько приятным может быть отсутствие контактов с себе подобными. Я просто хотела оставаться в своем собственном мире, куда никто не мог проникнуть и, следовательно, снова причинить мне боль.
Однажды я случайно услышала разговор двух дам: Роды Грант – вспыльчивой рыжеволосой учительницы истории, которая обычно прямо высказывала свое мнение, и Марджери Дрю – она преподавала девочкам шитье и домоводство – яркой подвижной особы примерно моего возраста, очень полной и всегда в красивых нарядах (думаю, отчасти это результат ее профессии). Мисс Дрю относилась ко мне особенно дружелюбно: предлагала билеты в театр, приглашала к себе домой на ужин, убеждала пойти на ленч вместе со всеми, особенно сейчас, в начале лета, когда теплые деньки располагают к тому, чтобы весело провести время в каком-нибудь пабе у реки. Тяжелее всего было преодолеть именно ее попытки завязать тесные отношения, но, судя по разговору, который я невольно подслушала, даже в этом случае мне удалось одержать победу. На колкое замечание Роды Грант, что я попросту «не в себе», Марджери ответила:
– Боюсь, ты права, хотя, не знаю… Она кажется такой ранимой, и мне бы хотелось достучаться до нее.
– О, Мардж, брось! Ты из кожи вон лезешь, а этой… слишком тяжело сказать тебе пару слов. Просто высокомерная нахалка, вот и все…
– Я думала, может быть, она глубоко опечалена чем-нибудь. Знаешь, вдруг она потеряла кого-то из родителей или даже мужа. Понимаешь, она ведь замужем, но никто его не видел, и она не говорит о нем.
– Разведена, вот в чем причина.
– Она сама тебе сказала?
– Нет, я спросила у Пимми.
Пимми работала школьным секретарем – старая дева неопределенного возраста, и любопытства в ней было куда больше, чем ума.
– Что ж, все ясно. Она, наверное, переживает из-за разрыва с мужем и всего, что с этим связано.
Рода фыркнула:
– Мардж, ты так говоришь, потому что никогда не была замужем! Никто не жалеет о муже после развода, это большая радость!
– Господи, Рода, ты говоришь ужасные вещи.
– Вовсе нет, я говорю правду. В любом случае, что бы там ни случилось с этой холодной селедкой, тебе лучше забыть о ней. Если она не настроена на общение, заставить ее ты не сможешь.
– Может быть, необходимо время…
– Брось, Мардж, она работает здесь почти два месяца, и никому еще не удалось нормально поговорить с ней. Просто оставь ее в покое.
Мысленно я предложила Мардж последовать совету. А Рода продолжала:
– Пусть пребывает в своем крошечном мирке.
– Думаю, ты права, – неохотно согласилась Марджери. – И то, что она работает полдня, ей только мешает. Она никогда не присоединяется к нам.
– Вот и ладно. Достаточно того, что она сидит в учительской, как ханжа, с жеманным видом. Не хватало еще видеть это за пределами школы!
Марджери вздохнула:
– Наверное, ты права. Я сдаюсь, не стану больше впустую тратить время.
Ничто из услышанного не расстроило меня, и это было странно. Я только очень беспокоилась, не обнаружат ли приятельницы, что я подслушиваю. Отчасти – ради их собственного блага, но еще и потому, что ситуация показалась мне очень волнующей: опять то странное ощущение, что я одновременно являюсь и зрителем, и действующим лицом.
Женщины уже уходили, когда я услышала, как Рода добавила вполголоса:
– Есть один человек, который так легко не отступит.
– Кто же?
Шепот был едва слышен.
– Конечно, Робин Карстоун. Она по-настоящему его заинтересовала. Он садится на подлокотник ее кресла, как какой-нибудь ястреб, готовый спикировать на добычу. Ты должна была заметить!
– Нет! – Марджери была шокирована. – Я считала, что он обручен с той милой девушкой. Как ее? Барбара или как-то там… Из начальной школы «Бельмонт инфантс». Тебе просто показалось.
Из горла Роды вырвался хриплый, какой-то двусмысленный смех. Неожиданно для себя я позавидовала тому, как непристойно он прозвучал.
– Нет, я уверена. Он проявлял заметный интерес к ее… учебному плану в последнее время. – Историчка засмеялась. – Не думаю, что Робина интересуют ее книги…
– Но он преподает математику и физкультуру, для чего ему учебный план уроков английского?
– О, Мардж, какая же ты тупица! Может быть, он думает об играх совсем другого рода.
– Ну, – усомнилась Мардж, – он действительно очень спортивный…
Рода разразилась густым, сексуальным смехом:
– Это точно. Ты видела его в коротких шортах, когда он приезжает на велосипеде? Такие мускулистые бедра… Все же он должен с осторожностью перемахивать через перекладину велосипеда…
А потом зазвенел звонок, о чем я глубоко пожалела, – история становилась все интереснее, хотя я и не узнала ничего нового о Робине Карстоуне – велосипедисте и его мускулистых бедрах.
Казалось, чем больше я отдалялась от коллег, тем сильнее становился его интерес: попытки к сближению, достаточно робкие в первый месяц, в последние несколько недель сделались все более настойчивыми. Я прекрасно понимала, что происходит, но была не в силах ничего изменить. Чем холоднее и отрешеннее я становилась, тем сильнее привлекала его. Робин зашел настолько далеко, что, немного смущаясь, заявил, что я стала для него «женщиной-загадкой». В этот момент я едва не подавилась, – подобная фраза была совсем ему несвойственна, а за ней последовало – странно трогательное – приглашение «посетить вместе кинотеатр». Но я не могла перестать казаться загадочной. Я действительно жила в изоляции и была далека от своих соплеменников, как нимфа-охотница Аталанта от машинистки, живущей в двадцатом веке. События моей жизни сделали меня старой, как само время, и проложили пропасть между мной и обычными смертными: не по причине снобизма, как преподнесла бы это Рода, – совершенно изменился мой внутренний мир. И теперь, даже при желании преодолеть эту пропасть, я не смогла бы этого сделать. Я существовала в этом мире, но не была его частью. Мне не только не хотелось ничего менять, я даже была не в силах. Отчуждение было абсолютно естественным, я не надевала его каждое утро вместе с одеждой – просто оно существовало. Непреложно. И, следуя закону Мерфи, окружив меня защитной аурой, оно сделало меня привлекательной. Бедняжка Робин Карстоун начал страстно меня желать. Аталанта смотрела вниз с горы в Аркадии на красивого смертного, бредущего по склону у самого ее подножия, и – что ж! – не чувствовала ничего особенного…
Ax да. Секс. Я уже почти полгода обходилась без него, если не принимать в расчет чмоканье в щеку. Но до того момента, как Робин Карстоун опустил свои чрезвычайно мужественные ягодицы на подлокотник моего кресла (так, что я почувствовала давление и тепло от них), я и не подозревала, что это не вызовет у меня никаких эмоций. Меня не раздражала, но и не радовала близость мужчины. Разводной мост был поднят уже давно, теперь же я поняла, что строительство крепостных стен тоже закончено. Еще полгода назад у меня потекли бы слюнки от сочетания красоты и силы этого мужчины с интересом ко мне. Робин был одним из тех, в ком некая невинность (возможно, я имею в виду ранимость) сочетается со здоровой природной чувственностью. Тем, кого требовалось обучить премудростям секса, но, однажды познав их, он стал бы пользоваться новым знанием беззастенчиво и с удовольствием. Мужчиной, жадным до опыта и снедаемым такими нереализованными желаниями, что серьезные физические упражнения и холодный душ не могли заставить его об этом забыть. В первый же день, оказавшись в учительской, я поняла, что он собой представляет: Робин практически перескочил через кресло, чтобы встать рядом со мной, а потом, в процессе знакомства обращался к моей груди. В этом не было ничего вульгарного или похотливого, он просто напоминал способного к дрессировке пса, который мог бы вмиг освоить все трюки и часто повторять их. Кто бы ни была эта его Барбара, стоило ей правильно разыграть карты, она смогла бы многое дать ему и многое получить. Достаточно было лишь провести рукой по спортивному нордическому «ежику» или прикоснуться губами к великолепной груди, и они вдвоем очутились бы в раю. Но пока еще они туда не добрались. Какой бы ни была на тот момент их сексуальная жизнь, Робина она не очень-то вдохновляла. Иначе я не интересовала бы его так сильно.
Если оглянуться назад, несложно понять, как именно следовало мне поступить, чтобы охладить его пыл. Но тогда я могла только наблюдать за происходящим, не в состоянии преодолеть свою пассивность, которая в конечном счете и привлекала его. Рода оказалась права: если холодность решила проблему со всем коллективом, то на Робина она оказала противоположное действие. Женщина-загадка была для него как красная тряпка для быка, и красавец продолжал ежедневно атаковать меня. Поводом к общению стала литература. Робин Карстоун стал настойчиво интересоваться программой моего курса. Однажды утром, вскоре после подслушанного мною разговора Роды с Марджери, я приехала на работу немного раньше, припарковалась и некоторое время сидела в машине, разглядывая здание школы. Стоял один из редких жарких дней конца мая: ветви деревьев склонились под тяжестью цветов, небо безоблачно, и мысль о том, что мир не так уж и плох, казалась вполне простительной. Школа взирала на меня с явным укором. Казалось, эти викторианские стены из красного кирпича спрашивают, не пора ли мне приезжать сюда не только для того, чтобы посетить утреннее собрание коллектива, провести уроки и снова отправиться домой. «Может быть, – шептала я себе под нос, – может быть». А потом прямо перед моими глазами появился Робин Карстоун на своем велосипеде. Увидев мою машину, он изо всех сил нажал на тормоза, приподняв крепкие бедра в пропитанных потом шортах с изогнутого сиденья. Закрывая боковое стекло, я чуть не зажала его подбородок.
– Доброе утро, – заговорил он, – как дела?
– Отлично, спасибо. – Я вынула сумку с книгами из машины и заперла дверцу.
Робин поставил велосипед и снял с багажника книги и одежду. Он всегда принимал душ и переодевался перед занятиями.
– В такой день, как сегодня, по-другому и быть не может, – заметил он. Он локтем прижимал книги, а брюки и рубашку перекинул через плечо. Я заметила, как на него уставились две ученицы из шестого класса.
– Ты напоминаешь мне Джеймса Бонда, – сказала я.
Он бросил на меня взгляд, полный мужского интереса, и я тут же пожалела о своих словах.
– Вот как? Почему?
– Не важно. Мне просто показалось.
Я ускорила шаг. Он тоже пошел быстрее, и получилось, что мы оба, как пара фигурок в автомате для игры в пинбол, на большой скорости пронеслись по игровой площадке, стараясь не столкнуться с детьми.
– Послушай, – не выдержал он, когда мы вошли в здание, – ты не можешь просто бросаться словами, ничего не объясняя. Почему Джеймс Бонд?
– Просто вспомнила фрагмент из фильма. Думаю, это было в «Докторе Но»: он снимает гидрокостюм, под которым оказывается смокинг, и идет на вечеринку… – объяснила я.
Робин выглядел озадаченным. Я показала пальцем на его голые колени.
– Так и ты, каждое утро приезжаешь в таком виде, а потом появляешься в нормальной рабочей одежде. – Я улыбнулась. Мысль действительно была забавная.
Он улыбнулся в ответ:
– Значит, тебе нравится Джеймс Бонд?
– Не особо. Хотя, мне кажется, у Яна Флеминга хороший живой стиль…
– У кого?
Я засмеялась:
– Флеминг. Парень, который написал все это.
– У тебя приятная улыбка, когда ты ее не прячешь.
Я посмотрела на часы.
– Опоздаешь, – предупредила я и уступила ему дорогу.
Тень раздражения пронеслась по обычно открытому лицу, и Робин спросил:
– И кого же ты читаешь, если не этого Флеминга? Кто тебе нравится?








