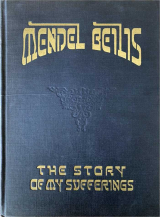
Текст книги "История моих страданий"
Автор книги: Менахем-Мендель Бейлис
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 11 страниц)
Глава XIX
НАКОНЕЦ-ТО СУД
Как ни было тяжело провести более двух лет в тюрьме, не зная, в чем меня обвиняют, еще труднее было ждать того дня, когда меня посадят на скамью подсудимых перед судьями, то есть, того дня, когда весь заговор наконец раскроется.
Как гласит пословица, “пока мы живы, мы сможем это увидеть”.
Наконец я получил официальный вызов явиться в суд 25 сентября. Еще два месяца в тревожном ожидании. Но уже хотя бы был виден берег; с каждым днем я приближался к долгожданному концу. Еще несколько дней, и все закончится. Моя радость не знала границ. Я представлял процедуру суда, чтение обвинительного заключения, вопросы, которые будут мне задавать, и мои ответы. Все мои мысли были сосредоточены на предстоящем суде. Я не мог думать ни о чем другом. За две недели до начала суда я стал добиваться, чтобы мне вернули одежду, которую у меня отобрали при аресте. Мне было стыдно появиться в суде в тюремных одеждах.
Мое прошение осталось без ответа. Дня за три до суда меня посетили жена и брат. Конечно, было пролито много слез, и мы желали друг другу скорой встречи дома, когда мне не будут больше досаждать, и я буду свободен.
Перед уходом жена сказала, что мне разрешат мою собственную одежду и что я получу ее в день открытия суда. На следующий день тринадцать замков моей камеры начали поворачиваться, знаменуя открытие двери. Обычно это наполняло меня опасениями и страхом. В этот раз звук открываемых дверей был другим. Они открывались более обнадеживающе, как будто несли хорошие новости.
“Вот твоя одежда, – сказал надзиратель. – Сегодня начинается твой суд”.
Меня привели в другую комнату, где выдали мою одежду, которую отобрали два с половиной года назад. Я был рад сбросить безобразную тюремную одежду и надеть мою собственную. Я не хотел думать о том, что, возможно, надеваю ее в последний раз. Я был рад хотя бы на один день выглядеть как другие люди.
В этот день власти отнеслись ко мне дружественно. Вся их прошлая злоба чудесным образом испарилась. Некоторые даже помогали мне одеться. Трудно было представить такую вежливость после всех страданий, которым они меня подвергали. Когда я был готов, меня передали группе сопровождения. Даже они вели себя по-другому. Последовала команда “Вперед”.
Когда мы вышли с тюремного двора, меня ожидала приятная картина. Раньше, каждый раз, когда меня вели к прокурору, во дворе никого не было, кроме нескольких надзирателей. В этот раз во дворе было полно людей, как на военном параде. Целая армия; вся администрация в полном составе. От рядового надзирателя до смотрителя, все смотрели на меня. Я был в центре внимания. Некоторые улыбались; большинство были серьезны. Кроме этого, во дворе было несколько сотен казаков. Их пики блестели, а сабли наголо как будто говорили, что они здесь, чтобы защитить меня от “сглаза”. Меня усадили в бронированную тюремную карету, окруженную целой армией чиновников и кавалерии; и со всей этой помпой меня повезли в суд.
Из окна кареты я видел, что на улицах полно людей. Погода была далеко не благосклонна. Было облачно, как будто небесам весь этот спектакль не нравился. Но толпы не обращали внимания на погоду. “Черная сотня”, членов которой можно было узнать по их бляхам, присутствовала в больших количествах. Я видел их уродливые лица, которые бросались в глаза на каждом повороте. На тротуаре, в окнах, даже на крышах домов можно было увидеть множество людей.
Я заметил еврейские лица, некоторые заламывали руки и вытирали слезы. Я тоже плакал.
Вдоль всей дороги от тюрьмы до суда, на расстоянии около трех километров, протянулась шеренга конных казаков для обеспечения порядка и, возможно, для надзора за мной. Проехав через кордон, мы наконец достигли здания окружного суда, которое было окружено тысячами людей. Ворота открылись, и мы въехали во двор. Спускаясь из кареты, я с улыбкой сказал кучеру: “Я расплачусь с тобой на обратном пути”. Начальник полиции и капитан полиции, которые стояли рядом, не смогли удержаться от смеха.
В суде меня привели в отдельную комнату, предназначенную для подсудимых. Я с нетерпением ждал, когда меня поведут в зал суда. Я так долго ждал этого дня. Теперь, когда он настал, я не мог поверить, что все это не сон.
Все эти месяцы и годы пролетели передо мной: Кулябко отрывает меня от моей семьи, Охранка, окружной прокурор, цадики, афикоман, тюрьма, голодовки, бессонные ночи, надзиратели, опухшие ноги, операция, хирург, режущий долго и безжалостно, Фененко, Машкевич, генерал и дама с ним, и все эти бесконечные пытки. Господи, когда же все это закончится?

Бейлис под стражей
Глава ХХ
КАРАБЧЕВСКИЙ
Дверь комнаты открылась, и видный, спортивного вида человек с копной волос вошел и поздоровался со мной. Я вздрогнул, как будто проснулся от страшного сна, и посмотрел на это красивое дружественное лицо.
“Здравствуйте, господин Бейлис. Не удивляйтесь, я ваш адвокат Карабчевский”, – сказал он.
Я знал, что он будет одним из моих адвокатов в суде, но до сих пор встречался только с Григоровичем-Барским, Грузенбергом, Зарудным и Марголиным. Они часто навещали меня в тюрьме. Двух других – Маклакова и Карабчевского – я до суда не встречал.
Неожиданное появление Карабчевского произвело на меня сильное впечатление. Как будто яркий свет озарил комнату. Его дружеское приветствие, бодрый тон не только освободили меня от кошмара моих мыслей, но и создали впечатление, что меня тут же освободят из заключения.
Известный адвокат подошел поближе и сказал: “Приободритесь, господин Бейлис. Не отчаивайтесь. Я был бы рад подойти поближе, чтобы пожать вашу руку. К сожалению, в вашем случае было придумано исключительное правило, и даже мы, ваши адвокаты, не можем приблизиться к Вам больше чем на четыре шага. Вполне возможно, что если я нарушу это правило, мне объявят строгий выговор. Как Вы себя чувствуете?”
Его сердечные и дружеские слова так сильно меня впечатлили, что я забыл, что являюсь заключенным. Я почувствовал себя свободным человеком, окруженным друзьями. Но один взгляд на мою охрану, которая не спускала с меня глаз, дал мне понять, что я по-прежнему в их тисках.
Я почувствовал голод, и мне хотелось курить. Я обратился к Карабчевскому:
“Прежде всего я хочу, чтобы мне разрешили курить и дали что-нибудь поесть. Я умру от голода, если буду ждать, пока принесут еду из тюрьмы. У меня есть деньги, и я мог бы купить еду в буфете суда”.
Пока я это говорил, в комнату вошел полковник, который отвечал за мое сопровождение. Карабчевский обратился к нему:
“Почему этому человеку не позволяют курить?”
Полковник резко ответил: “Потому что заключенным не позволено курить”.
“Может быть, – ответил Карабчевский. – Но этот человек не заключенный. Кроме того, ему нужно дать поесть. Суд, который сейчас начнется, будет долгим и утомительным. Ему нужно будет много сил. Это серьезное дело. Поэтому я убедительно прошу Вас удовлетворить просьбу Бейлиса. Если Вы это ему не позволите – возможно, это не в вашей власти, но это не имеет значения – я буду вынужден рассказать об этом публике во время суда. Вряд ли стоит подвергать людей таким лишениям, особенно такого человека”.
Слова Карабчевского произвели впечатление на полковника. Он понял, что имеет дело не с подавленным евреем Менделем Бейлисом, а с великим русским адвокатом Карабчевским. Угроза Карабчевского рассказать об этом публике в зале суда также произвела впечатление. Полковник попросил несколько минут для консультации с начальством, потому что это была необычная проблема, и он не мог взять на себя ответственность.
Выходя из комнаты, полковник повернулся к охране и сказал: “В любом случае, пусть курит”.
“Если так, – сказал Карабчевский сопровождающему солдату, – принесите ему папиросы”. Он достал трехрублевую ассигнацию и дал солдату. Тот вернулся через несколько минут с отличными папиросами. Карабчевский был доволен, что сумел выбить для меня привилегию и удовольствие покурить и тем самым отвлечь меня от мрачных мыслей.
Тем временем вернулся полковник и сообщил, что после обсуждений высшие власти разрешили мне приобрести еду в буфете суда.
“Теперь, господин Бейлис, – воскликнул мой адвокат, – Вы довольны? Если Вам нужно еще что-нибудь, скажите своим адвокатам. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь Вам. Вы сами не теряйте мужества. Ведь Вы не совсем в руках ваших тюремщиков. Вы в руках Б-га и в наших руках. Мои коллеги рады участвовать в вашем суде. Конечно, я бы хотел, чтобы такой суд никогда не происходил в России. Наша страна была бы избавлена от позора. Но раз уж нам придется через это пройти, хочу сказать, что для нас большая честь показать всему миру лживость обвинения. Вы сами увидите. Правда восторжествует. Я на некоторое время Вас покину. Вскоре мы снова будем вместе. До свидания”.
Высказывания Карабчевского, исходившие от такого искреннего и уважаемого человека, вселили в меня силу и уверенность. Я был полон энергии, и моя вера в скорое освобождение окрепла. Быстро изменилось и поведение сопровождавших меня солдат. Они стали исключительно вежливыми и готовыми помочь. Они, конечно, не могли понять, как такие люди могли в такой манере разговаривать с простым заключенным. Они никогда ничего подобного не слышали. Более того, разве господин не сказал, что я вовсе не заключенный? Кроме того, инцидент с папиросами, когда солдат получил от адвоката три рубля чаевых, и стычка с полковником по поводу еды – все это повлияло на изменение их отношения ко мне.
Солдат принес мне еду из столовой, и каждый раз, когда он туда шел, он заботливо спрашивал, что мне принести, поскольку, раз мы платим за это деньги, он рад побеспокоиться, чтобы я получил хорошую сытную еду. Все это делалось с улыбкой и вежливо, чего я никогда не встречал у тюремных солдат.
Вскоре мое самочувствие значительно улучшилось. С одной стороны, я впервые за много месяцев получил стакан хорошего чая, а приличная еда укрепила мои силы. Однако было рано радоваться. После всех моих прошлых страданий мне предстояло еще многое. И мне нужно было много сил на будущее. Нужно сказать, что для человека, оторванного на многие утомительные месяцы от мира, даже час облегчения и удовольствия – само по себе большая удача. Пока я размышлял о своей судьбе, дверь открылась, и раздался громкий голос полковника: “Проводите заключенного в зал – сейчас начнется суд”. Я повторял последнюю фразу снова и снова.
Глава XXI
СУД НАЧИНАЕТСЯ
Меня привели в большой зал суда и велели сесть на скамью подсудимых. Солдаты с обнаженными саблями стояли по обе стороны, но я не обращал на них внимания. Пусть они меня охраняют, если таковы распоряжения. Я был доволен, что покров тайны будет отброшен, и секретность, которой чиновники и черносотенцы пытались окружить мое крушение, будет раскрыта миру. На меня произвела большое впечатление вся сцена открытия суда. В большом зале суда скопилось несколько тысяч зрителей, людей всех наций и классов. Женщины в красивых туалетах, холеные генералы и высшие чиновники в сверкающей форме и регалиях.
Но больше всего меня впечатлило присутствие газетных корреспондентов из всех цивилизованных стран. Окружной прокурор, прокурор и другие чиновники стояли в стороне и оживленно беседовали. Посредине комнаты было возвышение для судей.
Все эти люди пришли принять участие в этом спектакле или удовлетворить свое любопытство. Но в тот момент, когда меня ввели в зал, все взгляды сконцентрировались на мне.
Присяжные, “двенадцать хороших людей”, в чьих руках фактически была моя судьба, произвели на меня неприятное впечатление. В их руках была моя свобода или смерть, заключение или полное освобождение. Моим первым впечатлением было, что суд я проиграю. Я не мог представить, что эти простые мужики смогут разобраться в таком сложном деле. Если бы жюри состояло, как я ожидал, из образованных людей, я бы не боялся окончательного исхода. Они бы поняли все происходящее. Я боялся, что мужики не смогут понять доводы моих адвокатов. Кроме того, я знал, как легко впечатлить таких простых людей. У них не было других средств, кроме собственной смекалки. Они очень опасались властей. Поэтому я боялся, что официальным властям будет легко склонить их на свою сторону красивыми разговорами и сделать их моими врагами. Тем более что дело касалось еврея.
Присяжные видели, с одной стороны, русских генералов и чиновников во всем великолепии власти, которой наделил их царь. Прокурору и его помощникам было доверено не пропустить ни одного поклепа, который можно на меня повесить. Да, присяжные видели нескольких русских адвокатов, которые меня защищали. Но произведет ли это на них впечатление? Любой обвиняемый может нанять адвокатов. Кроме того, русский крестьянин известен своей доверчивостью, и чем нелепее слух, тем легче он в него поверит.
Это были люди именно того типа, которые верили, что евреи используют кровь кровь на Пасху. Возможно, они все разделяли это убеждение. Если так, то я был в их глазах убийцей, и ничего нельзя было изменить. Надо было положиться на Б-га и ждать исхода. Я посмотрел на моих адвокатов и адвокатов обвинения Шмакова и Замысловского. Оглядывая лица сидевших в зале, я заметил в отдаленном углу мою жену. Она сидела одна, с опущенной головой, со слезами на глазах.
В зале было шумно. Многие громко разговаривали. Некоторые ходили взад – вперед. Разные чиновники входили с портфелями и документами. Сумбур и шум были похожи на оркестр, который настраивает инструменты перед началом концерта.
И вдруг наступила полная тишина. Судебный пристав закричал: “Встать, суд идет”. Публика встала с мест как один человек. Вошли еще чиновники, стало тихо, был слышен малейший звук, как будто все прекратили дышать.
Председатель суда Болдырев нарушил тишину. Он обратился ко мне с вопросом:
“К какой религии Вы принадлежите?”
Я не узнал собственного голоса, ответив почти криком: “Я еврей”.
Я заметил, что окружной прокурор и адвокат обвинения Шмаков обменялись улыбками, когда я это сказал. Сразу после этого между адвокатами обеих сторон началась полемика. Председатель суда спросил моих адвокатов, не возражают ли они, что юристы обвинения сидят так близко к присяжным. Карабчевский тут же ответил: “Да, мы очень настойчиво возражаем. Они сидят слишком близко к присяжным, и каждое их слово может повлиять на мнение жюри”.
Обвинение попыталось это отрицать, но защита взяла верх.
Началось приведение свидетелей к присяге. Это не мелочное дело. Были приглашены сто тридцать пять свидетелей защиты и тридцать пять обвинения – всего сто семьдесят свидетелей. Они были приведены к присяге. Тишина в зале была нарушена, и начался общий гам.
Подходя для присяги, свидетели проходили мимо меня. Все мои свидетели дружески меня приветствовали. Здоровались даже некоторые со стороны обвинения. Эта процедура продолжалась весь день и закончилась поздно вечером. Я сидел как будто пригвожденный к месту и был близок к обмороку от однообразия и усталости. Когда прием присяги свидетелями закончился, меня снова отвезли в тюрьму в черной карете.
В течение всего времени моего заключения я спал практически на голом полу, и никто не думал улучшить мои условия. Наоборот, часто пытались сделать их еще тяжелее.
Я был приятно удивлен, зайдя в свою камеру, потому что она выглядела по-другому. Стояла койка с опрятным матрасом. Все охранники действовали как старые друзья. Я их не мог узнать. Я не мог понять причин изменения их отношения. Чувствовали ли они, что меня скоро освободят и мыльный пузырь лжи лопнет? Но как они могли измениться, если суд только начался?
Очевидно, от их начальства было указание, что, каким бы ни был исход суда, пока что надо быть мягче в обращении со мной. Я поблагодарил Б-га. Надо принимать час облегчения, даже если это всего один час. Устав от всего пережитого за день, я бросился на койку и заснул.
Глава XXII
ПОКАЗАНИЯ РАЗНЫХ СВИДЕТЕЛЕЙ
На следующее утро почетный эскорт из эскадрона кавалерии и жандармов снова доставил меня в суд. Зал суда был так же набит, как и вчера, но напряжение было больше, и публика больше нервничала. Вчера была формальная церемония принесения присяги, а сегодня начиналась настоящая драма, настоящий спектакль.
Начался допрос свидетелей. Первыми вызвали извозчиков и машинистов, которые возили кирпичи с фабрики. Эти свидетели должны были подтвердить очень важное для суда обстоятельство. Фонарщик Шаховский дал показания прокурору (и это было включено в обвинительное заключение), что в 9 часов утра в субботу 12 марта он видел меня в моем доме с двумя цадиками, одетыми в длинные халаты и кипы, закутанными в талиты и погруженными в молитву. После молитвы, как утверждалось, я погнался за Ющинским, догнал его и понес к обжиговой печи. Он не знал, что было дальше. Из его показаний было очевидно, что Андрюша не ушел из моих рук живым. Шаховский также показал, что в это время на фабрике не было никого, даже рабочих.

Фонарщик Шаховский с женой
Эту же историю рассказал Фененко сын Чеберяк Женя. Когда прокурор спросил меня, что я могу сказать по поводу показаний Шаховского, я ответил, что на фабрике существует система квитанций и операций. Квитанции показывают, какие извозчики и машинисты работали в этот день, кому был доставлен кирпич, есть подписи извозчиков, которые грузили кирпич и доставляли его клиентам. Книги показали, что 12 марта было доставлено 10,000 кирпичей, и в этой работе в течение всего этого дня были задействованы пятьдесят извозчиков и машинистов. Поэтому утверждение, что на фабричном дворе в этот день никого не было, и мне нечего было делать, кроме как гоняться за Ющинским, было просто абсурдным. Один из машинистов ответил так:
“Мы всегда были на фабрике. Мы даже спали там. Бейлис жил на верхнем этаже, а мы – на нижнем. Кроме того, нам хорошо известно, что Бейлис честный человек”.
Другой возчик сказал: “Бейлис вставал очень рано, около трех утра. Когда мы стучали в его дверь, он всегда был готов. Он был очень предан своему хозяину и внимательно следил, чтобы мы тоже рано вставали и шли работать. Он часто бросал есть и приходил посмотреть, не бездельничаем ли мы. Он никогда не оставался один даже на час. Все мы русские всегда были там и днем, и ночью”.
Эти простые и четкие заявления простых крестьян произвели большое впечатление. После машинистов вызвали незнакомую мне женщину. Когда председатель суда спросил, знает ли она меня, она ответила: “Да, я его знаю – это из-за него счастье моей семьи разрушено. Я потеряла мужа из-за Бейлиса. Мой муж был кузнецом, и ему нужен был кусок металла, который он не мог нигде достать. Он заметил подходящий кусок на фабрике Зайцева и, решив, что Зайцев очень богат и не заметит пропажи, взял его. Но Бейлис этого не допустил и предъявил ему обвинение. Моего мужа посадили в тюрьму, где он заразился тифом и вскоре умер. И все же я считаю Бейлиса честным человеком. Он выполнял свой долг, он предан своему хозяину”.
Один за другим суд вызывал свидетелей, и они расшатывали обвинение своими показаниями. Не могло быть лучшего доказательства для тех, кто действительно был заинтересован в правде, чем показания этих простых людей. Конечно, оставался вопрос, как присяжные заседатели отнесутся к этим показаниям. После этих свидетелей перед судьями предстал поляк по имени Вышемирский, человек старше 60 лет. Он жил по соседству, в третьем доме от меня. Его заявления произвели сильное впечатление, и во время его показаний публика в зале сидела очень тихо, как завороженная. После его показаний в зале поднялся шум. Вышемирский торговал скотом. Каждый раз, когда мне нужна была корова, я покупал у него. Он бывал у нас в доме практически каждый день и знал все, что касается моей семьи. Вышемирский знал, что во время убийства у меня вообще не было коровы. Это показание было ударом для обвинения, поскольку показывало лживость Веры Чеберяк и ее детей, которые свидетельствовали, что приходили ко мне 12 марта покупать молоко. Вот почему Фененко на первом допросе спрашивал, есть ли у меня корова и продаю ли я молоко. Вышемирский решительно заявил, что все рассказы о корове и молоке были лживыми, потому что он точно знает, что у меня весь год не было коровы. Закончив показания, он продолжал стоять перед судьями, как будто погруженный в мысли. Было ясно, что он хочет что-то добавить. Публика была “на пределе внимания”, и в зале царила мертвая тишина. Что он хотел сказать? Что собирался сказать этот старый нееврей? И почему он так долго раздумывал, почему колебался?
Мне было не по себе. По поводу коровы он говорил правду, но я не знал, что еще он собирается сказать. Вдруг он прервал тишину.
“Я хочу сказать еще что-то, – он говорил очень медленно. – Я не знал, что меня вызовут свидетелем – какое мне дело до судов, обвинений и так далее? Я старый человек, одной ногой в могиле. За всю свою жизнь я никогда не был в суде, ни как обвиняемый, ни как обвинитель, и я надеялся закончить свою мирную жизнь, не имея ничего общего с судами, но я получил вызов явиться сюда, что ж, так тому и быть. Что я могу сказать? В последние два с половиной года я болел из-за этого дела. Мне кажется, что оно сократит мои земные дни. У меня есть один сын, который мне очень дорог – из-за него я не сделаю ничего ужасного или нечестного. Кроме того, я принес присягу, я верю в Б-га и боюсь Его. Поэтому я считаю, что не могу молчать и должен рассказать все, что мне известно в связи с этим делом. Все, что я рассказал о корове, подтверждает лживость обвинений против Бейлиса. Но я вам расскажу еще что-то, что положит конец всем сказкам о том, что Мендель Бейлис убийца, что он мог убить Андрюшу Ющинского или что ему нужна была кровь для пасхальной мацы. Я утверждаю, что все обвинения лживы от начала до конца”.
В зале стояла напряженная тишина. Вышемирский замолчал, собираясь с силами. Он снова повернулся к судьям и заговорил просто и серьезно. “Я сам из города Витебска. Я был управителем имения. У меня был помощник, мой дорогой друг и единоверец по фамилии Равич. Спустя некоторое время мы оба переехали в Киев и жили недалеко друг от друга, вблизи дома Чеберяк. У Равичей не было детей, они были приятными людьми и вели тихую жизнь. У него был бакалейный магазин, и он неплохо зарабатывал. Так прошло несколько лет. Однажды Равичи пришли ко мне попрощаться, сказав, что уезжают за границу. Я был потрясен! Почему они уезжают так неожиданно? В чем дело? Они были обеспеченными и уважаемыми людьми. Какая причина покинуть друзей и прибыльный бизнес и уехать на другой конец света? – он сказал, что они уезжают в Америку.
Госпожа Равич начала плакать. Я понял, что что-то не в порядке. Со слезами на глазах госпожа Равич сказала: “Мы обязаны уехать в Америку”.
“Почему? Почему вы вдруг все оставляете, чтобы столкнуться с трудностями на новом месте? У вас есть там друзья или родственники?”
Она расплакалась еще сильнее. Сам Равич сидел молча, не проронив ни слова. Я видел, что что-то их гнетет. Я умолял рассказать, что случилось.
“Я ваш давний друг. Вы не должны ничего от меня скрывать”.
Она сказала: “Дорогой друг, я вижу, что могу рассказать Вам правду, но я умоляю никому не повторять моих слов, если Вы не хотите подвергнуть наши жизни опасности. Пообещайте мне”.
“Да, я обещаю, но расскажите мне правду”, – сказал я.
Вот что она мне рассказала: “Все это время мы были дружны с Верой Чеберяк – Вы знаете, что мы соседи. Она часто приходила занять что-нибудь, иногда я ходила к ней попросить что-нибудь – кастрюлю или еще какую-нибудь утварь. Однажды утром я зашла к ней попросить разделочный нож. Мы были в таких хороших отношениях, что я знала, где что лежит. Вера была в постели, поэтому я сама пошла на кухню за ножом. Как только я вошла в соседнюю комнату, то, к своему ужасу, увидела в ванной мертвого ребенка. Я до смерти перепугалась, схватила нож и убежала оттуда. Наверное, Вера заметила, что я что-то увидела, и испугалась”.
Свидетель опять остановился – он говорил с трудом и часто останавливался. По залу пронеслась волна перешептываний. Свидетель продолжил говорить.
“Спустя несколько дней – я пересказываю рассказ госпожи Равич – Вера Чеберяк пришла ко мне и сказала мне буквально следующее несколькими резкими словами: “Послушайте, Равич, конечно, мне очень жаль, что Вы видели ребенка, то это уже не изменишь – есть один только выход для вас – навсегда покинуть Россию. Если вы останетесь, вам придется навсегда покинуть этот мир”. Я ей ответила: “Сестренка, что ты говоришь? Почему я должна уехать? Куда я поеду? И зачем?” Она мне ответила: “Я оплачу вам дорогу до Америки – я знаю, что ты не проболтаешься, но шпионы начнут вынюхивать, тебя вызовут к прокурору, будут тебя допрашивать, в конце концов ты расскажешь правду. Поэтому вам лучше всего исчезнуть”. Что мне было делать? Мне пришлось сказать, что я согласна, и мы покинем Россию. Я пришла с Вами попрощаться”, и действительно, господа судьи, через несколько дней они уехали в Америку, в Нью-Йорк”.
Когда Вышемирский закончил свои показания, в зале поднялась настоящая буря. Вера Чеберяк, которая присутствовала там в качестве свидетеля, принаряженная и в пестрой шляпке, как “настоящая леди”, была на грани обморока. Она пришла в возбуждение, что-то говорила и неистово жестикулировала. Председательствующий судья Болдырев, который был явно в дружеских отношениях с Чеберяк, пытался ее успокоить и вместо того, чтобы обратиться к ней “мадам Чеберяк” или “свидетельница”, как требовал устав суда, называл ее “Вера Владимировна”, как будто она была какой-то видной личностью или близкой подругой. Те, кто сидел рядом с ней, стали отодвигаться от нее, как будто она вселяла в них страх. Мне было хорошо видно, что вся эта сцена произвела впечатление на судей. Когда Вера Чеберяк это увидела, она сняла шляпку и набросила на голову шаль, чтобы хоть как-то оградить себя и сделаться менее узнаваемой. Она была бледна и вся дрожала. Председательствующий судья, который сам был довольно потрясен, обратился к свидетелю: “Если Вы так давно знаете то, о чем сейчас рассказали, почему Вы до сих пор молчали?”
Свидетель ответил: “Я не думал, что меня вызовут свидетелем. Я верил, что правда откроется сама по себе. Скажу вам больше – я испытывал свою веру. Я молчал, чтобы понять, есть ли в мире справедливый Б-г – если Б-г есть, правда станет известна”.
Было очевидно, что председательствующий не собирался разрешать свидетелю продолжать говорить. Он был слишком хорош для защиты обвиняемого, и судья хотел от него избавиться.
Следующим свидетелем был 10-летний мальчик. Его показания были еще одним ударом не только для обвинения, но и для Веры Чеберяк. Я должен заметить здесь, что много раз в течение суда свидетели открыто заявляли, что они уверены, что убийство совершила Вера Чеберяк. Мрачный юмор ситуации состоял в том, что она была приглашена в качестве свидетеля против меня. Мальчик посмотрел на меня и улыбнулся. Судья спросил его: “Ты знаешь Менделя Бейлиса?”
“Да, я его знаю”.
“Он когда-нибудь выгонял тебя с фабрики?”
“Меня никогда не надо было выгонять, и Бейлис этим не занимался, у него были другие дела. Для этого у них был дворник”.
Этот вопрос задавали неоднократно, потому что обвинение пыталось доказать, что у меня была привычка изгонять христианских детей с территории фабрики и что я догнал Андрюшу и сделал его своей жертвой.
“Да, – продолжал мальчик, – мы играли во дворе фабрики, но Ющинский там не бывал, и Бейлис никогда нас не прогонял”. Он добавил: “Перед тем, как Вы меня вызвали, я сидел возле Веры Чеберяк, и она мне сказала: “Послушай, не забудь сказать, что Андрюша Ющинский играл с вами во дворе фабрики, это было давно, и ты, наверное, забыл”. Я ей ответил: “Почему Вы учите меня, что говорить? Вы учите меня говорить неправду – Андрюша никогда не играл на территории фабрики, и я говорю правду”. Я видел по выражению лиц присяжных, что их тронули слова мальчика. Ситуация Верочки, или Веры Владимировны, как называл ее председательствующий, ухудшалась. Мои свидетели не скрывали убеждения, что это она убила Андрюшу.
В первые несколько дней было допрошено несколько важных свидетелей. Некоторых вызвали, чтобы опросить по поводу пожара на фабрике. Я сам узнал о пожаре только во время суда. Вот как это произошло: через некоторое время после моего ареста у меня в доме был пожар, скорее всего, в результате поджога. Виновника так и не нашли – мало кто сомневался, что это было дело рук Верочки и ее шайки. Однако антисемитские газеты начали публиковать истории, что это сделали мои родственники, чтобы уничтожить следы моих преступлений. Поэтому свидетелей спрашивали (это в основном были рабочие с фабрики), где и когда возник пожар. Это было важно, потому что антисемиты настаивали, что сначала из моего дома вынесли всю мебель и только потом его подожгли. Работники показали, что пожар начался в полночь, и если бы они не проснулись, то все бы сгорели в пламени. Они проснулись по счастливому совпадению. Один из рабочих был в этот день пьян (это было воскресенье). Он был так пьян, что в полночь почувствовал себя “хуже собаки”, начал кричать и поднял бучу. Это разбудило остальных. Вдруг они увидели дым и затем пожар. Дым и пожар распространялись из моей части дома. Моя семья крепко спала, и (так свидетельствовали рабочие) “если бы мы не разбудили Бейлисов, они бы все сгорели дотла”.
Следующими вызвали двух сестер Дьяконовых. Показание одной из сестер оказалось очень интересным. Она сказала: “Мы с сестрой часто проводили вечера у Чеберяк, играя с ее детьми. Однажды она попросила нас прийти и провести у нее ночь. Она сказала, что ее муж в этот день должен работать допоздна на телеграфе, а ей одиноко оставаться одной дома. Мы пришли к ней, и около полуночи, когда она уже спала, я заметила на полу что-то большое, завернутое в мешок. Мне было интересно, и я решила посмотреть, что это. Когда я открыла мешок, то увидела внутри мертвого ребенка. Я до смерти перепугалась и побежала будить Веру. “Смотри, – сказала я, – там лежит мертвый ребенок – это не Женя (сын Чеберяк)”? Вместо того, чтобы мне ответить, она начала храпеть и притворилась, что не слышит. Я боялась оставаться в доме – я разбудила сестру, и мы среди ночи побежали домой”.
Выслушав показания девочки, прокурор и адвокаты обвинения сделали кислую мину и пытались сбить ее с толку. Председательствующий задал другой вопрос: “Почему ты не рассказала об этом раньше?”.
Девочки ответили: “Мы боялись. Вера опасный человек. Она могла легко с нами расправиться. Мы вынуждены были молчать, но теперь мы можем рассказать все как было”.








