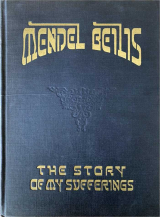
Текст книги "История моих страданий"
Автор книги: Менахем-Мендель Бейлис
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц)
Глава V
ИНКВИЗИЦИЯ
Измученный необоснованными оскорблениями, которым я подвергся в Охранке, и обессилевший от долгого похода по городу в сопровождении полицейских, я с трудом добрался до окружного суда. Меня привели в большой зал, где уже находились следователь Фененко, помощник прокурора Карбовский и его помощник Лошкарев.
Они обменивались многозначительными взглядами, как будто исход встречи был им известен заранее. На душе у меня была тяжесть, особенно когда я вспоминал вопросы, которые мне задавал дома Фененко. Их тон был насмешливым.
Обычно, полицейские, которые приводили арестованного к следователю, присутствовали во время допроса. Им не разрешается выпускать заключенного из виду. Здесь я увидел что-то новое: моей охране приказали покинуть помещение. Это увеличило мои опасения. Создалось впечатление, что коварные чиновники задумали какой-то трюк. Но у меня не было выбора. Надежда быстро сменялась отчаянием. Надежду поддерживало знание, что я не виновен; отчаяние было вызвано моим знакомством с российской бюрократией. Вскоре Фененко обратился ко мне:
“Вы знали Андрюшу Ющинского?”
“Нет, – не колеблясь, ответил я. – Я работаю в конторе большой фабрики; я общаюсь с купцами и взрослыми, а не с детьми, особенно уличными. Я уверен, что не смог бы его отличить от любого другого ребенка”.
Помощник прокурора Карбовский, откинувшись на спинку стула и пристально за мной наблюдая, вдруг подался вперед и спросил:
“Говорят, что среди вас, евреев, есть люди, которых называют “цадиким” (благочестивыми людьми). Когда кто-то хочет причинить вред другому человеку, он идет к “цадику” и дает ему “пидьон” (выкуп), и цадик использует силу своего слова, чтобы принести несчастье другим людям”.
Еврейские слова, которые он использовал: цадик, пидьон и подобные им, были записаны у него в записной книжке, и каждый раз, когда он хотел использовать какое-то слово, он в нее заглядывал. Я ответил:
“К сожалению, я ничего не знаю о цадиках, пидьонах и других подобных вещах. Я отдаю всего себя работе и не понимаю, чего вы от меня хотите”.
“А кто Вы? – спросил он, снова заглянув в записную книжку. – Вы хасид или миснагед?” “Я еврей и понятия не имею, в чем разница между хасидом или миснагедом”, – ответил я.
“Что у вас, евреев, называете “афикоман”? На это у меня такой же ответ.
Мне стало казаться, что эти люди несколько неуравновешенны. Чего они добивались? Какое отношение к афикоману имело убийство Ющинского? И почему их занимала разница между хасидом и миснагедом? Мне казалось, что они насмехаются надо мной и некоторыми еврейскими ритуалами.
К сожалению, это была не шутка. На поверхности они выглядели искренними. Возможно, в глубине души они были убеждены, что мальчика убила Вера Чеберяк. Возможно, мне задавали эти вопросы по распоряжению сверху.
После допроса Фененко приказал городовым снова отвести меня в Охранку. Хотя мои надежды снова рухнули, я верил, что ошибка скоро станет очевидной, и меня отправят домой.
Когда мы добрались до Охранки, меня ввели в комнату, где я увидел трех “политических” заключенных, двух евреев и одного русского. В это время у Охранки было особенно много работы, потому что в Киев должен был приехать царь Николай, и надо было очистить город от всех “нелояльных” элементов. Когда мои сокамерники узнали, кто я, они стали меня подбадривать, говорить, чтобы я не терял надежду, что меня скоро освободят. Однако судьба была настроена против меня. Я чувствовал себя как никогда беспомощным. Что мог я, человек без надежды, без друзей, сделать против организованной деспотической власти? Не впервые государство через своих агентов пыталось вызвать погромы. Я успокаивался, когда вспоминал, что у них нет против меня доказательств.
Через несколько дней меня опять вызвали к следователю. Эти допросы всегда волновали меня. С одной стороны, меня это подбадривало, потому что если меня допрашивали, значит, хотели знать правду. С другой стороны, я боялся бессмысленных вопросов, рассчитанных на то, чтобы смутить и запутать меня. Мои страхи увеличились, когда некоторые из моих сокамерников стали говорить, что дело пахнет “политикой”, что его единственная цель – навредить евреям, вызвать погромы. Очевидно, сам министр юстиции был заинтересован в том, чтобы создать “еврейское дело”, предоставив настоящим преступникам защиту правительства. По какой-то странной причине я больше всего боялся Фененко, хотя позже узнал, что именно он был настроен менее всех враждебно.
Когда меня привели в окружной суд, я увидел Фененко одного. Он снова отпустил мою охрану. Он был некоторое время погружен в мысли, затем резко повернулся ко мне:
“Бейлис, Вы должны понимать, что это не я Вас обвиняю, это Помощник прокурора. Это он приказал Вас арестовать”.
“Меня отправят в тюрьму? Мне придется носить арестантскую форму?”
“Я не знаю, что с Вами произойдет. Я только хочу, чтобы Вы знали, что распоряжение исходит от Помощника прокурора, а не от меня”.
Это меня не обрадовало. Меня лихорадило. Все было потеряно. Меня отправят в тюрьму. Ужас от такой перспективы заставил меня заговорить.
“Я хотел бы кое-что Вам напомнить. Впервые в моей жизни мне приходится иметь дело с чиновником вашего ранга, но я знаю, что следователь должен расследовать и выяснить правду. Когда следователь собирает все возможные свидетельства, он составляет обвинение и передает его заместителю прокурора; и если свидетельства говорят о вине подозреваемого, его сажают в тюрьму. Есть доказательств недостаточно, человека освобождают.
Если Вы сейчас отправите меня в тюрьму, значит, Вы нашли что-то против меня. Что я сделал? В каком преступлении меня обвиняют?”
“Не задавайте мне вопросов, – только и смог сказать Фененко. – Я Вам рассказал достаточно. Это Помощник прокурора, а не я”.
Из манеры разговора Фененко я видел, что у всего происходящего была какая-то тайная подоплека. Весь коварный сценарий раскрылся. Времени на размышления не было, так как позвали городового, и он отвел меня в Охранку вместе с запечатанным обвинением.
Вскоре меня вызвали, чтобы перевести в тюрьму. Я обратился с петицией позволить мне провести хотя бы ночь с евреями, с которыми я познакомился в тюрьме, и получил разрешение.

Бейлис под стражей
Глава VI
ТЮРЬМА
Охранник, который меня сопровождал в тюрьму, разрешил мне ехать на трамвае, но мы не зашли внутрь, где были пассажиры, а стояли на площадке. По дороге в тюрьму я встретил работников фабрики, ехавших на работу, и своих знакомых. Это только усилило мое уныние.
Во время нашей поездки в вагон поднялся русский, который увидел меня, обнял и поцеловал. Это был Захарченко, владелец дома, где жила Чеберяк.
“Брат, – сказал он, – не падай духом. Я сам член “Двуглавого орла”, но поверь мне, камни, из которых построен мост, могут рассыпаться, а правда все равно выйдет наружу”.
С этими словами он соскочил с трамвая. Мои охранники его отпустили, потому что у него был значок “Двуглавого орла”, а его владельцам позволялось делать все, что они хотели. Городового впечатлила речь Захарченко, и он отнесся ко мне довольно дружелюбно. Доброта, которую проявляли по отношению ко мне многие русские до и во время заключения, смягчила мою горечь по отношению к моим преследователям.
Мы вышли из трамвая на последней остановке перед тюрьмой и пошли пешком. Проходя мимо рынка, городовой подошел к прилавку, купил несколько груш и предложил мне. Я не мог скрыть своего удивления. “Я купил их для тебя, – сказал он. – Ты идешь в тюрьму, там их тебе не дадут”.
Как только мы вошли в двери тюрьмы, служащий выкрикнул мое имя: “Бейлис”, и все прибежали на меня посмотреть. Все посмеивались и пожирали меня глазами. Один из них набрался храбрости, подошел ко мне и саркастически сказал: “Здесь мы будем кормить тебя мацой и кровью, сколько захочешь. Иди переодевайся!”
Меня завели в маленькую комнату и дали “королевское одеяние” – мрачную тюремную одежду. Когда я снимал обувь, кровь прилила к моей голове, у меня потемнело в глазах, и я почувствовал, что сейчас потеряю сознание. Охранник подошел и снял с меня обувь. Когда меня посадили в кресло и начали стричь, я опять начал терять сознание. Тот же русский подошел и дал мне воды.
Около полудня меня привели на место моего будущего проживания, где я обнаружил около 40 заключенных. Дверь заперли. Выхода отсюда не было. Надо было надеяться, крепиться, быть сильным как решетки на двери, чтобы выжить в этом грязном, темном помещении. Я рассмотрел мой новый “дом” и новых друзей. Стены были выкрашены дегтем. Решетки не пропускали ни одного луча солнца. Отвратительный запах грязи и немытого человеческого тела вызывал тошноту. Толпа заключенных прыгала, танцевала, вытворяла странные вещи. Один пел песни, другой рассказывал смешные истории, некоторые боролись либо дрались на кулаках. Неужели я осужден на эту атмосферу на всю жизнь, или это часть страшного сна?
Мне снова вспомнились слова Фененко: “Это приказ Помощника прокурора, не мой. Это не я Вас обвиняю”.
Я сел в одном из отдаленных уголков, склонив голову и размышляя о своей судьбе. Пока я был погружен в размышления, дверь большой камеры открылась, и пьяный голос прокричал: “Обед”.
Когда я впервые оказался в камере, я увидел на полу несколько ведер, как в бане. Когда прозвучал клич на обед, несколько заключенных побежали к ведрам, которых было четыре или пять. В камере было около 40 человек. Споров о ведрах не было, потому что десять человек могли свободно есть из одного ведра. Но было только 3 ложки. Кто будет есть первым? Началась куча мала. Последовала ожесточенная драка, но после того, как кое-кто пострадал и почти все выбились из сил, ложки попали в руки самых сильных и проворных. Было объявлено перемирие, и люди уселись есть на полу. Каждый съедал несколько ложек и передавал другому. Иногда кто-нибудь обманом съедал на одну – две ложки больше. Тогда опять начиналась драка, сопровождаемая самой отборной руганью, на которую способны преступники.
Я сидел в своем углу и с ужасом смотрел на картину жизни в тюрьме. Когда все поели, принесли чай, который был больше похож на воду. Вдруг один из заключенных подошел ко мне и предложил кусок сахара. Он разговаривал знаками; он был явно немой и похож на еврея. Он выпил свой чай, а затем принес и мне в маленьком кувшине. Так прошли первые несколько часов в тюрьме.
Вечером привели нового заключенного – еврея. Его прибытие немного облегчило ситуацию – теперь, по крайней мере, было с кем поговорить. Я подошел и представился. Он очень удивился, услышав мое имя. Хотя у него самого были проблемы, потому что он поджег свой дом, чтобы получить страховку, он забыл о собственных неприятностях и озаботился моими. Его двоюродный брат был прорабом – строителем в Киеве и имел хорошие связи в правительстве. Поэтому ему разрешили получать еду снаружи, и он делился со мной.
Утром мой друг заболел, и его забрали в лазарет. Надо сказать, что комната, в которой я находился, не была обычным тюремным помещением. Она также принадлежала лазарету, и в ней надо было провести тридцать дней до перевода в “настоящую тюрьму”. Мне рассказали, что ведра, из которых мы ели, использовали также для стирки в прачечной.
В первые два дня меня не было в списках на довольствие, поэтому я не получал хлеб. На третий день меня внесли как регулярного постояльца, и я стал получать хлеб – единственное, что я мог есть. Я не мог дотронуться до супа из-за банных ведер. Однажды во время обеда один заключенный нашел в ведре четверть мыши, которая, скорее всего, попала туда с мелким гравием на тюремном складе. Человек, который ее нашел, продемонстрировал ее не столько для протеста против администрации тюрьмы, сколько для того, чтобы испортить другим аппетит и самому получить больше.
Дни проходили, и я чувствовал, что слабею. Я начал есть. Я мог получать домашнюю еду только в день посещений по воскресеньям. Я нетерпеливо ждал воскресений. Мне не терпелось услышать домашние новости. Я никогда не забуду страстности, с которой я ждал воскресенья. От нетерпения я не мог спать в субботу ночью. Спина и плечи болели от лежания, потому что постелью служил пол. Я бы лучше ходил, но это запрещалось. Я как будто лежал на граблях.
Наконец счастливый день. В воскресенье мне принесли пакет с едой, которой должно было хватить на всю неделю. Когда мои сокамерники увидели передачу, они очень обрадовались. Они тут же вырвали ее у меня из рук и сразу же проглотили ее содержимое. Они разорвали пакет, стараясь получить долю побольше. Пока они рвали друг у друга еду как собаки, я напомнил себе, что меня ожидает еще одна голодная неделя. За мной наблюдали, не проявляю ли я признаков недовольства. Потому что недовольство товарищами означало хорошую порку. Мне пришлось сделать счастливое лицо, почти радость от того, что они едят мою передачу, и сказать: “Приятного аппетита, ребята!”.
Эта осень была особенно холодной. Почти все стекла в окнах были разбиты. Ночью был ледяной холод. Мокрый и грязный пол, кишащий паразитами, не прибавлял радости. Все мое тело было искусано и чесалось. Прошел месяц, и меня перевели в другое место, где тоже было около 40 заключенных, большинство на долгие сроки. В этом месте я нашел трех новых компаньонов-евреев, которые окружили меня заботой, услышав о моем деле.
Меня перевели на новое место в субботу. В воскресенье утром я снова был в нетерпении. Когда я получил свою продуктовую передачу, евреи научили меня, как себя вести, чтобы не ограбили. Я должен был отдать пакет им, а они за ним присмотрят; другие их боятся и не будут вмешиваться. Я так и поступил, и мы вместе ели и пили пять дней. Пришло время их суда, и они были освобождены.
Пока эти евреи были со мной, русские ко мне не приближались. Как только евреи ушли, русские стали дружелюбнее и относились ко мне довольно уважительно. Они знали о моем деле и удивлялись вопросам, которые мне задавало следствие. Они все предсказывали, что это ничем не кончится. Один из них, некий Козаченко, особенно со мной подружился и постоянно осыпал меня комплиментами. Вначале я не мог понять его избыточное дружелюбие, потому что он не производил впечатление дружелюбного от природы человека. Только позже я понял его игру. Но это “открытие” стоило мне очень дорого.
Глава VII
КРОВАВЫЙ АНАЛИЗ
В следующее воскресенье я опять получил продуктовую передачу. Я был ей рад – и другие узники были рады не меньше меня. Один из них предложил отдать ему пакет для “охраны”. Но я знал, что он способен в мгновение ока очистить его содержимое, поэтому поблагодарил, но сказал, что сам в состоянии за ним присмотреть.
Через некоторое время привели трех новичков – еврея и двух русских. Еврей пожаловался мне, что не может есть тюремную пищу и что у него нет сахара к чаю. Я предложил ему кусок халы и сахар, которые он принял с благодарностью.
Он спросил, за что я сижу.
Я хотел избежать обычных соболезнований и сочувствия, поэтому сказал, что сижу за конокрадство. Я спросил, в чем его обвиняют. Он сказал, что у него было 500 рублей, и он хотел заплатить за какую-то покупку. Деньги оказались фальшивыми, и его арестовали. Вскоре, однако, он был освобожден.
Однажды во время “променада” один из заключенных окликнул меня: “Бейлис”. Молодой еврей повернулся ко мне в изумлении.
“Вы Бейлис? Почему Вы мне сразу не сказали? Почему Вы скрываете свое имя? Я рад находиться с Вами в одной камере. Не печальтесь – Б-г Вам поможет”.
Приближалось время, когда заключенные должны были меня “анализировать”. Сначала я не знал, что это означает на тюремном жаргоне. Но вскоре узнал.
Когда группа заключенных проходит по одному делу, возникает необходимость договориться о том, что говорить на суде, чтобы не запутаться. Если в камере есть чужак, он может подслушать и доложить об этом. Поэтому его подвергают анализу – предварительному избиению. Если он не пожалуется, они будут чувствовать себя в безопасности и свободно говорить в его присутствии.
Я начал понимать причины их дружелюбия. Это делалось, чтобы разжечь ссору и произвести “анализ”. Однако не все склонялись к анализу. Никто не хотел быть зачинателем и провокатором. Был один, который рассердился за меня за то, что я не дал ему охранять мои продукты, и взял на себя эту миссию. Кроме того, у него “был зуб” на евреев, потому что в воровстве его обвинил еврей. Я знал, что именно этот заключенный хотел со мной “рассчитаться”. Я был беспомощен.
Вот как это произошло. Я не мог носить свою обувь и ходил в тюремных “сабо” с вылезшими гвоздями. От беспрерывного хождения, которое отвлекало от мрачных мыслей, ноги сильно болели и кровоточили. Как-то, устав от хождения, я присел на стул. Тут же прибежал этот крестьянин и попросил меня уступить ему стул. Я не успел ответить, а он уже ударил меня так, что потекла кровь. Все ждали, как я отреагирую. Им было страшно видеть кровь, и мне принесли воду, чтобы ее смыть. Когда я отказался от воды, один закричал:
“Коли его! Разделайся с ним. Видишь – он сейчас запросит пощады!”
Молодой еврей подошел ко мне и стал умолять: “Будьте благоразумны. Смойте кровь. Если Вы этого не сделаете, Вас переведут в другую камеру. Мне придется остаться здесь, и они выместят на мне свою злобу. Если Вы умоетесь, они станут сговорчивее. Сделайте это”.
Я так и сделал: умылся из уважения к молодому человеку. После чего все русские набросились на крестьянина и стали его бить. Они говорили: “Евреев надо судить по-другому”.
Утром я пошел на “променад”. Со мной был крестьянин, который меня ударил, и еще один русский. Охранник увидел мой распухший глаз и спросил, кто это сделал. Не успел я ответить, как русский показал на крестьянина. Надзиратель схватил крестьянина за шиворот и повел нас в контору. По пути мы прошли мимо нескольких надзирателей. Каждый спрашивал, в чем дело, и давал кр естьянину затрещину. Последний надзиратель, которого мы встретили, схватил его и сбросил со ступенек. Я боялся, что он разобьет голову.
В конторе у него спросили: “Почему ты ударил Бейлиса?” Он ответил:
– Я попросил у него как у друга уступить мне стул. Он не разрешил, и я его ударил.
– Он твой друг? – сурово спросил смотритель.
– Понимаешь, он берет наших детей и пьет их кровь. Неужели он будет тут нами командовать?”
– Ты сам видел, как он убивал детей? – спросил смотритель.
– Нет, мне рассказали.
– Хорошо, тогда вот тебе, – и смотритель сильно его избил.
Вырезка из местной газеты после ареста Бейлиса

Глава VIII
СОГЛЯДАТАИ
Меня перевели в другое помещение, потому что я не мог оставаться рядом с моим другом – крестьянином. В этой камере было всего двенадцать человек, в большинстве своем мелкие чиновники, полицейские и им подобные, которые совершили мелкие проступки. Все они подозрительно ко мне отнеслись.
Через несколько дней меня вызвал смотритель и спросил, относятся ли ко мне в новом помещении так же плохо, как и в старом. Когда я сказал, что лучше, он ушел. На новом месте я заметил, что охранник брал у заключенных письма для передачи на волю и приносил ответы, всего за несколько копеек.
Тем временем новостей от моей семьи я не получал. Будучи в хороших отношениях с Козаченко, я сказал, что хотел бы послать весточку семье. Я написал письмо, постаравшись не оставить пробелов, чтобы никто не мог ничего вписать. В письме я спрашивал о самочувствии жены и семьи и о причине их молчания и бездействия. Почему они ничего не предпринимают? Я был невиновен. Наверное, я никого не интересовал. Я написал, что не знаю, смогу ли выдержать дальнейшее заключение. Я также упомянул, что подателю письма надо дать пятьдесят копеек и ответ для меня.
Я дал письмо охраннику, и он потом принес мне ответ. Я прочитал его и тщательно уничтожил. Через несколько дней он спросил меня, хочу ли я отправить еще одно письмо. Я отказался.
Вскоре должен был состояться суд над Козаченко. Он как-то подошел ко мне и сказал: “Послушай, Бейлис, весь мир знает, что ты невиновен. Когда меня выпустят, я сделаю для тебя все, что смогу. У меня есть достаточно информации от заключенных, которые знают настоящих убийц”.
На суде его оправдали. Он вернулся на ночь в тюрьму. Утром, когда он уходил, я дал ему письмо для моей жены. Я написал, что податель этого письма расскажет ей мои новости.
Все это было в среду. В пятницу вечером меня вызвали в контору. У меня было плохое предчувствие. Меня встретили два чиновника – инспектор и еще один. Инспектор спросил:
“Вы писали письма семье?”
Сначала я не знал, что сказать. Все мои подозрения пали на Козаченко, который с самого начала казался мне подозрительным. Я решил, что, наверное, это он передал мое письмо чиновникам, чтобы заслужить их благосклонность. Я не подозревал охранника в предательстве. Тем более что он принес мне ответ. Поэтому я не хотел создавать ему проблем и сказал инспектору: “Я передал письмо с Козаченко”. В ответ он прочитал мне оба письма, в том числе то, которое я дал охраннику. Я понял, что это была западня, подстроенная мне с самого начала охранником, чтобы заполучить мои письма и отдать их начальству. Мне приказали вернуться в тюрьму.
Часа через два, в пятницу вечером, когда все правоверные евреи сидели за праздничными столами и пели “змирот”, дверь нашей камеры открылась, и мне строго приказали: “Соберите вещи и следуйте за мной”.
Я взял свои вещи, и меня привели в маленькую камеру, в которой было невероятно холодно. Я осмотрелся: в камере никого не было. Я умолял охранника дать мне хотя бы матрас. Он ответил: “Завтра, но это не важно. Ты ночью умрешь”.
Он закрыл дверь. Я сидел на холодном, мокром полу и дрожал от холода. В непередаваемых страданиях я ждал наступления утра. Мысли о письмах не покидали меня. Я боялся, что раз письма попали в руки чиновников, они могли арестовать мою жену. Утром пришел помощник смотрителя. Я умолял его либо приказать обогреть камеру, либо отдать приказ застрелить меня и положить конец моим мучениям.
От ответил: “Сам я не могу ничего сделать. Я попрошу указаний. Подождите час”.
Он вернулся через час, и меня перевели в маленькую, но теплую камеру.
Я ждал воскресенья. Пришло воскресенье, но никого не было, и продуктовой передачи тоже не было. Я был уверен, что мою бедную семью арестовали. Возможно ли, что на свободе не осталось никого, кто мог бы обо мне позаботиться? Я слышал детские голоса в тюремном дворе, и мне казалось, что это голоса моих детей. Я думал, что их и жену бросили в тюрьму.
В понедельник пришел сам смотритель. Я спросил: “Почему я ничего не получил в воскресенье? Из-за писем?”
От ответил: “За письма Вы получили “строгое заключение”. Это запрещено. Что касается продуктовой передачи, это не наша вина: очевидно, что-то произошло у Вас дома. Я выясню”.
Я воспользовался случаем и попросил прислать еще одного человека в камеру – приличного человека, потому что от одиночества можно сойти с ума. Он пообещал удовлетворить мою просьбу и ушел.
Через час в камеру ввели двух молодых людей. Их ноги и руки были скованы цепями. У них был довольно дикий вид. Наверное, убийцы. Я бы с радостью отказался от их компании. Но мне пришлось скрыть свои чувства и смириться. Все равно ничего нельзя было сделать.
Прошло еще несколько дней. Однажды утром мне вручили письмо от жены. Она писала, что плохо себя чувствовала, не могла прийти сама, поэтому передает деньги. Меня подбодрило, что они все дома. Но почему я в тюрьме? Что со мной сделают? Сколько времени будут продолжаться мои несправедливые, незаслуженные мучения? Когда наступит конец моим несчастьям?
Эти вопросы не оставляли меня. Я весь день двигался, как выживший из ума человек. Неужели никто не возьмется за мое дело? Неужели нельзя ничего сделать для моего освобождения?








