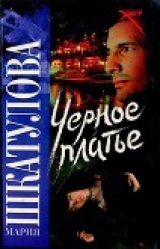
Текст книги "Черное платье"
Автор книги: Мария Шкатулова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
Вот почему Зоя Петровна, сделав строгое лицо и отводя взгляд, ответила Филиппу, что совершенно не представляет, о ком он говорит, потому что "знаете, сколько народу сюда приезжает, всех разве заметишь?" А когда Филипп, которому было известно, что из помещения дежурного можно связаться по внутреннему телефону с любой квартирой, спросил, не может ли она, по крайней мере, разрешить ему позвонить тем одиноким женщинам, которые живут в доме, и задать им один-единственный вопрос, потому что ему совершенно необходимо разыскать эту подругу, Зоя Петровна попыталась сделать еще более строгое лицо, от чего оно стало откровенно злым, и с удовольствием сказала:
– Конечно, нет! У нас не полагается делать такие вещи.
Настаивать было бесполезно. Филипп вышел на улицу, продолжая ощущать на себе взгляд ее маленьких серых глаз. А Зоя Петровна, с удовольствием рассмотрев его затылок, спину и дорогие ботинки, принялась гадать, для чего это он разыскивает Кораблеву, которая, как хорошо было известно Зое Петровне, в этот момент как раз была дома и упаковывала вещи, так как командировка ее подходила к концу.
Все это происходило за два дня до отъезда Филиппу и за десять дней до отъезда Лены Кораблевой. Она тоже много раз звонила Наташе в Москву, чтобы спросить, что за деньги она оставила на полке в шкафу под стопкой носовых платков, и тоже не знала, что с ней случилось и почему она никак не может застать дома ни ее, ни Зинаиду Федоровну, ни Сережу.
* * *
Наташа вернулась от Веры в начале первого.
В квартире было тихо. Наташа приоткрыла дверь в комнату матери и сразу почувствовала запах лекарств. Зинаида Федоровна лежала на спине с закрытыми глазами – она была очень бледна. Наташа села на край кровати и тихо спросила:
– Ты спишь?
Ей показалось, что Зинаида Федоровна хочет что-то сказать – губы ее чуть шевельнулись, но с них не сорвалось ни одного звука. Наташа взяла ее руку в свою, пытаясь нащупать пульс, – рука была вялая и холодная, пульс почти не прощупывался.
Наташа бросилась к телефону, но, сняв трубку, вспомнила, что телефон отключен. Она выбежала на площадку и позвонила в дверь к Людмиле Ивановне. Долго не открывали, потом Наташа услышала за дверью шаркающие шаги, и недовольный голос спросил:
– Кто там?
– Тетя Люда, это я, Наташа! Откройте, пожалуйста!
Загремели цепочки и задвижки – на пороге показалась Людмила Ивановна в ночной рубашке.
– Тетя Люда, простите, ради Бога, разрешите мне от вас вызвать скорую? Маме плохо.
– Ох, Господи! Беги скорее к матери. Я сама позвоню. Что с ней?
– Не знаю, кажется, сердце…
Наташа вернулась в квартиру. Зинаида Федоровна по-прежнему лежала на спине, но глаза ее слегка приоткрылись. Наташа подошла к ней и наклонилась к самому лицу: ей показалось, что мать хочет что-то сказать.
– Мамочка, я здесь, с тобой. Сейчас приедет врач.
Зинаида Федоровна снова сделала попытку что-то произнести, и снова у нее не хватило сил.
– Сейчас, сейчас… Не волнуйся, ничего не говори. Сейчас приедет "скорая". Все будет хорошо.
"Господи, помоги!"
"Скорая" не спешила. Наташа открыла окно, чтобы впустить в комнату свежий воздух, и с улицы запахло молодой листвой. Потом в дверь постучалась Людмила Ивановна и тихо спросила:
– Не приехали еще?
– Нет. Не знаю, что делать, – прошло уже двадцать минут.
– Ну, к старикам-то они не спешат…
– К кому же они спешат?
– Сейчас их на молодых-то не хватает! А старикам все равно помирать.
– Тетя Люда!
– Ладно, ладно… Ты смотри, чтоб кардиограмму сделали. Сережа-то где? Нашелся?
– Да. Он спит.
– Где пропадал-то?
– С мальчиками из класса.
– Ты ему уши-то надери! Вот мать-то, небось, из-за него и слегла – нанервничалась. Она прошлой ночью бледная была… Ох, дети, дети! Вот что значит без отца-то воспитывать.
– Да, тетя Люда, да.
"Зачем она меня мучает?"
Прошло еще пятнадцать минут. Наконец Наташа, услышав, что подъехал лифт, бросилась к двери. Это были врачи, двое мужчин – постарше и помладше. Они задали несколько вопросов Наташе, осмотрели Зинаиду Федоровну, сделали электрокардиограмму и по тому, как они спешили, было видно, что положение серьезнее. Наконец тот, что постарше, просмотрев ленту, сказал, что необходима госпитализация.
Дальше все пошло очень быстро. Пока один врач делал укол, а потом из квартиры Людмилы Ивановны звонил в больницу, чтобы договориться о приеме больной, другой спустился за носилками и вернулся вместе с водителем, который помог донести Зинаиду Федоровну до машины. Оттого что они так торопились, Наташе было особенно страшно, но она не задавала вопросов, чтобы не мешать. Потом она бежала за ними по лестнице, чтобы объяснить им, что эта седая женщина, которую они несут, – самый близкий, самый дорогой на свете человек, что если с ней что-нибудь случится, она…
"Нет, нет, Господи, пусть я никогда больше не буду счастлива, только бы мама осталась жива и любила меня по-прежнему…" – молилась Наташа, пока врачи делали свое дело.
Наташа попыталась было поехать с ними, но ее не взяли, и она, узнав адрес больницы, бросилась наверх, попросила Людмилу Ивановну зайти утром к Сереже, дать ему лекарство, сказать, что произошло, но не очень пугать его, а потом опять запереть до ее возвращения, потом заняла у нее немного денег, оставила ключ от квартиры и бросилась в больницу на такси.
* * *
В реанимационное отделение, куда положили Зинаиду Федоровну, ее не пустили, а велели ждать дежурного врача, который появился минут через тридцать и сказал, что это инфаркт, но не самый тяжелый, что первая и необходимая помощь ей уже оказана и что Наташа может спокойно ехать домой. Наташа осталась. Она устроилась на единственном, заляпанном масляной краской стуле, который стоял под лестницей у входа в приемный покой, и стала ждать.
Была уже глубокая ночь, когда проходившая мимо нее старая нянечка в белом халате, перевязанном на пояснице шерстяным платком, пожалев ее, обещала пойти узнать, как чувствует себя Зинаида Федоровна, и, вернувшись через несколько минут, сообщила, что все хорошо: больная спит и будет спать до утра, там дежурная медсестра, которая за всем следит и в случае надобности обязательно позовет доктора.
– Иди, милая, иди домой, поспи. А завтра придешь. Или позвони: в отделение-то тебя завтра все равно не пустят. Иди с Богом!
Наташа хотела дать ей денег, но старушка отказалась: "За что? Я тебе ничего не сделала", – и улыбнулась беззубым ртом.
– Как же не сделали? Сходили, узнали, а ведь сейчас ночь – вам, наверное, тоже спать хочется. Возьмите, нянечка!
– Так и что ж, что ночь? Я ночью не сплю, старая стала. И денег твоих не возьму, они тебе самой сейчас пригодятся: тому дать, этому дать. Иди, милая, Христос с тобою.
Наташа не знала, как поступить. Оставить мать одну и уехать она боялась, но мысль о Сереже, запертом в пустой квартире, пугала ее еще больше. "Вдруг он проснется и увидит, что никого нет? Положим, он все равно заперт и уйти не сможет, но если ему станет плохо?.."
Она вспомнила страшные кадры из роликов, которые всю зиму крутили по телевизору – молодой человек в состоянии наркотической абстиненции выбрасывается из окна, и крик его гулко разносится подвору, – и решилась. "Врач сказал, что положение не очень тяжелое, и потом, она не одна, там медсестра. Съезжу домой, а утром вернусь. Может, хотя бы немного посплю, иначе завтра не будет сил: я не сплю уже третью ночь.
Наташа вышла на больничный двор. Небо начинало понемногу светлеть. Пахло землей и молодой листвой. Наташа глубоко вдохнула прохладный ночной воздух и вышла на проспект, освещенный желтыми фонарями. По влажному асфальту проносились редкие машины. Был тот час перед рассветом, когда жизнь ненадолго замирает перед началом нового дня. Ей удалось остановить частника, ехавшего в старом "москвиче", в котором пахло бензином и кислой капустой. Хозяин "москвича" довез ее до дому, не проронив ни слова.
Сережа спал. Она сбросила с себя одежду и пристроилась рядом с ним, чтобы не быть одной.
* * *
Сережа проснулся от жажды и оттого, что ему было тесно лежать. Он встал, стараясь не разбудить мать, и босиком прошлепал в кухню, чтобы налить себе воды. Дверь в бабушкину комнату была открыта, но самой бабушки почему-то не было. Он посмотрел на часы – было шесть. Куда бы она могла уйти так рано, и почему мама спит на его кушетке? Вдруг он заметил на тумбочке возле кровати две разбитые ампулы и одноразовый шприц и испугался. Что-то случилось. Что-то случилось с бабушкой, пока он спал. Голова раскалывалась. Какой сегодня день? Кажется, вторник. Или уже среда? Может быть, пока мама спит, взять шприц? Зачем? Разве он не собирается завязывать? Ведь он решил слезть с иглы. Он решил… Разве ему дадут теперь это сделать? Теперь его уже не оставят в покое. К тому же он должен Сверчку. А денег нет. И взять их негде. Он вспомнил, как с ним говорила мама, когда он вернулся: она даже не ругала его. Сашка Паринов из его класса тоже ворует деньги у родителей. Но они богатые. У Сашкиного отца свой бизнес. Он много раз видел, как тот приезжал за Сашкой в школу на шикарном «мерсе». Но и бил же он Сашку! И вообще Сашка говорил, что он жуткая сволочь. А у мамы никогда нет денег. И пенсия у бабушки совсем маленькая. Где же она может быть, бабушка? Вдруг она умерла? Вдруг она умерла из-за того, что он не пришел ночевать?
Она никогда ни на что не жаловалась и не ныла, как, например, противная бабка Пашки Кузьменко, которая всем, даже его одноклассникам, рассказывала про свои болезни. Но ведь мама говорила, что у бабушки больное сердце, и всегда ругала ее, когда та приносила тяжелые сумки или мыла пол. А в прошлом году, когда бабушка болела, мама даже подрабатывала домработницей у каких-то людей, потому что были нужны дорогие лекарства. Ни ему, ни бабушке она, конечно, ничего не сказала, и он узнал об этом случайно, от одного парня из параллельного класса, который жил рядом с этими людьми и видел маму. Он тогда попытался подразнить его, и пришлось набить ему морду, и Сережа вспомнил, как во время драки он разбил себе костяшки пальцев об его голову. Матери он тогда, конечно, ничего не сказал – разве можно было сказать ей, что он подрался из-за нее? Мама тогда отругала его за драку, а бабушка, когда мама вышла, сказала, что если он дрался за дело, то он прав, потому что он мужчина и должен уметь за себя постоять.
Она всегда привозила ему в лагерь пирожки, которые пекла сама, и вкуснее их не было ничего на свете, а когда он болел и мама была на работе, читала ему или рассказывала, как во время войны была в эвакуации со своей мамой, его прабабушкой: сперва в Фергане, где было не очень голодно, потому что там было много урюка, а потом в Куйбышеве; и как вскоре после войны она познакомилась с дедушкой. И хотя Сережа знал всю эту историю наизусть, он ужасно любил, когда она про это рассказывала. А теперь он не знает, что с ней. И мама. Ей тоже плохо. И еще к тому же он украл у нее деньги. И тогда, перед ее отъездом, когда Дмитрич дал для нее триста долларов, он взял себе сотню. И неужели действительно она взяла вчера денег у Ю. Д.? Не может быть! Не могла она так унизиться перед ним после всего, что произошло. Это она наверняка сказала нарочно, из-за него.
Думать об отце было больнее всего. Ведь он прочитал письмо, которое мама оставила под подушкой. Странное письмо. Можно было подумать, что она собиралась… Нет, конечно, но все-таки странно. Почему она просто не рассказала ему обо всем? Зачем понадобилось писать такое письмо? Да и вряд ли мама так уж хотела, чтобы он его прочитал. Ведь оно было заклеено и лежало у нее под подушкой. И если бы днем он не проснулся, не перебрался к ней в комнату, не лег на ее кушетку и не просунул бы руку под подушку, как делал всегда, чтобы скорее заснуть, когда был маленький или болел, он бы это письмо не нашел. И пока мама не заметила, надо его снова заклеить. Но все равно, хорошо, что теперь он знает, что произошло, знает, как Ю. Д. ушел от них. Зачем он так поступил с ним и с мамой? Пусть скажет – зачем? Впрочем, к Ю. Д. он больше не пойдет. Ни за что. Ну да, не пойдет он, как же… а деньги? Где он возьмет деньги, чтобы рассчитаться со Сверчком? Может быть, продать что-нибудь из того, что привезла мама? Она простит, если узнает, зачем это нужно. Или сказать ей? А что она сможет сделать? Опять пойдет мыть пол к каким-нибудь жлобам? Ну уж нет! Что же делать? Ничего. Он влип. Влип. Жалко маму. Жалко бабушку. Жалко себя.
Сережа сел на кровать и заплакал.
В начале седьмого Наташа проснулась. Сережи рядом не было. Она вскочила с кушетки, но сразу же вспомнила, что ключ от нижнего замка она спрятала. Сережа сидел в бабушкиной комнате, и ей показалось, что он украдкой вытер глаза. Она села рядом с ним.
– Сережа, мы можем поговорить?
– Где бабушка?
– Бабушка в больнице.
– Почему?
– Ночью ей стало плохо с сердцем. Я должна сейчас, ехать к ней.
– Я тоже поеду.
– Сережа, к ней все равно не пускают…
– Почему?
– Потому что она в реанимации, а туда нельзя.
– Почему в реанимации? Что с ней?
– Врач говорит, что это не опасно.
– Тогда почему она в реанимации?
– Потому что у нее был инфаркт. Так полагается.
– Тогда зачем ты туда поедешь?
– Чтобы узнать, как она и не нужны ли какие-нибудь лекарства.
– А деньги?
– Я заняла немного у тети Люды. Сережа, мы сейчас не будем говорить о деньгах. Мы должны решить с тобой гораздо более важные вещи.
– Какие?
– Например, могу ли я тебя оставить одного? Или попросить тетю Люду, чтобы она посидела с тобой? Я скажу ей, что ты заболел.
– Зачем?
– Чтобы ты не оставался один.
– Я останусь без всякой тети Люды.
– С тобой ничего не случится?
– Что со мной может случиться?
– Ты забыл, как тебе было плохо?
– Не забыл. Но сейчас этого нет, не бойся.
– Ты уверен?
– Уверен. Поезжай.
– Я думаю, что скоро вернусь, и мы сходим к Аркадию Николаевичу.
– К какому еще Аркадию Николаевичу?
– Это врач, который вчера у тебя был. Он тебе понравился?
– Не знаю. Зачем?
– Это же он тебе помог. И еще поможет.
– Мне больше ничего не нужно. Я не пойду.
– Что значит – не нужно?
– Это значит, что я больше не буду… колоться.
Наташа замерла.
– Сережа, разве ты можешь это знать? Я хочу сказать, разве ты можешь ручаться?
"Господи, помоги моему мальчику! Помоги маме и моему мальчику, пожалуйста, Господи…"
Сережа опустил голову и тихо сказал:
– Могу.
Наташа уткнулась лбом к нему в плечо и всхлипнула.
– Мам, не плачь. Пожалуйста, не плачь. Лучше поезжай скорей к бабушке.
– Да. Да. – Она старалась сдержать слезы. – Сережа, ты возьми там что-нибудь поесть, потом я приготовлю обед.
– Не волнуйся, я не хочу. А если захочу, что-нибудь найду.
– И еще: ты меня, пожалуйста, прости, но мне придется тебя запереть.
– Зачем? Я никуда не денусь.
– Сережа, пожалуйста, так мне будет спокойней.
Сереже не очень нравилась перспектива сидеть взаперти, но, с другой стороны, его это избавляло, по крайней мере, на какое-то время, от необходимости решать свои проблемы. Да и в школу, если он будет заперт, идти ему явно не придется. И долги отдавать тоже. Так что, если матери так легче, пусть запирает. Он подождал, пока она ушла, и, взяв с полки томик Селинджера, лег на кушетку.
С Зинаидой Федоровной все обстояло не так хорошо, как пытался представить дежурный врач, Владимир Георгиевич, который не любил, когда в коридоре его ждали родственники больных со своими вопросами и беспокойствами. Он знал, что у больной Лиевиной 3. Ф., 65 лет, доставленной в реанимационное отделение 2-й кардиологии в карете «скорой помощи» сегодня ночью, был инфаркт задней стенки, что у нее сильная аритмия и находиться в реанимации ей придется не меньше недели, а дочери ее, которая полночи просидела в коридоре на стуле и утром примчалась в больницу ни свет ни заря, придется покупать дорогие лекарства, потому что в больнице их нет, и, возможно, придется даже ухаживать за матерью или платить большие деньги сестрам, которых в отделении не хватало и они очень хорошо знали себе цену. Впрочем, думал он, глядя на Наташу, эта будет ухаживать сама, днями и ночами, и будет смотреть на него вот так, умоляющими глазами, и матери ее не придется лежать одной, всеми забытой, как лежат здесь многие старухи…
И Наташа поселилась в больнице. Облачившись в халат, выделенный ей сестрой-хозяйкой, она дежурила возле кровати Зинаиды Федоровны: следила за показаниями приборов, напоминала сестре, что пришло время делать инъекции, давала пить с ложечки, держала мать за руку и, наклонившись к ней, шептала какие-то слова, чтобы хоть как-нибудь утешить ее и согреть. Когда у нее самой уже не оставалось сил, она устраивалась поспать часа на два в маленьком закутке, где стояла медицинская кушетка, покрытая холодной клеенкой, и, накрывшись с головой старым пледом, принесенным из дома, молилась, как умела, за мать и за сына, а засыпая, всегда видела один и тот же сон: Париж, платаны, мокрые от дождя, музыка и его взгляд, полный любви. Когда она просыпалась, ресницы ее были влажны от слез, но она не позволяла себе думать ни о чем, что не относилось бы к реальной жизни, и, смахнув слезы, возвращалась в палату, где, опутанная трубками и проводами, лежала ее мать.
Дома она почти не бывала. Людмила Ивановна вызвалась помочь и готовила для Сережи еду. Он по-прежнему соглашался сидеть взаперти, без телефона, за который Наташа вполне сознательно до сих пор не заплатила (так ей было спокойнее за Сережу), и у нее, измученной бессонными ночами, сил оставалось только на то, чтобы, забежав ненадолго домой, спросить: "Я могу быть спокойна? С тобой ничего не случится?"
Сережа отворачивался и досадливо повторял: "Мам, я же сказал". И она верила, потому что ничего другого ей не оставалось: заглянуть к нему в душу она не могла. Она понимала, что не владеет ситуацией, не знала, как себя вести с ним. Не знала, например, надо ли просить его вымыть посуду, убраться в квартире, настаивать ли на том, чтобы он позанимался химией, которая у него хромала, или оставить его в покое, довольствуясь тем, что он соглашается оставаться дома. Она с ужасом представляла себе тот момент, когда он потребует выпустить его на свободу. И пока он был дома, она обращалась с ним, как с дорогой фарфоровой статуэткой, которую не знаешь, куда поставить, чтобы она не разбилась от случайного прикосновения.
Наконец Зинаиду Федоровну перевели из реанимации в общую палату на восемь коек, где лежали больные старухи. К одной из них приходила дочь, толстая румяная женщина лет сорока пяти в ярких кофтах. Она говорила матери «вы» и кормила ее котлетами. К другой приходил сын, невысокий, худой и застенчивый человек с лысиной и в слишком просторных для его фигуры штанах. Он выкладывал на тумбочку маленькие зеленые яблоки и тихо говорил: «На вот, ешь фрукты». А к остальным не приходил никто, и Наташа, которой пришлось занять еще денег, старалась сделать хоть что-нибудь для каждой из них. Она смотрела на их старые лица, на руки с набухшими венами, и сердце ее сжималось от жалости к несчастным, никому не нужным старухам.
Она похудела, под глазами у нее залегли глубокие тени, и даже волосы потеряли свой обычный блеск. Она все это знала, потому что иногда смотрела на себя в небольшое прямоугольное зеркало, висевшее в палате над умывальником, и чем хуже она выглядела, тем, казалось, с большим удовольствием оглядывала свое лицо.
"Пусть, пусть я буду старая, страшная, лишь бы мама была здорова и лишь бы с Сережей все было хорошо".
Похоже, что тот, кому были адресованы эти слова, сжалился над ней наконец, потому что настал день, когда Владимир Георгиевич, которого она встретила однажды утром в больничном коридоре, сказал, что скоро Зинаиду Федоровну можно будет выписать. В этот день Наташа впервые ночевала дома.
* * *
Это был первый по-настоящему теплый день. Наташа вместе с Сережей принялась за мытье окон: к возвращению Зинаиды Федоровны надо было привести квартиру в порядок. Протирая стекла газетой, Наташа поймала себя на том, что тихо напевает какую-то мелодию. Это была песенка в исполнении Эдит Пиаф, которую они с Филиппом слушали, сидя на маленьком скверике у фонтана в центре Парижа. Она доносилась из открытого окна, в котором сидела ужасно смешная тощая черно-белая кошка. Филипп сказал тогда, что песенка называется «La vie en rose»[10]10
«Жизнь в розовом цвете» (фр.).
[Закрыть] и что содержание ее соответствует моменту…
"Не думать, не думать, не думать! Заберу маму из больницы, и жизнь как-то наладится…" – говорила себе Наташа и принималась с остервенением тереть стекло, пока оно не начинало скрипеть.
Надо было подумать о насущных делах. Ей предстояло поговорить с Аркадием Николаевичем, сходить на работу, чтобы задним числом оформить отпуск за свой счет, сбегать в школу, где через два дня заканчивались занятия, и договориться, чтобы Сережу аттестовали или, если нужно, назначили переэкзаменовку на осень. Надо было срочно встретиться с Ленкиным жильцом и забрать квартплату за май. Из этих денег придется отдать накопившиеся за это время долги и немного оставить на жизнь, потому что до зарплаты еще далеко. Конечно, было не совсем удобно перед Ленкой, которой она оставила тысячу долларов вовсе не для того, чтобы потом забрать. Но иначе не получалось: Зинаиду Федоровну с Сережей необходимо было отправить на дачу, а дача стоила немалых денег. Поэтому – ничего не поделаешь! – придется обо всем, рассказать Ленке: о проделках бывшего мужа, о его поручениях, о черном платье и, главное, о своем несостоявшемся романе…
Наташа ясно представила себе, как Ленка, узнав обо всем, непременно скажет: "Я же говорила!"
Впрочем, все это было не так важно – главное, что мама скоро будет дома и что Сережу надо как можно скорей увозить из Москвы.
На следующий день они отправилась в школу. Это было двадцать пятое мая, день последнего звонка. В школьном дворе группками стояли старшеклассники. Наташа украдкой взглянула на Сережу, с которым она повздорила накануне вечером, – он ни за что не хотел идти вместе с ней и согласился только тогда, когда она разрешила ему надеть привезенные из Парижа брюки, сидевшие на нем так, будто были на несколько размеров велики, – и у нее невольно сжалось сердце. Над вырезом майки на тонкой мальчишеской шее выступали позвонки, и он казался ей трогательным и беззащитным.
Наташа остановилась у ворот, глядя, как Сережа подошел к своему однокласснику, Вовке Немыкину, и по-взрослому поздоровался за руку. Она знала, что у Немыкина нет отца, а мать, высокая, худая, рано постаревшая женщина, едва справляется с ним. Потом к ним присоединился Саша Паринов, у которого отец как раз был и еще какой – поговаривали, что у него то ли собственное казино, то ли ресторан и что он бьет своего сына за малейшую провинность. Она смотрела им вслед и пыталась представить себе, о чем они говорят, о чем думают, чего хотят. Как это узнать? Как проникнуть в их закрытый мир? Как им помочь? Наташа стояла, пока двери школы не закрылись за ними, потом повернулась и быстрыми шагами направилась в диспансер. Через три с половиной часа им предстояло встретиться на том же месте.
Дальше все произошло очень быстро.
Она вошла в телефонную будку и позвонила Ленкиному жильцу. Виктор был дома и сказал, что готов встретиться в любую минуту. Они договорились, что она перезвонит, как только будет свободна.
Аркадий Николаевич, которого она, к счастью, застала в диспансере, подтвердил, что Сережу хорошо было бы увезти из Москвы. "Раз он у вас так спокойно перенес двухнедельное заточение, – сказал он, – значит, психологическое привыкание еще не наступило. А оно гораздо хуже поддается лечению, чем физическое. Так что вам ни в коем случае нельзя терять бдительность – еще одна, максимум две дозы, и тогда бороться с этим будет намного сложнее. К концу недели я постараюсь зайти и посмотреть на него".
Окрыленная надеждой, Наташа побежала в больницу. Зинаида Федоровна готовилась к выписке: ее немногочисленные пожитки были аккуратно сложены, на тумбочке царил столь любимый ею порядок. Поцеловав Наташу, она сказала: "Похоже, завтра меня выписывают. Как ты думаешь, что, если мне на следующей неделе сходить в парикмахерскую?"
Когда Наташа подходила к школе, прозвенел звонок: его было слышно даже на улице. "Дождусь Сережу, а потом поговорю с классной руководительницей", – подумала она, прислушиваясь к тому, как школьное здание наполняется звуками. Распахнулись двери, и дети, галдя, начали выбегать во двор навстречу долгожданной свободе. Вышли две девочки из Сережиного класса, Маша и Ира, потом по ступенькам лениво спустился Володя Немыкин, волоча за собой тощий рюкзак, потом Саша Паринов, потом показался Валера Плетнев, отличник, с которым Сережа сидел за одной партой. Когда он поравнялся с Наташей, она спросила:
– Сережа скоро выйдет?
– А его нет…
Наташа почувствовала, что у нее слабеют ноги.
– Как – нет? А где он?
– Ушел…
– Как ушел? Куда?
– Не знаю… Спросите Сашку Паринова. – Он кивнул в сторону ворот.
Наташа бросилась за Париновым.
– Саша, где Сережа?
– Не знаю, он ушел после второго урока. Сказал, что по делу. Да вы не волнуйтесь, он сейчас вернется!
Наташе казалось, что он старается не смотреть ей в глаза.
– Скажи правду: куда он пошел?
– Да не знаю я! Он только сказал, что придет к концу уроков, и все.
Мальчик явно нервничал.
– Валера Плетнев сказал, что тебе что-то известно…
– Ничего мне не известно! Просто мы с Серегой на перемене были вместе, вот и все.
– И он ничего тебе не сказал?
– Сказал, что ненадолго смоется по делу, а к концу уроков вернется.
– И все? А по какому делу, не сказал? – Наташа пристально посмотрела на него.
– Не-а!
Было ясно, что больше она от него ничего не добьется. Ей оставалось только ждать – в надежде на то, что Сережа действительно появится и все объяснит. Она вернулась во двор и села на скамейку, не сводя глаз со школьных ворот.
Прошло полчаса, потом еще. Наташа уже ни на что не надеялась. "Он знает, что я его жду. Раз он не пришел, значит, что-то случилось".
Она продолжала сидеть, машинально глядя, как девочки играют в "резинку". Мимо нее прошел кто-то из Сережиных учителей – Наташа сделала вид, что не заметила, и отвернулась. Что она могла им сказать?
Вскоре школьный двор опустел.
"Надо идти. Надо встать и идти. Вдруг он ждет меня дома?"
Она уговаривала себя, но продолжала сидеть, потому что ей казалось, что она не сможет удержаться на ногах.
"Он вполне может ждать меня дома, у него есть ключ. Что я сижу? Он мог просто забыть, что мы договорились встретиться здесь…"
Она поднялась со скамейки и медленно, чтобы оттянуть страшный момент, когда ей придется убедиться в том, что дома его нет, и еще потому, что от страха у нее подкашивались ноги, направилась к дому.
В квартире было чисто, пусто и тихо. Она вошла в свою комнату, скинула туфли и легла. Ее слух фиксировал звуки, доносящиеся с улицы, – проехала машина, потом еще одна, потом залаяла шотландская овчарка из дома напротив, потом опять проехала машина, потом женский голос крикнул: «Владик, я тебя жду, ты идешь? Владик!»
Она лежала и повторяла про себя: "Как он мог? Как он мог? Значит, он лгал мне все это время. Лгал мне, бабушке. Боже мой, что я скажу завтра маме? Что с ней будет? Он же знал, знал, что она больна, что ей нельзя волноваться. Как он мог?"
Она повернулась на бок, поджала под себя ноги и с головой накрылась одеялом.
Она проснулась от бившего ей в глаза яркого солнца. «Господи, уже седьмой час! Что я лежу? Надо бежать, надо искать Сережу. Но куда я пойду? В милицию? Бесполезно. Никто не станет им заниматься».
Что было делать? Сидеть и ждать, пока он вернется? Вечером, ночью или рано утром, как прошлый раз? Ей было страшно даже представить себе это ожидание в одиночестве. А если с ним что-нибудь случилось?
Она подумала о матери. "Она не должна ничего знать. Если Сережа не вернется к утру, я не смогу забрать ее из больницы. Господи, за что все это? За что?"
Она в отчаянии металась по квартире, не зная, что предпринять: то бросалась к шкафу, чтобы, неизвестно зачем, выбрать себе какую-нибудь более подходящую одежду из своего скудного гардероба, то к окну – посмотреть, не идет ли Сережа, то, услышав, что на площадке останавливается лифт, бросалась к входной двери. В конце концов она снова села на кушетку и разрыдалась. И, плача, вспомнила все: вспомнила ошу-щение страшного одиночества, которое она испытала, когда от нее ушел муж; вспомнила, как было страшно, когда тяжело болел маленький Сережа; вспомнила, как она мыла полы и носила бутылки с боржоми, когда работала в семье новых русских в позапрошлом году; вспомнила, как в парижском аэропорту… Нет, только не это. Она не будет себя жалеть, она не имеет права. Сейчас она встанет и пойдет.
Наташа вдруг поймала себя на странном ощущении: на мгновение она почувствовала, что жалеет о смерти своего бывшего мужа. Если бы он был жив, ей было бы к кому пойти. Она бросилась бы перед ним на колени и умоляла помочь ей. Любой ценой. Или… или убила бы его еще раз, о Господи.
Наконец она собралась с силами и побежала в милицию, где в тот день дежурил старший лейтенант Машакин, большой любитель женского пола. Увидев входящую в отделение хорошенькую дамочку, он приосанился и даже слегка поправил свои густые русые волосы. Однако, услышав, что дамочка разыскивает своего малолетнего сына-наркомана, интерес к ней потерял и даже немного подпортил себе настроение, объясняя, что искать «пацана» никто не станет, так как, во-первых, он никуда и не пропадал, а сидит себе спокойно где-нибудь в подвале и нюхает клей или колется, а потом придет домой как ни в чем не бывало. А не придет сегодня, так придет завтра. А во-вторых, не для того существует милиция, чтобы гоняться за каждым, кому хочется делать то, что не следует. «Понятно? И раньше чем через три дня сюда и ходить нечего – все равно заявление у вас никто не примет».
Потом Наташа снова побежала к школе. Двор был закрыт, и только несколько подростков, сидя на приступке ограды, пели под гитару: "Дом стоит, свет горит, из окна видна даль, так откуда взялась печаль?.."
Оставался пустырь, где часто собирались Сережины одноклассники, но и там, кроме нескольких собачников, не было никого. Наташа побродила еще около часа по окрестным переулкам и без сил вернулась домой.
Опять потянулись мучительные часы ожидания. Она то прислушивалась к каждому шороху, доносящемуся с лестничной клетки, то подбегала к окну, услышав голоса поздних прохожих, то без сил ложилась на постель. В какие-то моменты ей, как ни странно, удавалось ненадолго заснуть, и каждый раз, просыпаясь, она смотрела на часы, и ей казалось, что замедлился обычный ход времени, потому что утро не наступало. Или наоборот, она вскакивала в холодном поту, с ужасом представляя себе новый день со всеми его проблемами, которые через несколько часов неизбежно обрушатся на нее.






