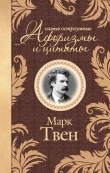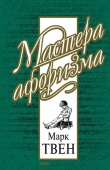Текст книги "Марк Твен"
Автор книги: Мария Боброва
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 31 страниц)
Оценивая современное состояние Гавайи, Твен имеет в виду «экономическое и моральное положение масс», неодобрительно отзывается о деятельности американских чиновников и миссионеров в Гавайе, говорит об эксплуатации местного населения белыми. В «Записной книжке» того времени у него имеется нарочито дерзкая фраза: «Нет туземных воров… Множество миссионеров и много шума для спасения этих 60 тысяч человек, – столько, что можно было бы обратить в христианство сам ад»[150]150
«Mark Twain's Notebook», p. 20.
[Закрыть]. И намек на то, что миссионеры вполне заменили туземных воров.
И все же имеется некоторый оттенок высокомерия в описаниях быта гавайцев американским журналистом: Твен высмеивает историю и мифологию «канаков» (гавайцев), глубокого интереса к народу не проявляет, воспринимает все с внешней стороны. В его манере чувствуется превосходство белого над туземцами и легкая издевка над ними.
Пройдет тридцать лет. В книге «По экватору» (1897) Твен выразит свое, коренным образом изменившееся, отношение к народам колониальных стран. Белых он будет называть «негодяями», «убийцами»; мужеством, красотой, талантами туземцев будет восхищаться. Но для этого Твену понадобится огромный общественно-политический опыт, который накопит человечество к концу XIX века.
«Драчливая Невада» занимает в книге главное место. В Неваде все агрессивно. Даже тарантулы. «Они хватали солому и вонзали в нее свои челюсти, точно члены конгресса», – язвительно повествует юморист.
Твен создает художественную историю штата. В предисловии он пишет, что книга посвящена «началу, усилению и полному расцвету серебряной лихорадки в Неваде – в некоторых отношениях очень любопытному времени, единственному в своем роде, которое вряд ли когда-либо повторится».
Ухватить покрепче «счастливый случай», внезапно разбогатеть – эта идея владела в начале 60-х годов десятками тысяч людей. Твен приехал в Неваду до того, как стало известно об открытии серебряных залежей в штате, стал свидетелем безумств окружающих людей.
«Я был бы нечто большее или меньшее, чем человеческое существо, если бы не обезумел, как все остальные, – признается Твен. – Телеги, полные плотных серебряных слитков величиною со свинцовые чушки, каждый день приезжали с рудников и придавали реальность безумным россказням. Я не выдержал и потерял рассудок…»
Твен описывает обогащение извозчиков, рудокопов, владельцев ранчо, телеграфистов, узнающих тайны раньше адресатов, бесчисленных спекулянтов акциями и земельными участками; рисует мир произвола еще несформировавшегося общества. «Соление» рудников (когда бедную руду выдавали за богатую), мошенничества с акциями, насилия и убийства на каждом шагу – таковы нравы Невады.
Беспощадная и жестокая конкуренция огрубляла естественные человеческие чувства и прививала ложные представления: убийство считалось необходимым для «общественного» признания; в Неваде приобретал уважение тот, кто убил человека.
Почетом были окружены десперадо – «герои револьвера», у каждого из которых было «собственное частное кладбище» для убитых. Твен рисует целую галерею невадских десперадо: Рябой Джон, Шестипалый Пит, Джонни-Эльдорадо. Знаменитому в Неваде Следу Твен посвящает несколько десятков страниц, не скрывая своего изумления перед его отчаянной отвагой.
Описывая случаи бесчисленных кровавых расправ, беззаконий и самосудов, Твен все время употребляет в ироническом смысле выражения: «благодатные времена», «добрые старые времена», подчеркивая свой антиромантический подход к действительности. Твен рассказывает о судьях Невады того времени. Они не осуждают за убийство, иначе к суду нужно было бы привлечь весь город; сами присяжные на суде – убийцы.
Твен подчеркивает, что он, невадский журналист, был в то же время такой же, как и все. Описывая свой первый день газетчика, он комически представляет собственное отчаяние по поводу недостатка материала для двух газетных полос. А затем с «ликующей радостью» сообщает, что его «спасло» подвернувшееся убийство. Это обычный твеновский прием – наделять себя недостатками описываемой среды.
Писатель воспроизводит реальные отношения людей между собою в «драчливой Неваде», где человеческая жизнь ничего не стоила. Поиски золотоносных «карманов» (скопления золота в небольших золотоносных гнездах) красочно и драматически описаны Твеном. Люди в погоне за ними часто сходят с ума, творят чудовищные преступления.
Нравы Невады 60-х гг., запечатленные Твеном, хорошо объясняют особенности американского юмора – обилие острот по поводу трупов, смерти, убийств. Без изучения нравов Запада наличие подобной тематики может показаться бредовой выдумкой писателя.
Твен понимает, что делало в Неваде и Калифорнии людей жестокими. Там погибал цвет населения в жарких схватках за обладание богатством.
«Ни детей, ни женщин, ни седых и сгорбленных стариков, а только подвижные, прямые, здоровенные молодые великаны с блестящими глазами… А где они теперь? Рассеялись по всему свету, или преждевременно состарились и одряхлели, или погибли под пулями и ножами в уличных схватках… пропали все или почти все – жертвы на алтаре золотого тельца… грустно думать об этом», – пишет Твен.
Вместе с тем он показывает, что даже такая жизнь не в состоянии убить в душе человека добрые чувства. Великан рудокоп, встретив двухлетнего ребенка и восхищенный этой встречей, предлагает родителям на сто пятьдесят долларов золотого песку за возможность поцеловать ребенка. Женщину, едущую в фургоне, рудокопы встречают троекратным «ура», смотрят на нее с обожанием, собирают и дарят ей на две с половиною тысячи долларов золотого песку. В людях живы чувства патриотизма: Твен описывает энтузиазм населения десятков местечек и городов, соревнующихся между собою в щедрости по сбору денег в фонд раненых солдат и матросов Гражданской войны (история с мешком «санитарной муки», проданной – десятки раз – на сумму в четверть миллиона долларов).
Твен всюду ищет лучшего в человеке и находит его. Романтику Дальнего Запада он видит в подвигах людей, обслуживающих этот край. Конные почтальоны, например, скачут девятьсот миль через весь материк в любое время – в жару и холод, ночью и днем, делая на подставных лошадях по двести пятьдесят миль в сутки; доставляют письма от океана до океана (железной дороги еще нет). Твен тщательно описывает одежду почтальона – тонкую плотную фуфайку, узкие жокейские панталоны, отсутствие оружия, отсутствие седла, почтовой сумки – все для облегчения веса; лишь маленькие плоские карманчики, пришитые под ляжками, набиты множеством писем, написанных на тончайшей бумаге. Одного из этих героев Дальнего Запада путешественники встречают бурей восторга, она длится секунду: всадник промелькнул как метеор.
Все это создает в книге неповторимый колорит «любопытного времени», которое уже стало достоянием истории США; Твен воскрешает его в живых образах, ярких картинах и описаниях.
Следует сказать, что Твен ведет в книге литературную полемику с писателями и журналистами Новой Англии, которые утверждали, что люди, отправившиеся на Запад, – отбросы общества; они настолько безнравственны, что им нельзя уже оставаться дома; Запад – это резервуар для людской накипи, женщины там ведьмы или «погибшие», мужчины – отпетые негодяи.
Книга Марка Твена правдива и реалистична по сравнению с этими россказнями. Твен нарисовал картины тяжелого, изнурительного труда (описание примитивнейшего устройства кварцевой толчеи старателей), показал множество лишений и страданий, выпавших на долю людей. Но ничего «дьявольски-фантастического» в этой жизни нет. В массе своей люди сохраняют все же человеческий облик. Все лучшее в их натуре, придавленное грубой жизнью и капиталистической конкуренцией, при малейшей возможности проявляется с удесятеренной силой. Экспансивность людей доходит до крайних пределов, когда есть возможность совершить акт милосердия: не успел член санитарного комитета обратиться к горожанам с предложением собрать пожертвования для раненых воинов, как горняки буквально завалили деньгами телегу, на которой он стоял, произнося речь. Суровая жизнь Запада не до конца убила в людях чувства товарищества, благородства, человечности и воспитала в них выносливость, терпение, сметку, находчивость, отвагу, храбрость.
Что касается «подонков общества», то Твен их находит в другом месте.
«Полисмены и политиканы… самые низкие сводники и подонки общества… в Америке», – заявляет он со страниц книги.
«Правительство моей родины презирает честную простоту, – с горечью констатирует писатель, – зато бездонное артистическое мошенничество оно очень любит».
И он раскрывает одно из «артистических» мошенничеств Дальнего Запада – ввоз дешевой рабочей силы из Китая. Занявшись подсчетами и цифрами, Твен доказывает, что горнозаводские компании в Калифорнии и Неваде платят тремстам китайцам в среднем 1500 долларов в месяц, а тремстам белым рабочим – 30 000 долларов. Есть тысячи людей, которые надеются, – говорит он, – «стать скоро капиталистами», если труд кули здесь закрепится. Китайцы «спокойны, смирны, сговорчивы, не знают пьянства, работают день-деньской не покладая рук». «Белые же… обращаются с ними не хуже, чем с собаками», – с горечью пишет Твен.
Может быть, потому, что «Закаленные» наполнены восприятиями, эмоциями, суждением десятилетней давности, в книге много диссонансов. Дав правильное освещение положению китайских рабочих в США, Твен плохо отзывается об индейцах. О племени гошутов он говорит без тени сочувствия к их судьбе:
«Гошуты – молчаливые люди, крадущиеся с видом предателей… бесстыдные попрошайки». Он отмечает, что гошуты «голодны, вечно голодны», что на почтовую карету напала «толпа скелетов»; и в то же время с пренебрежением белого по отношению к дикарю говорит, что гошуты неимоверно грязны, едят падаль, цикад, кузнечиков, что сами они произошли от крысы и т. д. С каким-то холодным, несвойственным ему удивлением он рассказывает о нищете и лишениях этих несчастных. У них нет деревень, и единственной кровлей индейской семьи является «лоскут, наброшенный на кустарник, чтобы задержать часть снега. А между тем гошуты живут в одной из самых ужасных пустынь, с самой лютой зимой». Твен не задумывается над тем, кто довел гошутов до положения диких, вечно голодных зверей. Он регистрирует факты, объективистски описывает их, не сопоставляя и не делая выводов.
В «Закаленных» много наблюдений, но мало обобщений, более поверхностное восприятие мира, чем, например, в рассказах 1870–1871 годов.
Твен часто гордится точными деталями, воспроизведенными им с натуралистической добросовестностью[151]151
В письме к А. Б. Фербенкс Твен писал в 1868 году: «Ничто не делает меня столь гордым, как мнение умных людей, что я достоверен. Определение, которого я так давно жаждал и которое хотел бы сохранить навсегда! Я не забочусь о том, чтобы быть юмористичным, или поэтичным, или содержательным… наибольшее мое желание – быть достоверным…» (Цит. по книге: G. Bellamy, Mark Twain as a Literary Artist, p. 270).
[Закрыть], например описанием деталей жизни горняков, передачей особенной окраски их речи. Позже он будет сравнивать это свое качество с манерой Брет Гарта, не в пользу последнего: Брет Гарт знал арго шахтеров понаслышке. В своем очерке «Умер ли Шекспир?» (1909) Твен напишет:
«Мне пришлось быть рудокопом на серебряно-кварцевых копях. Это очень тяжелая жизнь; поэтому я знаю все, что касается этой профессии… Я отлично знаю жаргон рудокопов и потому, как только Брет Гарт вводит в рассказ эту профессию, стоит первому из его героев открыть рот, как я уже слышу по первой фразе, что Гарт научился ей не на практике, а понаслышке… Кварцевому жаргону можно научиться лишь с киркой и заступом в руке. Я работал на золотых россыпях и знаю все тайны и жаргон этого ремесла; и когда Гарт вводит его в свои рассказы, я сразу узнаю, что ни сам он, ни хоть одно из его действующих лиц никогда не занималось этой профессией».
Действительно, по сравнению с описаниями Твена Калифорния у Брет Гарта выглядит театральной. Шахтеры Брет Гарта экзотичны, их образы рассчитаны на читателей, не имеющих ни малейшего представления о жизни Дальнего Запада. У Брет Гарта много излишнего сентиментализма, бутафорности и наигранной трагичности в изображении того, что в жизни было проще, грубее и страшнее. «Он принимает железный колчедан мелодрамы и фарса за золотоносный кварц человеческой природы», – пишет о Брет Гарте американский литературовед Джон Мейси и добавляет: «Впервые могучий голос реализма в западной части Америки принадлежал Марку Твену в «Закаленных»[152]152
John Macу, The Spirit of American Literature, N. Y. 1913, p. 256.
[Закрыть]. Того же мнения и М. Д. Берлитц, который в своей «Истории английской литературы» пишет: «Закаленные» – первое реалистическое описание Западной Америки и одна из лучших работ автора»[153]153
M. D. Вегlitz, English Literature with Extracts and Exercises, Berlin, 1922, p. 95.
[Закрыть]. Однако эти суждения буржуазных литературоведов нельзя принимать безоговорочно; они появились спустя полстолетия после выхода в свет книги Марка Твена; в 70-х годах в «Закаленных» видели лишь «гротескное преувеличение и грубоватую иронию» (отзыв У. Д. Тоуэлса).
Несомненно, автор «Закаленных» не свободен от некоторых буржуазных предрассудков. И тем не менее – много реалистической достоверности в этой книге. Твен создал потрясающие картины, описав путь первых эмигрантов в Калифорнию и Неваду по Великой Американской пустыне. Дорога, усеянная разбитыми фургонами, костями волов и лошадей, ржавыми цепями, могильными холмами, – свидетельство страшных человеческих страданий в этой «самой проклятой стране под солнцем». «Под этим определением я охотно подпишусь», – заявляет юный Твен в письме к матери осенью 1861 года.
Твеновское описание Невады и Калифорнии вошло как классическое в книги американских историков левой ориентации[154]154
Например, в книгу Charles A. and Mary P. Bear, The Rise of American Civilisation, N. Y. 1930, v. II, p. 135.
[Закрыть].
В значительной своей части «Закаленные» состоят из рассказов о проделках, анекдотов, пародий, шахтерских преданий, приключений путешественников, курьезов, юмористических контрастов, материализованных метафор типа шуток Дэвида Крокета, шаржированных зарисовок. Книга неотделима от народного юмора.
По эмоциональной окраске «Закаленные» близки к «Простакам». Твен с юношеским энтузиазмом и восхищается и негодует. Необычайное, неповторимое в жизни этой страны его привлекает в первую очередь. Он считает, что наилучшим оформлением такого материала является излюбленный в народном юморе анекдот. Из географии Калифорнии Твен выбирает только курьезы, контрасты погоды, исключительные явления природы. Землетрясение – серия анекдотов, гроза – хвастливый рассказ, пустыня – трагическая история. Твен описывает Дальний Запад как страну, где курьезы и казусы ежеминутно встречаются на пути. Это страна жестокая, хаотическая, но какая-то бесшабашно-веселая. По крайней мере так ее воспринимает молодой Твен.
Видимо, в то время и у самого автора было безоблачное (несмотря на приисковые неудачи), неомраченное мироощущение, и его книга поэтому преисполнена юного, беззаботного юмора.
Пассажиру почтовой кареты, зазевавшемуся на погрузку серебряных слитков, роняют на ногу серебряную болванку. Потерпевший вопит благим матом и между всхлипываниями молит: «Виски, виски, виски, ради бога!» В него вливают полпинты, предлагают снять сапог с раздавленной ноги, но он отклоняет помощь и просит еще виски, чтобы утишить приступы боли. Ему дают две бутылки виски, и он тянет их весь день, развалившись в дилижансе и хихикая над соболезнующей ему толпой: нога-то у него пробковая.
Юмор, рожденный контрастом (смерть – веселое приключение, смерть – повод для смеха)[155]155
Даже в личном быту Твен очень любил юмор такого рода: например, в одном письме к Твичелу Твен употребляет такую фразу: «Я так счастлив, что мне хочется оскальпировать кого-нибудь!» (Clara Clemens, My Father Mark Twain, p. 16).
[Закрыть], много раз используется в книге. Марк Твен целиком в этих случаях сохраняет дерзкий, непочтительный тон народной юморески. Некий Робинс решил надуть назойливого гробовщика, дожидавшегося его смерти. Он покупает у гробовщика гроб за десять долларов с таким условием: если гроб ему после смерти не понравится – гробовщик платит двадцать пять долларов. «Затем Робинс умер. Но на похоронах сбросил крышку гроба, встал в саване и заявил пастору, чтобы тот прекратил представление, потому что он не намерен оставаться в таком гробу». Двадцать пять долларов по суду были взысканы в пользу Робинса.
Сногсшибательной шуткой звучит рассказ о смерти Уилера.
«Он попал в механизм на ковровой фабрике и в какие-нибудь четверть минуты был измолот в мелкие крошки; вдова купила кусок ковра, в который были вотканы его останки, и народ стекался за сотню миль на его похороны. Кусок был длиною в четырнадцать ярдов. Она не хотела его свертывать и решила так и похоронить во всю длину. Церковь была невелика, так что конец гроба высовывался в окно. Они не зарыли его, а поставили стоймя в виде памятника, опустив одним концом в могилу. И прибили на нем доску с надписью…» (пьяный рассказчик начинает засыпать) «… дай бог память – здесь покоится четырнадцать ярдов тройного коко-овра, содержащего все, что было смертного в Уильям-Уильям-се Уи-Уи…», – рассказчик окончательно засыпает.
В рассказе чувствуется легкий шарж на церковную лексику; но внимание автора привлекает не возможность пародирования, а то, что сам рассказ – дерзкий юмористический анекдот на обычную для жизни Невады тему смерти. Тема, которая требовала почтительности, серьезности и уважения, здесь обработана в бесшабашно веселом тоне. В композиции рассказа чувствуется рассчитанное нарастание комических нелепостей, резко дисгармонирующих с обычными представлениями о смерти. Что может быть невероятнее известия о такой кончине – человек воткан в ковер! Начало, так сказать, нелепо трагическое. Следующая фраза уже примешивает элементы неуловимого комизма: «Вдова купила кусок ковра, в который были вотканы его останки». Ковер из тела мужа! Да еще «купила». Ни одна вдова в мире не обладала таким ковром. Недоумение и изумление охватывает читателя (вернее, слушателя). У него расширяются глаза, он поражен, но еще не знает, что ему делать: ужасаться или разразиться хохотом. Композиция рассказа в такой стадии, как будто на чашке весов поровну положено трагического и комического и они находятся в равновесии. Последующие фразы нарушают это равновесие: каждая из них добавляет новую дозу комизма, и вся конструкция анекдота увенчивается нелепейшей могильной надписью.
В этом анекдоте Твен вспоминает начало своей литературной славы. Рассказ о смерти Уилера так же, как и «Прыгающая лягушка», рассчитан на устное звучание – в этом их «изюминка». Марк Твен придавал большое значение устному оформлению литературного анекдота: звучанию, мимике и такой композиции, когда комические нелепости следуют в нарастающем порядке.
Замечательным образцом устного юмора в рассматриваемой книге является «История барана». Юмор его заключается в том, что рассказчик никак не может добраться до темы рассказа: барана-то во всей истории и нет. Но именно поэтому слушатели задыхаются от смеха. В «Истории барана» юмор так же простодушен, как простодушны рассказчик и слушатели.
«Я исправляю диалектный материал тем-, что произношу вслух, говорю», – писал Твен. Он был превосходным чтецом, природным рассказчиком; обладал чистым, гибким, музыкальным голосом. Слушатели наслаждались его рассказами, не замечая времени[156]156
Один современник рассказывает, что он слушал Твена, «задыхаясь от смеха», и думал, что лектор делает юмористическое вступление к лекции обычного типа и сейчас приступит к серьезному материалу. Но, к удивлению слушателя, лектор вдруг поклонился и исчез. Слушатель взглянул на часы. Оказалось, прошло больше часа с начала «лекции», а ему показалось, что не прошло и десяти минут.
[Закрыть].
На сцене он всегда импровизировал, объясняя это своей непрочной памятью. Речь его была непосредственной и увлекательной. Преподнося слушателям свои неистовые юмористические абсурды, он сохранял серьезное, слегка печальное лицо[157]157
Однажды во время выступления в Лондоне Твен рассказывал своим слушателям о высоких горах, которые он видел во время путешествия. «Там так холодно, что люди, которые там бывали, считают невозможным говорить правду; это факт (пауза, вздох, легкий стон), потому что я (пауза) был (долгая пауза) сам там». (A. Henderson, Mark Twain, p. 104).
[Закрыть] («как задняя сторона надгробного памятника»), когда отпускал особенно забавную шутку; утверждал, что это у него наследственное: его мать, остроумная женщина, тоже с таким видом говорила смешные вещи. В действительности же это была народная юмористическая маска, которой сам Твен восхищался у Артимеса Уорда, у артиста Рили[158]158
Марк Твен, по мнению Генри Ирвинга, выдающегося американского актера, обладал большим сценическим талантом. Однажды Ирвинг видел игру Марка Твена на сцене. После представления он сказал писателю: «Вы сделали ошибку, что не выбрали сцену как профессию. Вы были бы более великим актером, нежели писателем».
[Закрыть].
Близость Марка Твена к народному юмору подтверждается богатством и разнообразием народных юмористических средств в книге. «Закаленные» в этом отношении наиболее типичное произведение из всего написанного Твеном.
Без «проделок» не обходится ни одна народная юмореска; Твен к ним прибегает охотно и часто с их помощью обрисовывает нравы, характеры людей. В реальной жизни «проделка» иногда разрасталась до геркулесовых столбов, захватывала не одного-двух, не десяток людей, а целый город. И все участники свято хранили тайну юмористического заговора и молча наблюдали разыгрываемую шутку, создавая, таким образом, одураченной «жертве» полную иллюзию естественности. Твен рассказывает, как в городе Карсоне (Невада) все горожане были участниками шутки над государственным прокурором генералом Бекомбом, ограниченным и самодовольным чиновником. Шутки ради «пострадавший» Гайдт плакал перед генералом неподдельными слезами; шутки ради судья Руп открыл форменное судебное заседание, «появился на троне посреди своих шерифов, свидетелей и зрителей», прослушал страстную и пафосную речь генерала, сопровождаемую рукоплесканиями присутствующих, изрек глубокомысленно нелепый приговор; на потеху всему Карсону позволил себя упрашивать изменить его, заставил генерала Бекомба два с половиной часа ждать, пока он, судья Руп, думал над возможным изменением; наконец «его лицо осветилось счастьем», и он… предложил еще более нелепую поправку. Два месяца понадобилось генералу, чтобы в его сознание проникла мысль, что над ним подшутили.
Жители Карсона в этой проделке играют лишь роль статистов-зрителей, но два-три лица мастерски обрисованы Твеном. Это типы людей Западной Америки середины XIX века. «Потерпевший» Гайдт разыграл свою роль с таким неподдельным волнением, возмущением и слезами, что мог «обмануть самого господа бога»; судья Руп провел все сцены затянувшейся шутки с такой серьезной торжественностью («при малейшем звуке судья замечал: «Порядок в суде!» – и шерифы мгновенно поддерживали его»), что иллюзия была полной, и несравненным было наслаждение ею; генерал Бекомб – одураченный простак среди двух тысяч шутников, невольный актер среди довольных зрителей – был столь красноречив, столь самодоволен («весь его организм приятно содрогнулся, когда прозвучали слова: «Дорогу государственному прокурору Соединенных Штатов!»), столь уверен в себе и в успехе дела, что трудно представить более целостный, законченный комический образ. Здесь полностью подтверждается теоретический принцип Твена: «Не бывает иного юмора, кроме того, который возникает из реальной ситуации»[159]159
См. С. Т. Harnsberger, Mark Twain at Your Fingertips, p. 138.
[Закрыть].
Преувеличение как основная черта юмора молодого Марка Твена многообразно представлена в «Закаленных» в виде охотничьих рассказов о хвастунах, в виде авторских гипербол, гротесков и гиперболических «наглядных» иллюстраций. К последним относится шутка Твена во время лекций о Сандвичевых островах: лектор пообещал своей аудитории показать, как каннибалы потребляют пищу, – если только какая-либо женщина «одолжит» ему своего ребенка. А. Хендерсон в книге «Марк Твен» определяет эту манеру писателя как прием «широкой юмористической бестактности»[160]160
A. Henderson, Mark Twain, p. 77.
[Закрыть].
Хендерсон приводит образец такой же «юмористической бестактности» в американском фольклоре Запада США. Некоему Хиггинсу, простецкому парню, возчику камня, однажды было поручено перевезти тело судьи Бегли: судья упал со ступенек здания суда и свернул себе шею. Хиггинс должен был, привезя тело судьи домой, предварительно подготовить к печальному известию жену судьи, то есть изложить ей эту новость возможно мягче. Подъехав к дому судьи, Хиггинс закричал, зовя женщину к двери. Когда та вышла, он тактично справился: «Не здесь ли живет вдова Бегли? Женщина негодующе ответила: «Нет». Хиггинс мягко пожурил ее за каприз и снова осведомился: «Не живет ли здесь судья Бегли?» И когда женщина ответила утвердительно, он воскликнул, что готов биться об заклад, что это не так. Затем деликатно спросил: «Может быть, судья дома?» И, будучи уверен, что не получит утвердительного ответа, с торжеством воскликнул: «Я так и знал! Потому что…» – и Хиггинс вывернул из телеги на землю тело судьи.
Насколько распространен подобный юмористический прием в литературе различных национальностей, указывает то обстоятельство, что у А. П. Чехова имеется аналогичная ситуация в рассказе «Дипломат».
Традиционный на Западе Америки тип хвастуна представлен в книге старым бродягой Арканзасом. Он до того надоедал всем в гостинице, до того привязывался к каждому, ожидая ссоры и драк, до того вопил, хвастал, угрожал, палил из револьвера, что вывел хозяйку гостиницы из терпения, и она, защищая своего кроткого мужа, бросилась на наглеца, вооруженная… ножницами. Хвастун отступил. С тех пор он стал тише воды ниже травы. Сцена построена по традиционному плану «спора хвастунов», в которых комический эффект заключен в разоблачении хвастуна, оказавшегося трусом. К тому же типу рассказов относится и «охотничий» рассказ Бемиса, в котором буйвол, преследуя человека, влез на дерево, а человек, защищаясь, повесил буйвола на петле из ремешка и расстрелял повешенного.
Гипербола определяет не только сюжеты бесчисленных рассказов, составляющих книгу, но и конструкцию отдельных образов и фраз.
Нужно подчеркнуть скудость природы Дальнего Запада. Твен находит такой образ: животные там столь неприхотливы, что «едят шишки, уголь-антрацит, медные проволоки, свинцовые трубы, старые бутылки – все, что попадает им, а потом отходят с таким благодарным видом, точно им на обед подали устриц». Или: мормоны столь благочестивы, что даже виски у них «из огня и серы» – чертово питье по крепости; мормонская библия столь душеспасительна, что это настоящий «печатный хлороформ», и автор с удовольствием пародирует текст мормонской библии; мормоны столь семейственны, что каждый из них имеет не одну, а семьдесят две жены и сто десять детей. Твен на протяжении нескольких страниц забавляется созданной гротескной ситуацией: что должен чувствовать папаша, когда все 110 ребятишек засвистят в подаренные им 110 оловянных свистков; что будет, если муж подарит брошку только жене № 6; нужно ли строить 72 кровати или только одну в семь футов шириной; выдержит ли черепица на крыше дома храпение 72 жен и т. д. А в заключение приводит совет старого мормона автору:
«Друг мой, примите совет старика и не обременяйте себя большой семьей. Помните: не делайте этого! В маленькой семье, только в маленькой, вы найдете комфорт и душевное спокойствие… Поверьте мне, жен 10–12 совершенно достаточно; никогда не переходите за это число».
Здесь применяется гипербола редко встречающегося построения: вначале дается крайнее преувеличение, а затем относительное преуменьшение, которое вызывает тем больший юмористический эффект, что по сравнению с нормой моногамного брака «10–12» жен остается юмористическим преувеличением.
Гипербола Твена как бы подсказана условиями самой жизни, имеет «местный колорит»: калифорнийские рудокопы, не видевшие несколько лет женщины, стоят в очереди, чтобы взглянуть в дыру шалаша на живую женщину. Автор, конечно, тоже среди любопытных, – он выстаивает несколько часов и обнаруживает, что женщине в шалаше 165 лет. Комический эффект рождается из столкновения двух преувеличений: страстного любопытства рудокопов и возраста женщины.
Любовь жителей Дальнего Запада к анекдоту Марк Твен вышучивает в такой гиперболе: один старый-престарый анекдот автор повторяет в книге пять раз, вкладывая его в уста разных лиц. Один из слушателей этой истории, истощенный повторением, умирает на руках у автора, а автор, выслушав анекдот 482 раза, остается жив. Больше того, он коллекционирует анекдот. «Я собрал его на всех языках, на всем множестве языков, которое башня вавилонская подарила земле, я приправлял его виски, водкой, пивом, одеколоном, созодонтом, табаком, луком, кузнечиками… я никогда не обонял анекдота, который имел бы столько различных запахов. Баярд Тэйлор писал об этом заплесневелом анекдоте, Ричардсон напечатал его, а также Джонс, Смит, Джонсон, Рос Броун и все другие корреспондирующие существа… Я слыхал, что он встречается в талмуде. Я видел его в печати на девяти различных иностранных языках, мне говорили, что инквизиция в Риме употребляла его, и теперь слышу, что его положат на музыку».
Это образец, твеновского юмористического искусства, один из тех гротесков, которые их создателю приносили славу «от океана до океана».
Лишь Твен с его стремлением к свежести, оригинальности, новизне в литературном стиле, с его ненавистью к штампу, трафаретности, плоской невыразительности и языковой скудости мог создать эту пародию. Но и к себе самому он беспощаден.
Так, свои многочисленные профессии автор делает объектом юмористических нападок. Лоцман, горняк, журналист – Твен всегда «герой» юмористических историй. Это создает между ним и читателем какую-то особую интимность двух заговорщиков (мы-то, брат читатель, знаем с тобой человеческую натуру!). Одна из таких «историй» – образец критики собственной журналистской манеры.
Однажды в Сирии, рассказывает Твен, «верблюд взял на себя заботу о моем пальто»: начал жевать его вместе с газетными корреспонденциями, которыми были набиты карманы. Автор преподносит это так: «Он дошел до солидной мудрости в этих документах, довольно тяжелых для его желудка, и наконец проглотил шутку, от которой затрясся так, что все зубы у него расшатались; презрев опасность, полный надежды и мужества, он продолжал трудиться, пока не начал натыкаться на такие сообщения, которые даже верблюд не мог проглотить безнаказанно. Он начал закрывать и открывать рот, глаза вылезли из орбит, ноги разъехались. Через четверть минуты он упал окоченелый, как верстак плотника, и умер в неописуемой агонии. Я подошел, вынул рукопись изо рта и увидел, что высокочувствительное создание подавилось одним из самых мягких и безобидных сообщений, которые я когда-либо писал для доверчивой публики».
В этой сцене сконцентрировано многое: критика «убийственных» (в буквальном смысле слова) преувеличений западного журналиста, благодушная реакция читателя на них (читатель привык к таким фантастическим преувеличениям, что даже смертельная «верблюжья» доза ему нипочем) и, наконец, сам рассказ о верблюде, подавившемся газетной информацией, – остроумная материализованная метафора.
Наибольшей локальной колоритностью в обрисовке приисковой жизни обладает история со «слепым» свинцом– рассказ о том, как автор «в течение десяти дней был миллионером». Он типичен для Дальнего Запада, где молниеносные, почти баснословные обогащения были такой же реальностью, как и разорения. В письме Марка Твена к брату Ориону от 1862 года (точная дата неизвестна) описан случай, как несколько вооруженных револьверами золотоискателей захватили шурф на участке, принадлежащем «Клеменсу и Ко».
И тем не менее названная история – литературная гипербола, хотя автор, защищая ее реальность, дает такое посвящение к «Закаленным»:
«Кальвину Г. Хигби из Калифорнии – честному человеку, замечательному товарищу, стойкому другу посвящается автором эта книга в память того курьезного времени, когда мы двое были миллионерами в течение десяти дней».