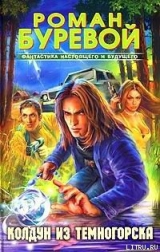
Текст книги "Колдун из Темногорска"
Автор книги: Марианна Алферова
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 29 страниц)
Часть lI
Глава 1
Назад, в прошлое
Шел 1984 год. До напечатания оруэлловского романа в России было рукой подать. До воплощения написанного в романе еще ближе. Развилка времен, когда будущее не определено. Именно такие даты надо выбирать для путешествия на машине времени искателям приключений, чтобы круто повернуть историю в неведомое русло.
Что они могли знать о своем будущем? Планировали? Прозревали? Просто жили… Уверенные, что так и будет всегда и все – неизменно.
«Ватная жизнь», – смеялся Стен. – Ленка, тебе нравится жить в вате?»
«Что?» – она не понимала. Улыбалась.
Она многое не понимала из того, что он говорил.
«О чем ты?»
«Пробовала спать под ватным одеялом, накрывшись с головой?»
«Тепло», – она смеялась.
«Попробуй. Только не задохнись».
Лена думала – Стен шутит. Он странно шутил. Иногда зло. Иногда взрывался. Говорил гадости.
Она попробовала. Десять минут было приятно лежать. Потом сделалось жарко. Потом – дышать стало трудно. Лена глотнула воздуха и вновь забилась под одеяло. Опять не получалось. Все время хотелось высунуть голову. Даже если засыпаешь под одеялом, все равно просыпаешься – голова наружу.
«Ну, как?» – спросил Стен утром насмешливо.
Знал, что она проверит.
«Глупо».
«Да, глупо жить под одеялом. Но живем».
«Сам придумал?»
«А что?»
«Разве тебе плохо?» – спрашивала она.
«Очень. Я скоро умру. Задохнусь. Но ватная жизнь скоро кончится».
«Откуда ты знаешь?» – не поверила она.
«Я жду».
1984 год. Немало с тех пор промелькнуло весен и зим. Но тот год Лена Никонова запомнила до мельчайших подробностей.
Их экспериментальная школа располагалась в старинном здании бывшей мужской гимназии. Некий дух академизма, не вытравленный, витал в просторных классах с огромными окнами и широченных коридорах с натертым до блеска паркетом. Впрочем, и дух либерализма не исчез до конца. Хотя внешние формы директрисса старалась блюсти. Лешка смеялся, что в школе, как в Древнем Риме, дисциплине поклоняются как божеству. «Впрочем, – добавлял он, – в период заката Империи поклонение языческим божествам стало пустой формальностью. Как у нас – комсомольские собрания».
Три года подряд, отправляясь на дежурство в клинику, Лена проходила мимо дверей своей школы, но ни разу не зашла. Однажды она столкнулась нос к носу с их бывшей классной Маргаритой Николаевной. Та мило улыбнулась и неожиданно спросила: «Как Алексей? Ты что-нибудь о нем слышала?» Лена растерялась – ей казалось, что Маргарита не осмелится произнести имя Стеновского. «Я тогда сделала все, что могла и даже больше, – добавила Маргарита, – у меня такие неприятности были!» Пришлось Лене промямлить в ответ что-то невнятное. Очень хотелось сказать гадость, хотя, если вдуматься, ее ненависть к Маргарите смешна и несправедлива, а прошедшие годы ничего не значат – шестнадцатилетней девчонкой Лена пережила самые лучшие и самые позорные минуты в своей жизни. Всё, что было потом – шелуха. Потому что тогда в ее жизни был Лешка, а теперь его нет.
Алексей Стеновский или, как все его называли – «Стен», был первым в классе, причем первым во всем. Учился он легко, не прилагая усилий. И девчонки, и парни считали его бесспорным лидером. С ним было интересно, он умел рассказывать так, что все слушали, затаив дыхание. Главным его коньком была история. Он раскапывал в пресно-унылых книгах удивительные подробности, и вместо сухой шелухи фактов и цифр у него получались яркие картины. Он говорил об известных событиях так, что официальное толкование сначала начинало казаться сомнительным, потом – идиотским. По натуре он был счастливым человеком – у него было призвание. Он хотел заниматься историей, и больше ничем. Обычно умников не любят – его любили, ему прощали и заносчивость, и вспыльчивость и то, что называли неясным, но обидным словом «индивидуализм». Только комсорг Ольга Кошкина его терпеть не могла. Индивидуализм она считала самым страшным пороком, болезнью хуже гриппа или сифилиса. Индивидуалистов не может быть в советской школе! Коллектив важнее человека, коллектив умнее человека. Кажется, на все случаи жизни у нее был афоризм. Каждый член коллектива должен идти туда, куда указывает коллектив, делать то, что нужно коллективу, думать так, как требует коллектив. Коллектив имеет право воспитывать или перевоспитывать. Поскольку в данном случае коллектив перевоспитывать никого не хотел, то за это дело взялась Кошкина. Она требовала, чтобы Стен перестал читать Рея Бредбери и Соловьева, и взял в библиотеке «Как закалялась сталь», ибо судьбу Павки Корчагина Кошкина непременно хотела обсудить с неправильно мыслящим комсомольцем.
«Теперь эти книги никто не читает», – говорил Стен, пожимая плечами.
«Значит, надо возродить!» – с жаром заявляла Кошкина.
Стен отшучивался, Ольга грозила поднять вопрос о его поведении на предстоящем собрании. Впрочем, Ольга, как и Стен – была одинока. Никто не разделял ее горячей идейности. Ее правильные фразы вызывали у одноклассников смех. Порой и учителя поглядывали с недоумением.
«Кошкина, а ты на амбразуру грудью можешь лечь?» – спрашивал ее Кирша и подмигивал друзьям.
«Могу!» – не задумываясь, отвечала Кошкина.
«Стен, она может лечь», – хихикал Кирша.
А может быть, все было гораздо проще? Кирша, Лешкин лучший друг, рассказывал всем, что Кошкина в раздевалке после уроков лезла к Стену целоваться, но тот ее отшил, и с тех пор разъяренная Кошка всячески старалась досадить несостоявшемуся «другу». Вообще-то Кирша пользовался в классе репутацией главного враля. Тогда, в восемьдесят четвертом, Ленка объявила историю с поцелуями чушью. Но кто знает, может, в ней была доля правды? Спустя столько лет во многом стоит усомниться. В одном Лена была уверена и тогда, и теперь – из всех парней, которых она знала, Стен был самым лучшим.
Когда она рассказывала о нем подругам, ей не верили. Одни вежливо молчали, другие хихикали и издевались: ловко завирает! Придумать подобную историю легче легкого, учитывая происшедшие с тех пор перемены. Лена устала что-либо доказывать. Она просто вспоминала…
Тогда, весной, Стен постоянно что-то выдумывал: то они с Киршей сочиняли рукописный журнал, то пускали по классу тетради с самодельными комиксами или листки с нелепыми, но безумно смешными стишками.
Иногда Лешка отдавал Лене сложенный вчетверо листок и говорил: «Это только тебе». А в этом листке – какой-нибудь странный рассказик.
Стен жил вдвоем с матерью в двухкомнатной кооперативной квартире. Мать воспитывала его одна, но в отличие от многих и многих они ни в чем не нуждались. Лешкина мать работала в НИИ завлабом. В те времена за научные степени хорошо платили. Когда Ленка в первый раз зашла к Стену и увидела его комнату, то онемела от восхищения. Две стены сверху до низу занимали стеллажи с книгами. Полки то сходились, то разбегались снова, образуя причудливую лестницу. Над кроватью висела написанный маслом пейзаж в буковой раме, а пол устилал толстый ковер ручной работы. На этом ворсистом ковре сидеть, скинув тапки, было одно удовольствие. Стен сказал, что ковер очень старый, еще дореволюционный, но краски оставались на удивление сочными – красные, коричневые, золотисто-желтые.
Правда, питались в этом доме скромно. В холодильнике нашлись готовые котлеты и вареная картошка. Истребив нехитрые припасы, Стен с Ленкой сидели на ковре и слушали магнитофон. Когда кассета кончилась, Лешка взял гитару и спел пару куплетов из своей новой песни. Знающие люди говорили, что у него диапазон голоса почти две с половиной октавы, он мог бы стать певцом. Но Лешка никогда всерьез не думал о такой карьере.
Когда последний аккорд замолк, Лена захлопала в ладоши и воскликнула:
– Стен, ты гений!
Он не стал спорить. Встал и раскланялся, прижимая руки к груди. Она выпросила у него листок с текстом песни. На память. Что-то подсказывало ей, что он написал эту песню для нее.
В тот вечер они в первый раз поцеловались. Едва коснулись друг друга губами, потом еще раз. Смущенно отстранились друг от друга. Ленка хорошо запомнила дату – это было тридцатого апреля. Она еще спросила, пойдет ли Лешка на демонстрацию. И он ответил: «Пойду. Но только не со школой. Мать просила помочь нести плакат. А то в ее лаборатории только один мужчина, так что я должен подсобить».
«Что за плакат?» – спросила Лена. Просто так спросила. Чисто автоматически.
Стен покраснел. Он вообще редко краснел. А тут вдруг залился краской.
– «Слава советской науке», – сказал он, отводя глаза.
Она сразу подумала, что он врет и на первомайскую демонстрацию идти не собирается, а пойдет куда-то, куда Ленке Никоновой нельзя.
Наверняка, Первого мая Лешка проведет с ребятами. Дрозд, Кирша, Ник Веселков и Стен – эти четверо почти неразлучны. Возможно, отправятся в свой любимый пивбар «Медведь», – Кирша говорил, что они постоянно туда ходят. Переоденутся, серую школьную форму скинут, как шкуры оборотня, – и по пиву.
– В «Медведь» пойдете? Можно, я с вами? – спросила Лена.
– В пивбар? Ну ты даешь, Никоноша. Любишь пиво?
– А ты?
Он пожал плечами и улыбнулся. При чем здесь любовь? Глоток пива это вроде как глоток свободы.
Странно… Она была уверена, что эта фраза на счет пива и свободы – не ее собственная, а каким-то образом похищенная из Лешкиной головы. Это ощущение долго потом не покидало Лену.
Сама она на демонстрацию пошла вместе со всеми. Каждому старшекласснику выдали по надувному шарику, но мальчишки почти все тут же прокололи булавками. Лена оберегала свой целых два квартала. Тут, наконец, и ее шарик лопнул. Всего лишь громкий хлопок, а она вдруг расплакалась, как будто этот игрушечный взрыв принес кому-то увечье или даже смерть.
На перекрестке долго стояли, ожидая, когда колонна вновь тронется. На лотках продавали дорогие шоколадные конфеты – большой дефицит. Кошкина купила полкило. А у Лены не было ни копейки. Если бы Лешка был сейчас здесь, он бы непременно угостил ее конфетами. Она улыбнулась, представляя…
И тут с неба крупными белыми хлопьями стали падать какие-то листки. Все поначалу решили, что так и запланировано, в духе тридцатых годов улицы вновь решили завалить бумагой. Ребята стали ловить прокламации. Лена – тоже схватила. На листке была одна единственная строчка, напечатанная на машинке: «Долой войну в Афганистане!»
– Ой, вы видели! Видели, что кидают! – заметался вдоль колонны Остряков, или попросту – Остряк, классный шут и паникер по совместительству. – Глядите, что тут написано! – Глаза у него так и горели.
– Отдай! – крикнула Кошкина и вырвала у него листок. – Надо немедленно отдать все эти бумажонки Маргарите. Вы что, не поняли? Это же провокация ЦРУ. Они сейчас за нами наблюдают и смотрят, как мы к этим листовкам отнесемся. И фотографируют наверняка. Кто спрячет – можно вербовать.
– Кошкина, прячь листок немедленно! Тебя завербуют, станешь двойным агентом! – заржал Кирша.
Кошкина кинулась поднимать листовки. Их было довольно много. Девчонки ей помогали. Мальчишки хихикали. Кирша старался каждый припечатать грязным ботинком прежде, чем Кошкина успевала его поднять. Лена оглянулась и спрятала свою листовку в карман. Щеки ее пылали. Не то что ей было страшно. Но она чувствовала – опасность.
– Шизофреник какой-то выпендрился, – ухмыльнулся Кирша. – Но его найдут.
– Войну в Афгане прекращать нельзя, иначе туда американцы войдут, – насупив брови, произнес Ник Веселков. – Мы скоро победим. Я это знаю.
После майских праздников в школе, столкнувшись со Стеном, Лена рассказала об этом нелепом случае.
– Листовка у тебя? – спросил Алексей.
– Ага. – Лена полезла в карман – показать.
– Выброси.
– Что?
– Выброси! – приказал Стен. – Порви и выброси.
Подозрение шевельнулось. Но Лена не позволила себе поверить. И спросить не посмела.
За следующие несколько дней Лешка сильно переменился. Порой говорил невпопад. Смеялся не к месту. Но чаще хмурил брови и молчал. Написал контрольную по математике на тройку, а на уроке литературы отказался отвечать. Пару ему не поставили, но литераторша несказанно удивилась. На переменках он уходил из школы, а когда возвращался, от него пахло табачным дымом. Лена остерегала: поймают, будет скандал. Но Лешке везло: когда завхоз с учителем по физре выходили на облаву, Стен всегда оказывался в школе. Прежде Лешка предпочитал чтение или походы в кино, теперь почти каждый вечер у него в доме собирались друзья. Он таскал у матери сигареты «ВТ» – она всегда покупала их блоками. Много болтали. Об истории, о политике, о книгах. Спорили, но как-то через силу. Кирша острил, Дроздов скучал, Ник Веселков внимательно слушал.
Когда поздно вечером гости уходили, оставалась тяжесть на душе, синеватый табачный дым в комнате, да пепельница, полная теплых окурков. Никогда прежде Стен не испытывал такой тоски, как в те дни, когда сделав один-единственный шажок в сторону, он очутился на краю пропасти. Кто мог подумать, что обрыв так близок? Никто не знал, что падать так страшно. Если бы он мог, то вырастил бы себе крылья. Но Алексей по складу своей души был рационалистом и не умел летать.
Иногда ему казалось, что происходящее – сон. Бывают такие сны: тошнотворные в своей реальности, где вечно проваливаешься в выгребные ямы, гоняешься за мерзкими тварями по помойкам, ловишь их, а они кусаются, потом тебя бьют, а ты не можешь дать сдачи. Так спишь, спишь и наконец понимаешь, что жизнь – один из таких снов.
Но при этом ты всегда знаешь, что это только сон. И когда-нибудь ты должен проснуться.
Лена долго не понимала, зачем Стен это сделал. Своего рода самоубийство, только в особо изощренной форме. Впрочем, тогда многие предчувствовали перемены и ждали год за годом, когда же все кончится и начнется новая жизнь. Яркая, интересная, легкая.
Где-то сразу после Дня Победы Дрозд и Стен подрались. Они и прежде цепляли друг друга, выясняя, кто в классе лидер, и всякий раз при помощи кулаков – иных доводов Дрозд не признавал. Он был почти так же высок, как Стен, но шире в плечах и гораздо сильнее, хотя и не обладал ни яростью, ни ловкостью противника. Дроздов пару лет занимался боксом, Алексей посещал подпольную секцию каратэ, каждый из них порой оказывался бит, но чаще верх брал Стен, и это гораздо сильнее, чем интеллектуальные выкрутасы соперника, раздражало Дрозда. В этот раз опять победил Стен, и Дроздов долго ходил с синяком под глазом и распухшей губой, всем встречным заявляя, что столкнулся с машиной, но вовремя вскочил на капот.
В тот же день Кирша, Ник Веселков и Стен затащили Острякова в туалет, раздели до трусов, и в таком виде бедняга Остряков явился на урок математики. Математичка никогда и никому не писала замечаний – она просто отправила полуголого ученика искать разбросанную по коридору одежду, потом посмотрела на Стена и осуждающе покачала головой. Лешка просидел весь урок, опустив голову и что-то чиркая в тетради, но вряд ли он решал уравнения. Кирша называл происходящее римскими игрищами. Это было интереснее, чем кидаться друг в друга стирательными резинками или прилеплять жвачки на стул соседу.
Лене Никоновой все это не нравилось. Она чувствовала: случилось что-то плохое. Но вот что – догадаться не могла.
В эти дни она с Лешкой необыкновенно сблизилась. Он был человеком удивительным. (Как это ни больно, она должна была думать и говорить о нем именно так «был», в прошедшем времени). У него был один недостаток – он порой бывал слишком серьезен, а если начинал дурачиться, то как-то через силу и часто шутил невпопад. Порой это вызывало недоумение. Но все равно Лена за несколько дней их скорого сближения влюбилась в него по уши. А он? И тогда, и сейчас она боялась этого вопроса. Теперь-то она знала, что Стен находился в подвешенном состоянии, со дня на день ожидая, когда это произойдет, то есть, когда люди оттуда явятся за ним. Ему нужен был кто-то рядом, чтобы заглушить противную пустоту в груди. Просто был. Слышать дыхание, коснуться чьей-то руки и ощутить тепло. А может быть – все не просто?
Он подарил ей свою фотографию и даже надписал ее: «Дорогой Лене на память». Тогда она никому эту фотографию не показывала. Потому что Алексей получился на фото некрасивым – так ей казалось тогда. Он вообще был не фотогеничен, но в жизни его многие называли симпатичным. Потом, спустя много лет, когда все уже потеряло смысл, она отыскала фотографию, поставила ее на сервант и поняла, что была несправедлива: в шестнадцать лет Стеновский был необыкновенно обаятельным. Она не могла представить, каким бы он стал теперь, в тридцать. Только ему никогда уже не будет тридцать. Подруги, глядя на фото, всегда поддакивали: «Интересный парень». Они не верили, что он когда-то существовал. Лена придумала его, чтобы объяснить свое унизительное незамужнее положение.
В тот день Алексей после уроков пошел провожать Лену.
– Поднимемся ко мне, – предложила она, когда они остановились около ее подъезда. – Дома никого нет. Мои в гостях.
Она понимала, что совершает несусветную глупость, но не могла остановиться. Поднялись наверх. Лена усадила Алексея в гостиной – так именовалась комната родителей – и велела подождать. По ее лицу и таинственному виду Стен должен был догадаться, что сейчас случится нечто замечательное. Через несколько минут она вернулась. Вместо формы на ней было короткая юбка и желтая кофта из полупрозрачного шифона.
– Ну как? – спросила она, жеманясь.
– Обалдеть, – отвечал Алексей.
Теперь-то она знала, что выглядела ужасно.
– Сейчас устроим прием, как в лучших домах Европы, – пообещала юная красавица, вытаскивая из бара начатую бутылку «Алазанской долины» и коробку шоколадных конфет.
Сервировка стола заняла несколько минут. Стеновский разлил по фужерам остатки замутненного осадком вина.
– За тебя, – сказал он и поднял бокал.
В ответ Лена кокетливо улыбнулась и пригубила вино.
«Кошка просто умрет от зависти, когда я расскажу ей об этом», – подумала она.
Лена откинулась на спинку дивана, и Алексей расценил ее жест как приглашение к действию. Он обнял ее, и Лена не попыталась его оттолкнуть, лишь плотно сжала губы, когда он поцеловал ее. Потом Стен попытался расстегнуть кофточку, но запутался в пуговицах. Тогда он просто вытащил блузку из-за пояса юбки. Рука скользнула по гладкому шелку сорочки наверх, к груди.
– Это уж это слишком! – воскликнула Лена и перехватила его руку.
– Почему?
– Потому.
Она решила, что он будет настаивать, и уже приготовилась как следует поломаться, а потом уступить. Ведь не могла же она пойти на это, не поломавшись! Но, к ее удивлению, Стен послушно отстранился и даже передвинулся на другой край дивана. Лена растерялась. Что же теперь делать? Не лезть же первой к нему? А ей так хотелось, чтобы он вновь обнял ее! Скорчив обиженную гримасу, Лена принялась заправлять блузку, и Стен отвернулся. Ну надо же! Подобной скромности она не ожидала. Может быть, он просто боится? Вот смех-то… Кто мог подумать!
Лена залезла с ногами на диван и уселась поближе к Алексею. Не вплотную, но так, чтобы он мог, будто ненароком ее коснуться.
Он долго молчал, просто неприлично долго, потом глотнул побольше воздуха, будто собирался погрузиться в воду.
– Я должен тебе кое-что сказать, а ты…
Впрочем, Ленка поняла все и так, будто он произнес вслух окончание фразы.
Сейчас он расскажет ей нечто важное, а потом она должна решить, может он остаться или нет. Лена согласно кивнула и приготовилась слушать. Она заранее для себя решила: все, что скажет Алексей, не имеет ни малейшего значение. Сегодня он останется у нее. Со всеми вытекающими из этого последствиями.
– Еще есть вино? – спросил Стеновский.
– Нет, только водка.
– Неси.
– Ты что, будешь пить водку? – изумилась она.
– Да.
Она принесла с кухни початую бутылку. Алексей налил себе в фужер, выпил залпом и закусил конфетой.
– Я пить не буду, – предупредила Ленка и запрятала бутылку подальше в шкаф, чтобы у кавалера не появилось соблазна вылакать бутылку до дна.
– Тебе и не надо.
Стен засмеялся и затряс головой, дивясь тому, как быстро хмелеет. Однако в этот раз ему не понадобилось собираться с духом, чтобы произнести:
– Знаешь, те листовки на демонстрации. Это я разбросал. Сам на машинке напечатал. Под копирку. Сто двадцать штук.
Она ожидала чего угодно, но только не этого. А где же признания в любви, в чувствах, где все это? О чем он болтает? При чем эти дурацкие листочки, в конце концов!
– Это же глупо! – только и смогла выдохнуть она.
– Мо-жет, мо-жет, мо-жет бы-ыть, – произнес он нараспев.
– Зачем? Ты скажи, зачем? – простонала Лена.
– Я должен был это сделать. – В словах Стена прозвучала такая убежденность, что Лена растерялась. – Нельзя больше ждать, – проговорил он тихо, глядя прямо перед собой – в пустоту. – Я устал ждать.
– Почему? – спросила она.
Он посмотрел ей в глаза. В его взгляде были боль и растерянность. Кажется, впервые Лешка не находил слов. Он схватил Лену за руку, не замечая, что причиняет боль.
– Неужели ты не понимаешь! Мнимое время кончилось.
Стен отвернулся, затряс головой, болезненная гримаса свела рот. Он знал нечто такое, о чем не в силах был рассказать. Об этом своем знании хотелось кричать, орать на весь мир. Он это чувствовал. И Лена почувствовала тоже.
– Нельзя дольше ждать, – повторил он, как заклинание.
Она вдруг поняла. Не то, о чем невнятно бормотал Лешка, а чем все это грозит. Подобный случай был у отца на работе, и там все закончилось очень-очень плохо.
– Тебя надо срочно спасать! – Внутри стало противно холодеть, будто она проглотила порцию мороженого целиком. – Тебя найдут – это ясно, как дважды два. Надо… Говорят, чистосердечное признание облегчает душу.
– Возможно, – усмехнулся Стен.
– Тьфу, совсем с тобой заговорилась. Хотела сказать – наказание. И не придирайся к словам – ты отлично понимаешь, о чем речь.
– Не совсем.
– Надо обязательно пойти туда и признаться. Скажешь: не подумал, просто хотел пошутить. Так, мол, и так, простите. Из школы характеристику напишем. Маргарита всегда за тебя горой – ты же самый талантливый ученик в ее выпуске. Я как староста тоже подпишу. Кошка, правда, сволочь, возникать начнет. Но ничего, мы ее уломаем. Влепят тебе выговор по комсомольской линии, так мы тебя на поруки возьмем. Главное, надо все это побыстрее сделать. Пока тебя не накрыли.
– Ты это серьезно?
– Конечно.
– И ты будешь по-прежнему… – Стен запнулся, у него едва не вырвалось запретное «любить». – Уважать меня? После ползанья на коленях и лизания пяток?
– А что тут такого! Надо на время спрятать гордость в карман. На обществоведении или истории болтаем всякую муру – и ничего. Все равно раскаешься, не сейчас, так потом, когда уже никакого толка не будет. А пока есть шанс.
– Не-е-ет, – замотал головой Стеновский. – Окончательно я на четыре копыта не встал. Перед кем я должен унижаться? Перед ними? – Он откинул по своему обыкновению голову назад, ноздри тонко очерченного носа дрогнули. – Нет уж, извини, дорогая, но твой план не подходит.
– Ишь какой! – Ленка соскочила с дивана и даже топнула ногой, негодуя. – Выходит, ты лучше всех? А остальные подонки – так, что ли? Дурацкие листовки ты, надо полагать, от большого ума написал!
У него задрожали губы, на щеках выступили красные пятна. Таким она никогда его прежде не видела.
– Дура, – тихо, с ненавистью проговорил он.
– Сам дурак!
На глаза ей набежали слезы, Лешкино лицо расплылось мутным пятном. Она слышала, как хлопнула входная дверь. Он ушел, ушел навсегда. А как все могло бы быть хорошо: где еще найти такого парня, как Стен – умный, оригинальный, симпатичный, в будущем он мог выбрать любой институт или даже университет: с его способностями можно куда угодно без блата попасть. Все девчонки ей завидовали! Но теперь все рухнуло. Почему?! О, Господи, почему? Ведь она не отступилась от него, как это сделала бы любая на ее месте, она хотела спасти. А он? Стал строить из себя гордеца. Ну, и кому нужна его паршивая гордость? Дурак!
Так рассуждала она в тот вечер, уткнувшись лицом в подушку и заливаясь слезами.
Теперь же, вспоминая, Лена все больше уверялась, что это был своего рода экзамен, а она не поняла, срезалась на первой ступени. Так ей и надо! Да, так и надо. Но до чего же обидно!
Со дня на день Ленка ожидала события. Нет, она не желала Стену зла, она хотела, чтобы он вышел сухим из воды, но здравый смысл подсказывал, что Алексею ни за что не удастся ускользнуть. Она не ошиблась. Через день его вызвали прямо с урока математики. Маргарита Николаевна вошла в класс и объявила похоронным голосом:
– Стеновский, выйди, пожалуйста.
Лицо Маргариты было белым и слегка перекошенным.
– Сумку возьми, – сказала она и отвернулась, будто ей было неприятно смотреть на Алексея.
– Счастливчик, – хихикнул Кирша, – отдыхать будет.
– Это он! – с торжеством в голосе выкрикнула Кошкина и ткнула в Алексея пальцем. – Я так и знала! Это он листовки разбросал.
В классе вдруг стало необыкновенно тихо. Лена почему-то вспомнила листок с текстом Лешкиной песни и подумала, что надо бы его спрятать в надежном месте, а почему именно спрятать, а не уничтожить, и сама не поняла. Стеновский оглянулся. Ленка опустила голову – боялась расплакаться, а он, верно, подумал, что она от него отрекается. Глупый! Разве она могла отречься от него добровольно? Ну, если велят, если прикажут, запугают, тогда – да. Но ведь, если запугают, это не считается? Ведь так?
Стен взял сумку и вышел. После этого в школе его видели только один раз: через две недели на собрании, где его исключали из комсомола.
Все эти дни о нем почти ничего не говорили. Если кто нечаянно упоминал его имя, все замолкали, и делалось так неловко, будто помянули умершего. В самом деле, он был наполовину мертвец, – изгой, которого выгонят из школы и отдадут под суд. И хотя как несовершеннолетний срок он мог получить только условный, все равно теперь повсюду он – прокаженный. Да и некогда было говорить о таких глупостях – в их экспериментальной школе после окончания девятого сдавали экзамены по математике и физике, так что в июне еще рано было расслабляться.
Итак, прошло две недели. Накануне собрания Кошкина как комсорг отправилась вместе с Маргаритой к Алексею домой уговаривать преступника покаяться и признать свою вину. Маргарита обещала, что Лешку в этом случае не выгонят. Рассказывали, она даже поругалась из-за него директрисой. Звали с собой Лену, но та не пошла, в этот раз проявив удивительную твердость. Вместо нее отправился Кирша. Потом по секрету – то есть всему классу – Кирша рассказывал, что дверь им неожиданно открыл мужчина, очень похожий на Стена, лет сорока. Дальше прихожей они не прошли: когда отец выяснил цель прихода школьной делегации, то пообещал спустить всех с лестницы, если доброжелатели немедленно не уберутся. Маргарита возмутилась, но настаивать не стала.
– Папаша у него такой же псих, как и сынишка, – резюмировал происшедшее Кирша.
Впрочем, все они немного психовали: и Кирша, и Ник Веселков уничтожили дома все подозрительные бумаги, рукописный журнал и язвительный стишки, в первую очередь написанные Лешкиной рукой. Лена не выдержала и сожгла текст песни.
О, Господи, кто ответит, чего она так испугалась? Кого? Теперь она не смогла бы объяснить. Много лет спустя все казалось смешным и нелепым.
Вечером, накануне того памятного (проклятого?) дня Лена встретила Стеновского на улице. Она первая сказала «привет» и остановилась, разрешая ему с нею заговорить.
– Привет, – отвечал он и улыбнулся, помня, что при встрече нужно улыбаться.
– Как ты? – спросила она, и губы сами собой сложились в противную плаксивую гримасу.
– Нормально.
Никогда прежде Лена не видела его таким. У Лешки было совершенно мертвое лицо.
– Было страшно? – спросила она.
Стен отрицательно покачал головой и вновь улыбнулся одними губами. Она поверила, что ему не было страшно. Он не лгал. Страха не было. Было другое. Стен так и не понял, как им это удалось, но он начал испытывать отвращение к самому себе. К себе как к человеку. К своему телу. К своим рукам. К своему лицу. И своему безмерному одиночеству, которое сделалось неожиданно самым главным, неистребимым пороком. Теперь Стен подолгу сидел с закрытыми глазами, чтобы не видеть ничего вокруг. Он ничего не мог с этим поделать. Отвращение не проходило. Эти люди виртуозно исполняли свой долг. Они были изворотливы и хитры, они быстро взяли след. Но Стен не мог назвать их умными, потому что для ума оскорбительно подчиняться изуверству. Ум – это дар смотреть в глубину, а не способность ловко хватать добычу.
– Стен, что с тобой? Ты меня слышишь?
– Вообще-то было мерзко, – признался он.
– Ты знаешь про собрание? – спросила Лена.
Лешка все так же молча кивнул и вновь улыбнулся, на этот раз понимающе. Больше говорить было не о чем; они разошлись, даже не попрощавшись. Лене казалось в тот момент, что она больше его не любит. Но только одну-единственную минутку, честное слово.
Вообще-то Лена к своим детским годам всегда относилась без сантиментов. Что такое детство? Всего лишь черно-белый рисунок в чужой, взрослой книжке, который тебе разрешили покрасить акварельными красками из дешевой коробочки. От тебя зависит так мало, что порой становится противно до тошноты. Разумеется, есть те, кому выпадают счастливые билеты, родители достают им импортные шмотки, они щеголяют в настоящих американских джинсах, им дают карманные деньги без счету, им наймут репетиторов по английскому, их отправляют отдыхать на юг. Их не отправят на выпускной вечер в самосшитом нелепом платье. Да к черту этих «их», в конце концов. Что толку рассуждать о счастливых сытых толстомордиках, если ты принадлежишь совершенно к другой категории!
Остается вернуться к тому растреклятому собранию, где Лена так позорно срезалась во второй раз. Конечно, все это было хорошо отрепетированным представлением: и завуч, и директрисса постарались на славу. Маргарита смирилась – изменить она уже ничего не могла. Директор руководила неспешно и со вкусом.
Бедная Маргарита – спустя столько лет Лена, наконец, пожалела ее: классная руководительница никогда не скрывала, что Стен был ее любимчиком, а тут пришлось участвовать в расправе над ним. Он сам виноват. Он это сделал нарочно…
Итак, вернемся к собранию. Собрание – от слова «собирать», то есть сгребать в кучу все дерьмо и копаться в нем, пока не надоест. Нынче это занятие вышло из моды, а прежде было весьма популярно.
Преступник стоял у доски и молчал. Зато Кошкина говорила непрерывно и изображала праведный гнев: индивидуалисту и отщепенцу нет места среди нас. Ее эмоциональность нравилась завучу, и пожилая дама по прозвищу «Кобра» одобрительно кивала. Стеновский молчал так долго, что всем уже начало казаться, что он просто оттягивает минуту своего позора. А его гордо поднятая голова и презрительно поджатые губы – только маска, которую к концу спектакля придется снять. «Спектакль», – именно так подумала Лена.




