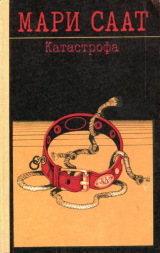
Текст книги "Катастрофа"
Автор книги: Мари Саат
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 16 страниц)
Как-то Сирье высказала свое удивление: ведь Олеву нравится фотографировать, и то, что он снимает, вовсе не порнография.
– Да, – согласился Олев, – но я занимаюсь этим ради собственного удовольствия, а для них это, похоже, цель жизни.
– Не понимаю таких людей, – продолжал он не то в шутку, не то всерьез, – они спорят, рисовать ли людей в виде кубиков или в виде туманных шаров. А по сути дела все это ерунда, никто их картин не смотрит, плесневеют они в подвалах худфонда – если, конечно, попадают туда. Да если бы и смотрели, тоже мало проку. Ничего бы от этого не изменилось.
– И сколько в них высокомерия, – сказал он однажды, как будто чувствуя себя задетым, – словно все остальное – сплошная чепуха, ну хотя бы та же экономика. А между тем они просто бунтари, и ничего больше.
– Ты не любишь бунтарей? – спросила Сирье.
– Да, – ответил Олев. – Я согласен иметь дело с противником, который может выдвинуть свою систему. А у них нет никакой системы, они отрицают любую систему, потому что они вообще не способны системно и объективно мыслить. Но ведь система – это все. Они же из принципа должны выступать против чего-то, главное для них – возражать. Всего-то и толку от них – это заставить кричать в свою пользу…
Сейчас Сирье доставляло удовольствие уговаривать Олева. К тому же он сдался довольно быстро.
Около полуночи Олев проводил Сирье домой.
– Как тебе понравилось? – спросила Сирье о вечере.
– Адская пытка, – ответил Олев.
Сирье с трудом подавила улыбку.
– Когда ты меня снова разыщешь?
– Не знаю, – хмуро произнес Олев, глядя в сторону.
– Ты зайдешь ко мне?
– Может быть.
– Когда?
Олев пожал плечами:
– Не знаю. Когда будет настроение.
– Может быть, сейчас? Отец уехал в Пайде, – прошептала Сирье.
Отцу не хотелось ехать в Пайде. Он был там лишь неделю назад, обещал Тынису смастерить какую-то деталь для машины, кажется болт. Теперь он был готов.
– Может, Тынис сам приедет? – сказал отец.
– А почему бы тебе не съездить? – возразила Сирье. – Они всегда так рады тебе. Я бы и сама поехала, если бы не занятия в субботу. Что тебе делать в городе два выходных дня?
– На кладбище бы сходил, – по-стариковски жалобно произнес отец.
– В воскресенье я сама схожу на кладбище. Почините машину, глядишь, и все приедете в город. И пойдем на кладбище вместе.
– Ох, эта машина – такая развалюха, в нее и сесть-то страшно!
– А может, мы с Олевом в воскресенье приедем за тобой, прокатишься на новой «волге».
Отец недовольно махнул рукой. Он сразу же мрачнел, стоило Сирье заикнуться о машине Олева.
– Я и на автобусе могу вернуться!
В то же время Сирье было тяжело отпускать отца: она боялась, что с ним может что-то случиться, случиться именно потому, что Сирье гнала его из дому, хотела от него избавиться – неважно, что всего на одну ночь.
Сирье прошла в заднюю комнату. Олев задержался на пороге. Сирье зажгла торшер с широким зеленым абажуром, стоявший, как аист, на одной ноге и освещавший всю комнату: большой темный двустворчатый шкаф; еще более неуклюжий буфет, в застекленной средней части которого виднелись книги; старинное кресло; круглый стол; радио и телевизор на длинном невысоком шкафчике. Маленькая низкая комната была загромождена вещами. Сирье задернула окно плотными шторами. Затем она села на огромнейшую двуспальную кровать, которая распростерлась вдоль правой стены, погладила темное покрывало и позвала:
– Проходи!
Олев продолжал стоять на пороге.
Комнату наполнял мягкий зеленоватый полумрак. Сирье казалось, что в этом свете ее блузка – блузка цвета спелого персика просвечивает насквозь; она чувствовала, что ее глаза сияют, манят, смеются…
Олев тенью скользнул по комнате, сел рядом с Сирье; его правая рука обвилась вокруг девушки; пальцы левой руки, пытаясь расстегнуть блузку, начали копошиться в плотном замысловатом ряде пуговок, запутались в рюшах.
– Я не могу, – запротестовала Сирье, – я стесняюсь тебя!
– Стесняйся, – пробормотал Олев.
– Нет, я лучше потушу свет, – упрямилась Сирье.
Рука Олева теребила рюши.
– Ты не умеешь, – тихо засмеялась Сирье. – Давай-ка лучше оба разденемся и залезем под одеяло.
Одеяло было холодное и тяжелое, как морская волна. Сирье слышала, как рядом возбужденно дышит Олев.
– Здесь нельзя, – сказала Сирье, – это супружеская постель отца и матери. Здесь надо лежать тихо!
Олев поцеловал ее.
– Олев, – спросила Сирье, – ты еще не раздумал на мне жениться?
Олев молчал, только сопел.
– Зачем ты об этом спрашиваешь? – произнес он наконец. – Ты же сама против?
– Нет, не против! – ответила Сирье. – Просто я в тот раз испугалась. Я не верила, что ты этого действительно хочешь. Это, правда, серьезно?
– Хочешь! – передразнил ее Олев. – Разумеется, я н е х о ч у! Но… но…
Казалось, в нем происходит жестокая внутренняя борьба.
– Иначе же ты снова уйдешь! – выпалил он и уткнулся лицом в подушку.
Сирье вздрогнула, отстранилась. Затем снова подвинулась поближе.
– Милый, – прошептала она и осторожно коснулась пальцами его затылка, жестких волос. – Я никуда не уйду, если ты меня не прогонишь. Мне жаль, что так случилось. Я хочу быть только с тобой и ни с кем другим!
Олев поднял голову, пристально посмотрел на нее.
– Врешь? – вырвалось у него.
Сирье чувствовала, как начинает волноваться, сердце ее тревожно забилось, но она снова повторила:
– Нет, я не вру, я действительно хочу быть только с тобой, только с тобой! Это чистая правда!
СОБАКА болталась в фотосумке на правом боку Олева. Время от времени она шевелилась, наверно, поворачивалась. Это была ее первая весенняя поездка в фотосумке на мотоцикле. За зиму она привыкла ездить на машине, на мягком сиденье или на женских коленях. Сирье приоткрыла сумку, сунула в нее руку, потрепала теплый мягкий собачий загривок, почесала под подбородком. Мокрый язык скользнул по ее руке.
Было начало мая. На даче царили холод и сырость, как в подвале. Тем не менее Олев не стал разводить огонь – ни в камине, ни в бане. Он отдернул занавески, скинул с плеча сумку с собакой, но открывать сумку не стал; снял с другого плеча сумку побольше и принялся приводить в порядок свое фоторужье. Сирье выпустила из сумки собаку.
– Успеем развести огонь, когда вернемся, – сказал Олев, – сперва побродим, пока солнце не зашло. Сейчас прекрасное освещение.
Для ближней съемки он взял с собой еще второй аппарат с широкоугольным объективом, тот самый, которым он однажды фотографировал Илону на фоне нагроможденных предметов.
Он заставил Сирье ходить среди кустарника голой, сам же подстерегал ее с фоторужьем, перекинув через плечо ее пальто. Подобную «охоту» он считал весьма полезной: модель непринужденно ступала по лесу – Сирье это, во всяком случае, умела, – и каждый раз в этих снимках можно было найти что-то новое, что-то такое, до чего так просто не додумаешься. Сейчас, в начале мая, еще можно было чувствовать себя свободно: в будни здесь никого не встретишь. Разве что лесника – к просеке примыкал поросший ельником загон для лошади. Но лошадь он отводил туда только на ночь.
Было на редкость тихо и тепло, будто это и не май вовсе, а середина июня. Хотя на Сирье было накинуто только пальто, они зашли далеко, через каменоломню до заросших можжевельником холмов. Здесь у шоссе виднелась побеленная церковь с погостом, с другой стороны, у поймы, голубела полоска воды.
Когда солнце стало клониться к западу, они вернулись на дачу.
– Я замерзла, – пожаловалась Сирье.
– Я прихватил рому, – сказал Олев и выудил из своей бездонной фотосумки бутылку. – Сейчас разведу огонь!
Сирье, завернувшись в одеяло, съежилась на банном полке.
– Я только слегка протоплю, чтобы спать было теплее, ты ведь не собираешься париться? – спросил Олев.
– Не-а, – покачала головой Сирье.
Олев подсел к Сирье, попытался обнять ее, поцеловать. Сирье высвободилась.
– Я лучше пойду сварю кофе.
– Да не хочу я кофе, – не отставал Олев.
Сирье снова вырвалась:
– Я прекрасно знаю, чего ты хочешь. Войдешь в раж, а потом уснешь как убитый. Или есть захочешь. Лучше уж давай сейчас поедим, и собаке надо что-нибудь дать. Да и рому мы еще толком не выпили!
После ужина они уныло сидели перед камином, каждый в своем кресле. Здесь всего-то и было два глубоких плетеных кресла. Сирье держала в руках стакан с кофе; Олев ловил по радио передачу Би-Би-Си. Когда передача кончилась, он настроил приемник на Таллин, встал, держа радио в руке, подошел к Сирье, отобрал у нее стакан, поставил его на каминный карниз и решительно сказал:
– Пошли!
– Посидим еще немного, – попросила Сирье. – Так хорошо смотреть на уголья.
Олев поставил приемник, поднял Сирье на руки, сел в ее кресло, посадил Сирье к себе на колени и стал искать губы девушки.
– Посидим спокойно, посмотрим на огонь, – снова сказала Сирье.
– Зачем! – возразил Олев. – Зачем мне сидеть просто так, когда у меня есть ты! На огонь я смогу поглядеть и в другой раз, когда буду один!
– Да, но иногда ты сидишь и глядишь на огонь, совсем позабыв обо мне. У тебя бывают такие настроения.
– Но сегодня у меня нет такого настроения!
– Какой же ты эгоист! – улыбнулась Сирье и покачала головой.
– Только лицемеры не эгоисты, – прошептал Олев. – Да и эгоистом я бываю лишь с тобой. Подумай, ты единственный человек, перед кем я не лицемерю, неужели это тебе не льстит?
Он покрыл неистовыми поцелуями ее лицо и шею. Сирье свернулась клубком на его коленях, пытаясь таким образом защититься.
– Иногда бы ты мог им быть, – пробурчала она, – и со мной. Ты не хотел бы сегодня забыть обо мне?
Олев подул на ее волосы.
– Что с тобой? Заболела, что ли?
– Нет.
– Так что же тогда?
– Ничего, просто у меня нет сегодня настроения.
– Зачем же ты тогда приехала сюда? – спросил Олев, скорее в шутку.
Сирье пожала плечами:
– Не знаю. Мне было скучно одной. Дай мне хоть раз побыть спокойно! С тобой я вечно как солдат – всегда должна быть ко всему готова. Дай мне побыть как есть.
– Побудь, – беззвучно засмеялся Олев, лишь на мгновение обнажив зубы, как он делал, когда у него бывало очень хорошее настроение, – только я отнесу тебя и положу рядом с собой!
Он схватил Сирье на руки.
– До чего же ты легкая, – удивился он, – тебя можно носить, как приемник! Портативная женщина… – И он понес Сирье в парную, поднял ее на полок.
Сирье вымученно улыбнулась.
Олев снова стал ее целовать, сперва осторожно, затем все более страстно.
– Ой, мне больно, – со слезами в голосе воскликнула Сирье.
– В каком месте? – пробормотал Олев.
– Ты укусил меня в ухо!
– Я подую, – сказал Олев, пытаясь языком отыскать ее ухо.
– Нет, не хочу, не хочу! – всхлипнула Сирье. – Я не хочу, – умоляюще бормотала она, глотая слезы. – Прошу тебя, дай мне побыть одной, я хочу побыть одна!
Олев отстранился, затем повернул к себе лицо Сирье, взял ее за подбородок, посмотрел на нее; его скулы напряглись, уголки рта опустились.
– Нет, – резко сказал он, – ты врешь! Тебе вовсе не хочется быть одной! Ты не хотела быть одна, потому ты и поехала со мной! Да, я был тебе нужен, но на самом-то деле не я – я был нужен как заменитель!
– Да, – ответила Сирье, и Олев впервые увидел в ее глазах злость, а может, то была и неприязнь, – да, но им тебе не стать! Потому что с тобой мне тяжело, а с ним – легко, даже думать о нем легко, светло…
Ее голос прервался, она опустилась на сбившиеся одеяла, плечи ее вздрагивали. Олев угрюмо смотрел на нее; постепенно лицо его ожесточилось.
– Реви, коли тебе охота, – сказал он. – Между прочим, я тебе не манишка, в которую можно выплакаться! И я не буду ею, никогда!
Он спрыгнул с полка и, направляясь в комнату, неожиданно вздрогнул: из темноты на него смотрели пылающие зеленые глаза – под столом сидела собака. Он чуть было не ударил ее ногой. Возможно, он и замахнулся, потому что собака забилась еще дальше под стол, тесно прижалась к ножке стола. Это Сирье виновата, что собака здесь!
Олеву показалось, что он слышит всхлипывания. Он включил радио, поискал музыку. Радио трещало, гудело. На столе стояла початая бутылка рома; луна светила в окно, отражалась в бутылке. Олев желчно усмехнулся: сейчас ему, как в плохом кинофильме, следовало бы опустошить эту бутылку. Он прилег на диван, вернее, на жесткую лежанку.
Сквозь сон он слышал звон посуды. Конечно же, это гремит Сирье. Послышался глухой шлепок – кто-то прыгнул к нему, забрался на живот.
Сирье легкая женщина, подумал он, портативная женщина.
Сирье прикоснулась губами к руке Олева, лизнула ее. Олев попытался нахмуриться, освободить руку, но не хватило сил. Сирье поползла к нему на грудь, провела мокрым языком по подбородку; Олев открыл глаза: уже совсем рассвело; в лицо ему глядела собачья морда с высунутым языком. Он со злостью спихнул собаку на пол, вскочил, обошел обе комнаты, парилку, кухню. Задняя дверь была на замке; на столе, под грелкой, стоял горячий кофейник, рядом с ним вчерашняя бутылка рома. Сирье вымыла посуду, выкинула окурки, сварила кофе и вышла через веранду – дверь была не заперта, в замке болталась связка ключей.
Олев вернулся в комнату, тяжело опустился на стул у стола, обхватил голову руками и, перебирая волосы, уставился на кофейник под грелкой…
Какая подлость, какой цинизм! Перед уходом спокойно сварить кофе, словно покидает дом в обычный рабочий день! Так низко меня обмануть, клясться на том самом месте, где ее зачали! Я не гожусь в заменители! И я доверял ей, о, чего только я не наболтал! Что хочу стать министром, что… что боюсь одиночества! Ведь я обнажился перед ней, скинул с себя все!
Он долго сидел так. Наконец поднял голову, тупо огляделся, увидел собаку, проворно вскочившую на ноги, как только на нее упал взгляд Олева.
– Ну, Пиуз, пойдем и мы прогуляемся, – сказал Олев, – прекрасное утро.
Вначале это было мало похоже на прогулку: семимильными шагами несся он по просеке, так что собака едва поспевала за ним; наконец он заметил это и сказал самому себе: «Ну, и куда же ты несешься? Спешишь ее догнать?»
Он умерил шаг, заложил руки за спину, но походка осталась прежней: медленным шагом, согнувшись, продвигался он вперед, словно преодолевая ливень, хотя погода была тихая, настолько тихая, что не шевелилась даже хвоя на соснах.
Описав большой круг, он вернулся к даче, увидел, что уходя забыл запереть дверь, и усмехнулся про себя. Теперь он привел все в порядок: убрал аппарат в сумку, завинтил пробку на бутылке с ромом, сунул и ее в большую фотосумку – сумка поменьше предназначалась для собаки, надел кожаную куртку, взял шлем – прежде чем взять второй, немного подумал, но все же взял; вышел во двор, запер дверь на ключ, положил вещи посреди двора, чтобы вывести из гаража мотоцикл, – и почувствовал вдруг, что устал. Захотелось еще немного посидеть в лесу.
Он сел посреди двора и прислонился спиной к сосне. Дом был окружен высоким сосновым лесом; то тут, то там заросли молодых сосенок, ели, кусты дикой смородины… Он заметил, что вовсю сияет солнце и небо ярко-голубое; золотистыми стрелами устремлялись вверх сосны, на их макушках зеленые метелки. Воздух дрожал от пения птиц, их щебета, трелей. Сквозь ласковый шум леса доносилось кукованье. Олев посмотрел на сосны – они стояли неподвижно, и все-таки лес тихо шумел. В шелесте сосен как будто слышался тоненький, протяжный, прерывающийся старушечий голос: «На заре кукушка громко куковала, в полдень пташка милого будто отпевала…» Олев вздрогнул – так явственно слышался голос. Где он слышал этот голос? Не напоминал ли он голос бабушки, возникший где-то в самой глубине его души, когда он слушал кукушку?
Собака кружила по лесу, мелькала меж стволов, время от времени подбегала к нему. Олев свистнул. Затем еще раз. Собака стремительно подбежала, но в нескольких метрах вдруг остановилась и больше не двигалась с места.
Олев открыл фотосумку и приказал:
– Ну, лезь в сумку!
Собака не шелохнулась.
– В сумку! – впадая в ярость, повторил Олев.
Ему казалось, что он прибьет собаку, если ему еще раз придется повторить приказание. Собака нерешительно стала приближаться к Олеву, не сводя с него глаз, подобострастно, спотыкаясь – как будто враз охромела на все четыре лапы, – почти ползком.
Олев схватил ее за шиворот.
– Ах не идешь! Думаешь, я тут шутки с тобой шучу! – прошипел он. Внутри у него все кипело; в глазах собаки светилась такая глубокая покорность, что это еще сильнее распалило Олева.
Думаешь, теперь я уйду отсюда в полном отчаянии! Нет, я уже раз испытал, что значит отступать! Да и к чему? Во мне нет больше ревности, как нет и любви – да и были ли они вообще когда-нибудь? Была только тоска по чему-то. Но теперь я и ее подавил в себе. Меня оттолкнули, и именно презрение придает мне сейчас сил, назло всему! Все остальное ничто! Я совершенно свободен! Что еще может быть мне здесь дорого – или кто? Плевать мне на все!
Он сжал пальцы вокруг горла собаки и повернул – резким, жестоким рывком.
Собака пискнула, напряглась. Шея у нее была теплая: кость, мягкая пружинящая плоть, шерсть. Пальцы Олева сжимали нечто очень гибкое и тонкое, как будто он с корнями выдергивал из земли деревце; и тут что-то оборвалось – словно завял гибкий стебелек, шея перестала сопротивляться; пальцы ушли во что-то мягкое, похожее на пластилин, ушли так неожиданно, что ужас и испуг передались от пальцев глазам, глаза его широко раскрылись, отражая появившуюся в пальцах дрожь; он никогда не убивал, только причинял боль всему живому, гибкому, смаковал чужие мучения; никогда раньше его пальцы не прикасались к такому безжизненному пластилину; он с отвращением хотел отбросить то, что держал в руках, но побоялся разжать пальцы, побоялся увидеть следы на шее собаки, вмятины, оставленные его руками.
Собачья пасть была приоткрыта, все еще блестящий язык высовывался изо рта. И глаза, готовые выскочить из орбит, – эти два темных бездонных озерка. В них отражались облака, сосны, фигура самого хозяина. Бескрайний мир, вмещавший в себя многоголосый шум и яркий свет, неудержимо бурлил в них, когда она носилась под соснами. Теперь же в этих глазах сияла непривычная пустота – лишь облака отражались в них, отражались все туманнее, потухая.
А он все еще не понимал, что произошло. Он по-прежнему держал в руках этот угасающий, исчезающий мир – но совершенно непостижимая, непонятная, лишь смутно угадываемая скорбь потери уже наваливалась на него, и на глаза навернулись слезы.
Как быть с матерью?
1
Утро
Мать сидит на краю постели в ситцевой ночной сорочке и причесывается. Она без особого старания поспешно проводит редким гребнем несколько раз по волосам. Зеркалом мать не пользуется, старинное трюмо стоит в изножье кровати. Да ей и незачем глядеться в зеркало, она просто зачесывает волосы через голову. Взор ее устремлен на противоположную стену, в невидимую точку под самым потолком, глаза и лицо лучисты и радостны, словно в канун праздника. В них светится какое-то одушевление, некая мысль, чувство, а может, воспоминание, как у человека, стоящего с обнаженной головой на открытом холме, на солнце и ветру… Кукарекает петух, хриплым тенором отзывается собака.
– Ишь ты, и Мури вернулся с гулянки. Небось и второе ухо потерял? – глуховато, растягивая слова, бормочет мать. Голос не вяжется с ее проворными движениями и бодрым зарумянившимся лицом. Голос звучит так, будто она разговаривает во сне.
И вот она уже вскакивает с постели, бросает взгляд на часы – такие же маленькие, круглые и тугие, как и она сама. Часы стоят на ночном столике, среди пузырьков с лекарствами и тюбиков с мазями; на них без четверти пять.
2
В хлеву
Как только мать входит в хлев, там поднимается разноголосый шум. Коровы, молодая и старая, встают со своих подстилок, потягиваются и совершают еще кое-что: старая корова пускает звучную струю и с шумом роняет лепешки, молодая справляет свои дела более мелодично… В закутках визжат поросята и хрюкает свинья; в загончике блеют овцы; просыпаются куры, встряхиваются, слетают вниз с жердей и кудахчут. Только теленок, не соображая, что уже пора вставать, все еще тихо дремлет в своем маленьком стойле в углу хлева.
Мать занимается скотиной молча, не беседует с ней, как другие деревенские женщины, особенно одинокие; она, когда надо, лишь отдает приказания, как сейчас молодой корове: «Повернись, пожалуйста!» И корова, немного подумав, делает шаг в сторону, а мать кладет оставшееся в кормушке сено ей на подстилку.
В хлеву скопился навоз, особенно много его под коровами, они живут как на матрасе. Кроме того, большая куча вздымается под насестами, около двустворчатых ворот хлева. Весна уже переходит в лето, картошка посажена, вовсю пахнут березы. Но вывезти навоз пока не успели – ждали, когда появится на свет теленок.







