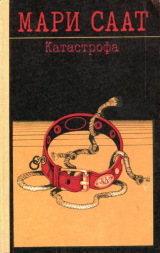
Текст книги "Катастрофа"
Автор книги: Мари Саат
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 16 страниц)
– Его друзья мне тоже нравятся. С ними он разговаривает куда больше, чем со мной – со мной ему, в общем-то, и не о чем говорить. Мне нравится их слушать, я была с ними несколько раз в кафе, они говорят так непонятно: о Фишере и Карпове, о каких-то автопокрышках – не знаю, кажется о японских; о скольжении цен – в Венгрии, что ли. Я ничего не понимаю, но мне нравится быть с ними…
И еще: к тебе я прихожу как к себе домой, мне даже в голову не приходит мысль, что вдруг юбка испачкана в краске или вспотели подмышки. А когда я встречаюсь с ним, мне хочется выглядеть как можно лучше. У меня есть китайские духи, еще с незапамятных времен, от тети остались. В другое время я о духах и не вспоминаю. А если мы с ним куда-нибудь отправляемся, у меня уходит часа полтора на сборы. Отец потому и считает, что я от него без ума… И маме он нравился. Мне хочется поступать так, как это нравилось бы ей, – очень тихо, но уверенно произнесла Сирье.
– Кому ей? – переспросил Аоян. – Ведь решать придется тебе самой – мать теперь больше ничего не посоветует. Если бы она и могла чего-то пожелать, то только одного – чтобы т е б е было хорошо.
Сирье съежилась и сидела так некоторое время.
– Не знаю, – сказала она наконец, покачав головой, – я была так уверена, когда шла сюда. Ты как будто нарочно хочешь запутать меня.
– Запутать тебя я не хочу, – хмуро ответил Аоян. – Я был бы только рад, если б ты нашла мужа, который будет заботиться о тебе, а не только о себе. Мне хочется, чтобы ты чувствовала себя свободной, чтобы нашелся человек, который принял бы тебя такой, какая ты есть, который не пытался бы тебя непременно согнуть, переделать на свой лад… Любовь, конечно, вещь красивая, но что кроется за этим? Думает ли он о тебе, тот ли ты человек, который его интересует, или ты нужна ему только для того, чтобы самоутвердиться? А теперь иди, – добавил он поспешно, – и решай сама. Может, я и вправду хочу сбить тебя с толку, не хочу отпускать. Иди…
Как-то в субботу после обеда – была уже середина февраля – Олев повез Сирье кататься на машине. Это показалось Сирье странным, обычно по выходным Олев не просил у отца машину, тот пользовался ею сам. Но Олев сказал, что отец уже целую неделю находится в Москве.
– И мой отец уехал в Пайде, к Тынису, – сказала Сирье. – Сейчас у нас никого нет дома, – добавила она не подумав, и тут же ей стало стыдно, что она так сказала.
Олев взглянул на нее исподлобья и, ехидно усмехаясь, спросил:
– Так, может, нам и не стоит никуда ехать?
– Нет, поедем, – поспешно возразила Сирье.
– Куда? – спросил Олев, как заправский таксист.
Он смотрел в окно прямо перед собой; его левая рука спокойно лежала между коленями, пальцами правой руки он постукивал по баранке.
– Все равно куда, – произнесла Сирье.
– Тогда на дачу?
– Угу.
– Съездим, посмотрим, как там, – сказал Олев.
Походить на лыжах в этом году не пришлось; снег, выпав, тут же таял; время от времени стояли бесснежные морозы. И сегодня было холодно, ветер кружил лишь редкие снежинки.
У Каарлиской церкви Сирье вдруг подумала, что надо бы съездить на могилу матери.
Олев послушно повернул направо, чтобы по Морскому бульвару выехать на Нарвское шоссе.
Въезд на Нарвское шоссе преградила пышная похоронная процессия: на покрытом кумачом грузовике стоял внушительный дубовый гроб, со всех сторон обложенный венками, за ним следовали черные и вишневые служебные автомашины, большие и маленькие автобусы, светлые частные легковушки…
– Нам придется ехать за ними? – испуганно спросила Сирье.
– Некоторое время – да, – ответил Олев. – Они, наверно, свернут к Лесному кладбищу.
– Я не хочу, – прошептала Сирье.
– Чего же ты тогда хочешь? – спросил Олев без раздражения и без возмущения, весьма добродушно, словно для него ничего не значило, что он должен так вот кружить по городу.
И Сирье осмелилась попросить:
– Поедем все же на дачу.
Олев молча развернул машину.
Почему он не разрешил мне взять с собой собаку? – думала Сирье. Ах, он ведь сказал, что мать хочет сама погулять с ней…
Сирье полулежала на заднем сиденье. В зеркале она видела лицо Олева. Оно было спокойно и неподвижно, как гипсовая маска. Невозможно было хоть что-то прочесть на этом лице, какие-нибудь чувства или мысли. Хотя кое-что Сирье все же знала: когда Олев о чём-то напряженно думает, он чуть заметно прикусывает губу; когда он сильно раздражен, щека под правым глазом начинает слегка подергиваться; когда же он совершенно вне себя, его лицо каменеет, становится сероватым, застывает. Сирье видела его однажды таким, и это было страшно.
Сирье нравилось изучать его лицо. Они познакомились на чьей-то свадьбе. Сирье была подругой невесты, Олев дружил с женихом. Олев сидел за столом напротив Сирье, и Сирье сразу же обратила на него внимание, в парне было что-то очень знакомое: узкое лицо, но большой рот, уголки губ опускались чуть-чуть книзу, а линия глаз приподнималась немного вверх. Сирье пыталась припомнить, где она видела нечто похожее, и вдруг сообразила, что так выглядел бы бульдог, если бы он вдруг вытянул морду. Ей хотелось знать, красиво это лицо или нет – ведь его черты были по-своему привлекательны.
Тут парень пригласил ее танцевать. Он крепко прижал Сирье к себе, и началась бешеная скачка по паркету семимильными шагами. Сирье уже не чувствовала своих ног – это были ноги паяца, болтавшиеся сами по себе. Она вся сжалась в руках парня: ей казалось, что ее сейчас либо ударят по голове, либо саданут по ребрам другие танцующие, мелькавшие мимо столы, сейчас они запнутся о какую-нибудь пару и во весь рост распластаются на полу.
– Нельзя ли помедленнее? – попросила она парня.
– Нет, нельзя – это фокстрот, – ответил он и нахмурился, словно Сирье отвлекла его от какой-то важной мысли. Позже она несколько раз поднимала на него глаза, и все время он смотрел в какую-то далекую точку вверху за ее спиной.
Сирье обратила внимание, что в городе, вообще среди людей Олев держится прямо, ступает гордо и непринужденно, шаг у него пружинистый, он слегка раскачивается вправо-влево, будто ступает по красной плюшевой дорожке к почетной трибуне, и хотя у него при этом бывало выражение человека, ушедшего в себя, он замечал все, что происходило вокруг. Когда же они вдвоем бродили по лесу или по берегу моря, Олев наклонялся вперед, сцеплял руки за спиной и размашисто ступал напролом. Тогда для него не существовало ничего, кроме самого себя и того, что было впереди него. Сирье это проверила: иногда она нарочно отставала, и Олев, как правило, даже не замечал этого. Сирье ничего не имела против такой привычки, ей тоже нравилось быть самой по себе, в лесу она находила достаточно интересного и захватывающего. Ей только хотелось знать, из чистого любопытства, зачем Олев приглашает ее сопровождать его в этих прогулках.
Сейчас губа у Олева не была прикушена. В противном случае было бы опасно мешать ему разговором – тут же рассердится.
– Не выношу похорон, – стала объяснять свое поведение Сирье, – какая-то нелепая церемония. Духовой оркестр. Надгробные речи. Хоронить надо бы тихо – чтобы только родственники. А то ведь большинству из этой процессии все тут до лампочки, они участвуют в ней лишь ради проформы… Потом набьют животы, и кончено.
– Ну и что, – возразил Олев, – именно это и показывает, чего стоил человек: если ради него останавливают движение, хотя сам он уже и пальцем не может шевельнуть.
– Да, – ответила Сирье, – но это еще не значит, что его действительно уважали, это может быть и потому, что он занимал важный пост. Ведь не исключено, что добрая половина провожающих вообще не переносила его.
– Тем более – раз уж он, вопреки их воле, до самой смерти сумел удержаться в своем кресле. Значит, он был выше их, да и сейчас еще остается выше, до кладбища. Похороны все поставят на свое место, и чем роскошнее похороны…
Олев вдруг замолчал, будто и так сказал слишком много; щека под правым глазом резко дернулась, и за всю оставшуюся дорогу он не проронил больше ни слова.
Он оставил машину вблизи домика лесника. К самой даче было не подъехать: хотя местами дорогу не замело, даже виднелись трава, замерзший песок и лед, все же кое-где возвышались сугробы.
Сирье нравилось брести по сугробам.
Внутри дачи было холоднее, чем на улице. Даже не таяли снежные следы на полу.
– Хочу сигарету, – хмуро сказала Сирье.
– Ничем не могу помочь, я не курю, – ответил Олев.
– Знаю, у меня и у самой есть, – заявила Сирье, – только спички дай!
– Спичек нет, – схватив с каминного карниза коробок, сообщил Олев, – во всем доме нет ни единой спички!
Сирье засмеялась:
– Не дури! Давай спички, не то я околею от холода!
– Иди ко мне, я тебя согрею!
– Не пойду! Кинь мне спички, иначе не пойду!
– Я возьму тебя силой! – сказал Олев, медленно приближаясь к Сирье.
– Не подходи! Укушу! – вроде бы смеясь крикнула Сирье, но глаза ее – глаза блестели, как у загнанной в угол кошки.
– Гм, – хмыкнул Олев, – я кусаюсь больнее… Роза, розочка на лугу, – напевал он, подходя все ближе.
Он вроде бы подтрунивал над Сирье, из-под приспущенных век мерил ее насмешливым, полным превосходства взглядом; но Сирье видела, как медленно стынет его лицо, как едва заметно начинает подергиваться нижнее правое веко… И от этого взгляда Сирье пришла в замешательство.
Сделав неожиданный прыжок, Олев схватил Сирье в охапку и повалил ее на диван.
– Ну, кусай, если хочешь, – сказал он, тяжело дыша, и так сильно сжал девушку, что она едва смогла перевести дух.
Сирье расслабилась.
– Дай мне спички, – сказала она тихим сдавленным голосом; теперь Олев обязан был дать ей спички, потому что иначе – иначе не было бы больше ничего.
Но Олев не дал, наоборот, он взял из рук Сирье пачку сигарет и, все еще не отпуская ее, закурил сам.
– Ты же не куришь, – удивилась Сирье.
– А я и не курю, я пробую.
Он продолжал держать Сирье на коленях и время от времени совал ей в рот сигарету. Комнату заливал мягкий полумрак, который бывает, когда солнце светит сквозь ситцевые занавески. Занавески были задернуты не совсем плотно, и в черную топку камина – на его пол – падало яркое пятно.
– Фу, – сказал наконец Олев, вздрогнув, – здесь такая холодина, давай лучше вернемся!
Они снова побрели по сугробам. Солнце заходило. На открытом месте между дачей и домиком лесника снег на солнце подтаял и стал рыхлым, теперь на нем появилась ледяная корка. Она хрустела под ногами, когда они не попадали в свои прежние следы.
– Взглянем на море, – предложил Олев и поехал вперед, в сторону Кейла-Йоа, где шоссе, резко сворачивая, поднималось на береговой откос.
Перед ними лежало открытое пространство: местами снег, местами пожухлая трава, изредка можжевельники. Море было сразу под крутым обрывом. У берега образовались ледяные торосы, но дальше виднелась чистая вода. Солнце заходило. Небо, красноватое и лилово-серое, казалось каким-то холодным; на море лежал сиреневый отсвет.
Сирье, понурившись, стояла рядом с Олевом, она засунула руки глубоко в карманы пальто, сжала в кулак застывшие, онемевшие в варежках пальцы; но Олев как будто забыл обо всем на свете и стоял, выставив вперед ногу, словно намереваясь шагнуть, взгляд его был устремлен вправо, к горизонту, где за заливами можно было угадать зарево Таллина.
– Эта Эстония ничтожно мала… – произнес он неожиданно, – и быть здесь министром не больно велика честь… Хотя, впрочем, это ничего не значит, – добавил он, – важно само продвижение вперед…
– Гм, – пробурчала Сирье, она не знала, что ответить на это; она даже не поняла, ей ли предназначены слова Олева – тот говорил вроде бы больше сам с собой.
– Сирье, – произнес вдруг Олев, касаясь ее плеча.
Сирье повернулась к нему, но он снова как-будто забыл о ней и принялся шагать взад-вперед вдоль обрыва.
Сирье все это казалось странным: и то, как они неподвижно сидели в насквозь промерзшей даче, и это хождение взад-вперед, размеренным шагом… Олев что-то задумал. Может быть, он вынашивал эти мысли еще с декабря, когда они случайно встретились на улице Виру, а теперь здесь, на берегу обрыва, решил привести их в исполнение. Почему именно здесь, на этом крутом обрыве? Он что, задумал столкнуть Сирье вниз – в отместку за Аояна и вообще за все? Чего же он тогда тянет?
Но, может быть, он и не станет ее сам сталкивать, а только скажет: «Ты не сто́ишь того, чтобы жить. Тебе не остается ничего иного, как прыгнуть вниз!» – И сурово посмотрит на Сирье.
Прыгнет ли она? Да, ей так холодно: она уже ничего не чувствует и ни о чем не думает; она сделает именно то, что велит ей Олев, – сядет в машину, пойдет за Олевом куда угодно, как крысы в реку за флейтистом, превратится на этом самом месте в ледышку… Проще всего было бы не думая ступить вниз, с засунутыми в карманы пальто руками…
– Давай поженимся? – сказал Олев, неожиданно останавливаясь перед Сирье.
Сирье молча уставилась на него.
– Да нет, зачем?! – спросила она наконец испуганно, еле слышно, будто просыпаясь.
Олев пожал плечами, отвернулся; он встал боком к Сирье и принялся указательным пальцем соскребывать лед с бокового стекла автомашины. По его лицу пробежала усмешка – какая-то презрительная, злая или раздраженная.
– Нет-нет, – забормотала Сирье, ее вдруг охватил панический страх. – Давай поедем, – умоляла она, теребя Олева за рукав, – пожалуйста, поедем, здесь так холодно!
Олев снова пожал плечами и сел в машину.
Сирье почти желала, чтобы их занесло на повороте. Но Олев вел машину с присущей ему уверенностью. Сирье украдкой поглядывала на его лицо в зеркале. Оно было опять таким же спокойным, как и по дороге сюда.
Что это со мной, отчего я так разволновалась, думала Сирье. Она сидела как на иголках, но Олев больше не обращал на нее внимания.
Они добрались до города, когда уже стемнело.
Олев остановил машину у дома Сирье и, не оборачиваясь, сказал:
– Спокойной ночи!
– Спокойной ночи, – пробормотала Сирье в ответ и вылезла из машины.
Она опустилась на свою кушетку, как была в пальто, и даже не стала зажигать свет, сидела в темноте и думала: я несчастна.
Она могла не жалуясь переносить боль, скорбь, одиночество – все это представлялось ей естественным, но когда ее ставили перед сложным, запутанным вопросом, ей казалось, что она несчастна.
Не думал же Олев об этом серьезно? Но тут перед ее глазами заново пробежал сегодняшний день: мучительное ничегонеделанье в ледяной даче, вышагивание Олева взад-вперед, раздраженное пожатие плечами и усмешка… Нет, все это далеко от шуток! И Сирье снова впала в отчаяние.
Олев не беспокоил ее в воскресенье, не пришел встречать ее к институту и в понедельник. Сирье знала – теперь ей следовало бы позвонить самой. Во вторник она решила прогулять занятия и пошла к Аояну. Его могло и не быть в мастерской, там могла оказаться какая-нибудь натурщица или вообще невесть кто… Но Сирье не стала раздумывать. Чем ближе она подходила к мастерской Аояна, тем легче у нее становилось на душе. Поднимаясь по скрипучей лестнице, она почти ощущала у себя за спиной крылья.
Аоян был один и, похоже, искренне обрадовался. Он поспешно заговорил:
– Ты, конечно, совсем продрогла. У меня есть какой-то ликер, вот, вишневый. Замечательный ликер. Я сварил бы кофе, только кофе кончился… Но я могу вскипятить воды!
– Ох, я согласна и на ликер, – сияя, сказала Сирье; у нее было такое чувство, будто она выбралась из дремучего леса.
– Мне лень было идти сегодня в институт, – объяснила она, шмыгая носом; она не могла одновременно снимать пальто и сморкаться, а снять пальто было важнее: ей казалось, что если она тут же его не снимет, то он или она вдруг скажут что-нибудь такое, что пальто снимать и не придется, и тогда снова все запутается, и опять станет грустно.
– Ты, конечно, как всегда, со своими бедами, – сказал Аоян, когда Сирье наконец устроилась на кушетке, держа в руках стакан, на дне которого поблескивал ликер, – и все же я рад!
– Угу, – сверкнув улыбкой, произнесла Сирье, – разумеется! – Но тут же стала серьезной, словно испугавшись чего-то, и еле слышно добавила: – Со своими бедами…
Алоян подсел к Сирье, осторожно обнял ее. Сирье повернулась к нему и с любопытством стала рассматривать его лицо, впалую грудь, живот, выпиравший из-под рубахи.
Аоян как-то захотел нарисовать ее, заикнулся об этом мимоходом. И Сирье с радостью согласилась. Ее привлекали непривычные вещи: извилистые улочки Старого города, криволапые бродячие псы, живущие какой-то независимой загадочной жизнью… У Аояна было красивое лицо: тонкий нос с двумя чуть заметными горбинками – на полотнах старинных мастеров у Христа обычно был такой же нос. Этот нос хорошо гармонировал с овальным лицом и спокойными теплыми темно-карими глазами. Но щеки его уже начали округляться, кожа на них становилась дряблой, появился двойной подбородок. Аоян быстро полнел – видимо, потому, что мало двигался. В детстве он переболел полиомиелитом: на спине был заметный горб, грудь вдавлена, причем от этого выпирал живот – в сторону правого бедра. При ходьбе он как-то странно вихлял коленями и правым бедром, создавалось впечатление, что походка у него намеренно расхлябанная. Сам он очень гордился тем, как ходит. Говорил, что пятнадцать лет назад ковылял, опираясь на две палки, а теперь обходится одной, да и ею может поигрывать, – и кружил по комнате, изображая щеголя. Сирье смеялась от всей души, как малый ребенок. Это было, когда они познакомились поближе. Поначалу Сирье, позируя на диване, решалась поглядывать на него лишь украдкой. Но, конечно же, получалось это у нее слишком откровенно, так что Аоян заметил и сказал:
– Смотри, смотри, не бойся! Главное, чтобы тебе не было скучно!
А сейчас он сказал:
– Ты, кажется, стосковалась по моей внешности. Ну конечно, ведь мы так давно не видались!
Сирье еще в прошлом году перевелась на отделение живописи, и теперь они действительно встречались редко.
– Я совсем не так смотрела, – возразила Сирье. – Я смотрела вовсе… ну, в общем, мне здесь ужасно хорошо!
– Неужели? – спросил Аоян насмешливым тоном, убрал руку с плеча Сирье, уставился в какую-то точку на выцветших розовых обоях и заговорил теперь уже серьезно, даже с каким-то робким удивлением:
– Я тоже иной раз думаю, что здесь ужасно хорошо… по-своему хорошо. Может быть, плохо, что ты пришла, но мне не хочется, чтобы ты снова ушла.
– Как же быть? – беспомощно произнесла Сирье.
– Да, как же быть, – рассеянно повторил он вслед за ней.
Взгляд Сирье задержался на той же самой точке на обоях: отъевшийся ржавого цвета клоп полз вверх по стене. Сирье не могла не улыбнуться. Этот клоп был ей знаком. Она не раз видела его на потолке, когда лежала здесь на диване. Это было упитанное, исполненное собственного достоинства существо – клоп никогда открыто не вмешивался в их дела, никогда не сваливался на них с потолка.
– Вот клоп, – сказал как-то раз Аоян, лежа рядом с Сирье и глядя в потолок, – и как его ненавидят, и как только ни уничтожают, и сам он стал красным от этого тяжкого груза презрения, а не сдается, все ползет…
И сейчас клоп, не сворачивая, шествовал своим путем, может быть домой, в какую-нибудь щель под обоями.
– Олев сделал мне предложение, – сообщила Сирье.
Аоян удивился.
– Ну, значит, у тебя все в порядке!
Однако в обычном подтрунивании прозвучала и горечь. Впрочем, Аоян был не Олев, выражение лица которого или оттенок голоса могли выбить Сирье из колеи.
– Ох, не знаю, все так сложно, – пожаловалась она.
– Чего ж тут такого сложного?
– Для меня – да, ведь решать-то должна я! Если б он прикрикнул на меня или… А он как будто задал мне вопрос… Я боюсь. Не представляю, как они поладят с моим отцом. Оба такие мрачные. Впрочем, мы, наверно, будем жить у его родителей. Конечно, его мать меня недолюбливает. Но меня это не особенно трогает, я не больно обращаю внимание на то, любят меня или нет. Отец останется один… Конечно, он мог бы поехать в Пайде, к Тынису. Там у них целый дом, ему отвели бы отдельную комнату – они всегда так говорили. Там и сад, и внуки… Ему ведь больше не надо ходить на работу, мог бы в конце концов спокойно пожить! Сейчас он все обо мне заботится – даже готовит! Пока мама была жива, он ничего дома не делал. Я вообще не представляла, как он мог бы что-то делать дома. Мы с Тынисом боялись его, когда были маленькие. Знаешь, мне кажется, что сейчас ему именно этого и хочется – жить вдвоем со мной… А так ведь он останется совсем один… Господи, почему я должна обо всем думать, без конца думать! Ну почему я не корова! – воскликнула она в отчаянии, а затем смущенно продолжала: – Мне так нравится трава. Вот бы лежать на травке и жевать жвачку. Знаешь, – прошептала она, – а отец-то старый!
– Какой же он старый, – возразил Аоян, – ведь ты сама еще почти ребенок.
– Не знаю, – сказала Сирье, – все-таки старый, у нас с Тынисом разница в пятнадцать лет. Он всегда был старый. У других девчонок дедушки были такого же возраста, как мой отец… Но не в том дело, теперь это у него иначе проявляется – он стал говорить о животных, как-то странно говорить! Люди, конечно, могут любить животных, только у тех, кто стар или немощен, кто отстранился от жизни, это выходит как-то иначе. Вот как ты иногда говоришь про клопа, но еще более странно. Это не означает, что они непременно любят животных, просто животные как бы становятся им близкими. Помню, в деревне жила старенькая сестра моей бабушки. Она все грелась на солнышке, сидя на пороге хлева, и разговаривала с овцами, как с людьми, она уже не понимала разницы. И мама перед смертью говорила, что у них в больнице под окна приходят белки. Меня она уже ни о чем не расспрашивала, мои дела ей стали безразличны, а вот про белок говорила. И теперь отец. Он никогда не обращал внимания на животных, он всю жизнь был слесарем, а сейчас кормит голубей, кидает им крошки в окно. Я сама видела!
Глаза Сирье наполнились слезами. Она прикусила губу, быстро заморгала, уткнулась лицом в диванную подушку; плечи ее вздрагивали.
– Ну-ну, – сказал Аоян, похлопывая ее по плечу. – Не надо хныкать! Никто тебя не заставляет выходить замуж. И чего это тебе так замуж приспичило! Живите спокойно вдвоем с отцом. Да и вообще это была бы величайшая глупость – оба вы еще совсем дети. Тебе-то, пожалуй, можно было бы, не то я тебя вконец испорчу, а вот он еще совсем мальчишка. Ведь он моложе тебя, ты однажды вроде говорила.
– Да, но он сказал об этом так, словно ему очень нужно!
– А вот за это тебе следовало бы надрать уши! – в сердцах сказал Аоян. – Как бы не так – вешаться на шею каждому, кому ты нужна!
– Да кому уж я так нужна, – тихо проговорила Сирье. – Ему… да еще, возможно, отцу… Вот если бы я была нужна тебе, я бы не раздумывала. Но у тебя есть своя…
– Да, мне ты действительно не нужна, – просто ответил Аоян.
– Вот видишь, – продолжала Сирье. – Для меня это получилось так неожиданно. Я все думала, что он только проводит со мной время, я не навязывалась ему, – он сам как-то сказал об этом. Мне бы никогда и в голову не пришло, что он не может обойтись без меня.
– М-да, – произнес Аоян, – как бы он мог без тебя?
Неожиданно он обнял Сирье и, обдавая ее своим дыханием, горячо зашептал:
– Как вообще может мужчина, однажды узнавший тебя, обойтись без тебя? Где еще найдешь такую гибкую женщину, которая умеет так плотно прильнуть к тебе? Ты для н е г о просто находка! Ведь в тебе скрыт художник, что бы ты ни делала. Иная всего-навсего распластывается, и с каждым разом это становится все неинтереснее, а ты… Не знаю, можно ли вообще тебя испортить. Ты как будто освящаешь все вокруг: небо и земля сходятся над тобой всеми цветами радуги – кому не захочется снова вернуться к этому!
– Что ты говоришь, – испуганно прошептала Сирье, – как ты можешь так говорить! – Ее подбородок снова задрожал. – Мы же с тобой договорились: я прихожу сюда лишь затем, чтобы поразвлечь тебя и отвести душу самой!
– Глупая! – сказал Аоян. – До чего же ты глупая! Этим-то ты и развлекаешь меня. Так же, как развлекает меня работа со стеклом. Или ты думаешь, что из-за этого я захочу жениться на тебе?
– Нет, этого я не думаю, – прошептала Сирье, – только… только ты сказал, что для нас это всего лишь небольшое развлечение. А мне вовсе не весело! Мне тяжело без тебя, я хочу все время быть с тобой, все время ты у меня перед глазами. И это не так уж весело!
– Так зачем же ты мне поверила, – с горечью усмехнулся Аоян, – разве ты не знаешь, что волк песни страшные поет, а медведь зараз вкруг пальца обведет? Твоя мама тебе этого не говорила?
– Моя мама… моя мама, – повторила Сирье и снова расплакалась.
– Прости, – сказал Аоян, – прости меня! Я становлюсь жесток, когда мне самому больно. На-ка, выпей еще ликерчику, это успокаивает. Не то на тебе скоро сухого места не останется.
Сирье отхлебнула порядочный глоток и впрямь немного успокоилась. В голове приятно зашумело. Сирье высморкалась – теперь она могла дышать носом.
– Как это – тебе больно? – недоверчиво спросила она.
– Бывает иногда, – сказал Аоян, положил руку Сирье на плечо и, рассеянно поглаживая его, заговорил:
– Не могу сказать, что думаю о тебе постоянно. Нет, большей частью я даже не вспоминаю о тебе; но иногда вдруг, ночью или в воскресенье утром, дома за завтраком, ты возникаешь черт знает откуда, как наваждение. Ты засела где-то глубоко внутри меня – я сам, наверно, загоняю тебя туда, думаю, что с тобой покончено, а потом ты опять неожиданно выскакиваешь наружу, словно ивовый прут распрямляется.
Я все думал, почему мне никак не удается запечатлеть тебя на холсте. Рисовать я вроде бы умею. Но видишь – не получается; что-то остается спрятанным, что-то очень существенное, именно то, что мне дорого. Этой осенью ехал я по Ленинградскому шоссе в Кунду. Кругом все голо: поле, луг, кое-где вдали одинокие домики, и к ним бежит дорожка, серая и прямая, как тоненький дымок из трубы. И заросли, бесконечные заросли, дебри чахлых деревцев, а еще дальше – сланцевые отвалы… И я неожиданно почувствовал, что в этом так много тебя – в этом однообразном неказистом пейзаже. В тебе есть что-то серое, будничное, тщедушное, но в то же время такое живучее… живучее и дорогое. Ты запала в душу. Как тебя ни выкорчевывай, а глядишь: все вокруг уже чисто, но снова ты маячишь, пробиваешься наружу где-то на обочине, как скошенный ивняк…
Он замолчал.
– Знаешь, – прошептала Сирье, – плохи наши дела: мы любим друг друга! Олев понял это еще раньше, еще до того, как я сама догадалась, ему хватило того единственного раза, когда он видел меня с тобой. Иначе бы он так не разозлился.
В прошлом году на одном из вечеров в художественном институте к Сирье начал нахально приставать Лембит.
– Послушай, парень, – сказал Олев, – это моя девушка!
– Неужели? – нагло ответил Лембит. – Сирье, с каких это пор ты стала девушкой этого хама? Разве ты только что не целовала меня?
– Это правда? – спросил Олев.
– Да, – созналась Сирье. – Мне ужасно хотелось узнать, что чувствуешь, когда целуешься с усатым…
Лембит действительно недавно отпустил усы и небольшую бородку.
– Вот видишь, – свысока обратился Олев к парню, – она целовала твои усы, а не тебя. Если ей еще понадобятся твои услуги, я пришлю ее к тебе. А теперь вытри-ка губы и катись домой спать!
По мнению Сирье, это было ужасно здорово: Лембит ретировался, что-то бурча себе под нос, хотя и считал себя гением дзюдо. На том дело и кончилось. Правда, позднее Олев сказал Сирье: «Якшаешься тут со всякими, подцепишь еще какую заразу!» Но сказал он это не слишком сердито.
– Плохи дела, – повторила Сирье и тряхнула головой.
– Не знаю, так ли уж все и плохо, – произнес Аоян. – Теперь это обычное явление. Встретишь на улице друга, которого с месяц не видел, спросишь, как жена и дети. А он в ответ: «Нет пока детей». – «Так вроде были?» – «А те остались у прежней жены!» Обычное явление!.. Единственная беда в том, что она у меня первая. Первая женщина, которая увидела во мне мужчину и добилась, чтобы я им стал. До этого я не верил, что кто-нибудь сможет смотреть на меня таким образом – ведь я ковылял, опираясь на две палки. Но она посмотрела на меня не глазами сиделки. Потом я, разумеется, понял, что женщин, в общем-то, меньше всего смущает внешность мужчины. Но ее заслуга в том, что я это понял, благодаря ей я научился ценить сам себя… Она сильная женщина, очень сильная… Не знаю… Думаю, если бы я теперь сказал ей, что хватит, что я нашел другую, получше… то где-то в самой глубине души она, может, будет даже счастлива, что я стал теперь совсем самостоятельным… Но я не могу!
Он сидел, опираясь локтями о колени, ладони его вяло свисали вниз, рот был приоткрыт, взгляд прикован к какой-то точке на обоях.
– Конечно, – пробормотала Сирье, – об этом я никогда и не думала, честное слово, не думала. И я не сумела бы удержать тебя, никого бы не сумела, и меньше всего того, кого бы очень хотела…
– Так я пойду, – сказала она, поднимаясь.
Аоян словно не замечал ее.
Сирье сняла с вешалки пальто. Надела его. Натянула сапоги. Там, где они стояли, остались две грязные лужицы.
– Сирье! – вдруг позвал Аоян, когда девушка уже нажала на ручку. Спотыкаясь, вихляя справа налево бедром, придерживая бедро рукой, он заспешил к Сирье, схватил ее за руку и притянул к себе. Глядя ей прямо в глаза, улыбнулся и повторил: – Сирье!.. Хочешь, я стану твоим мужем? – Спросил с какой-то непонятной радостью, словно приглашал Сирье в цирк.
Лицо Сирье просветлело, казалось, она вот-вот кивнет.
– Хочешь меня насовсем – личного шута, с натуральным горбом? – спросил Аоян и затряс над головой рукою, будто ударяя в бубен; затем он снова схватил Сирье за плечи: – Давай считать, что сегодня сбываются твои желания; только скажи, чего хочешь, и все исполнится! Пожелай! Приплыла золотая рыбка! Хочешь?
Сирье посмотрела на него долгим, серьезным взглядом, словно ребенок, по лицу которого трудно понять, то ли он не понимает сказанного, то ли не верит этому. Наконец она улыбнулась и покачала головой.
– Нет, – произнесла она тихо, – не хочу.
– Ну, тогда ступай, да побыстрее, – сказал Аоян и вытолкнул ее за дверь.
Сирье сама позвонила Олеву и пригласила его на вечер в художественный институт. Она сказала, что вечер в общем-то закрытый, Олев попадет туда лишь по блату; там будут читать стихи и придет один молодой поэт, стихи которого нравятся Сирье. Олев поначалу отнекивался, сказал, что с бо́льшим удовольствием просидит весь вечер перед испорченным телевизором, нежели станет слушать стихи. Сирье была готова к такому ответу: она знала, что Олев не любит слушать стихи и вообще общаться с людьми искусства. Сирье замечала, что в их обществе на лице Олева появляется напряженное, недружелюбное выражение превосходства.







