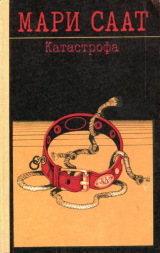
Текст книги "Катастрофа"
Автор книги: Мари Саат
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц)
Хендрик
Первые шесть лет моей жизни прошли в большом каменном доме. Я помню, что в этом доме были красивые квартиры с блестящими паркетными полами и ванными. Двор был просторный и пыльный. Помню продолговатую, похожую на буханку хлеба горку, столбы для бельевых веревок и кучу угля у окон подвала. Я никогда не играла во дворе, лишь проходила по нему, держась за руку старенькой тети – до парка и обратно. Поэтому я не знала ребят со двора, разве что со слов мамы или старшего брата. Но я помню, что завидовала им, когда они зимой съезжали с горки: лежа животом на санках, на лыжах, просто на собственном заду. Они кричали и смеялись.
Когда мы переезжали, к моему брату зашли проститься два мальчика, Эндель и Хендрик. Мне было известно, что они братья. Эндель – приземистый, белый и пухлый, как тесто для булки, был на полголовы ниже меня, хотя и старше на несколько лет. Он без конца смеялся, широко разевая рот, сверху у него не было ни одного зуба. Хендрик был выше и старше Энделя, даже выше моего брата, со светлыми встрепанными волосами. Я знала, что Эндель плохой мальчик, самый хулиганистый в нашем дворе, Хендрик же был серьезным. Это приводило меня в замешательство, я думала, что большие мальчики должны быть хуже маленьких.
Окончив школу, я устроилась на работу в плановый отдел одного учреждения. Оказалось, что в этом учреждении работает и Хендрик. Я видела его только один раз в жизни, семнадцать лет назад, когда он и Эндель приходили прощаться с моим братом, и узнала его лишь по фамилии; моя мать была знакома с его матерью по работе и потому в нашем доме иногда упоминалась их фамилия и говорилось об их семье.
Хендрик был инженером по НОТ. Никто не знал, чем он толком занимается и что вообще входит в обязанности инженера по НОТ, полагали, что эта должность – одно очковтирательство; однако сам Хендрик считался человеком умным. То было общепринятое мнение, в котором никто не сомневался, ни те, кто относились к нему хорошо, ни те, кто его терпеть не могли. В учреждении многие питали к нему неприязнь, потому что он всегда поступал так, как считал правильным, и, простодушно улыбаясь, выкладывал прямо в лицо все, что думал, – в общем, вел себя весьма нагло. Я не знаю точно, что такое настоящий ум, но мне кажется, что Хендрику были присущи честный, бесстрашный ум и ясное свободное мышление, не обремененное и не затуманенное самолюбием. На такого человека можно смело положиться в беде, и рядом с ним дети не боятся темноты.
Обычно на работе бывает так, что когда сидишь за столом и глядишь в окно, тебя считают бездельником, а если выйдешь за дверь покурить, никто не станет смотреть косо – это считается удовлетворением естественных потребностей. Я и еще одна девушка выходили покурить каждый час. В коридоре стояли большие мягкие кресла. То и дело по коридору прохаживался взад-вперед и Хендрик. Он не курил – слонялся просто так. Иногда моя приятельница пыталась втянуть его в беседу, но получала лишь односложные ответы, да и то на неоднократно повторенный вопрос. Но иной раз Хендрик сам подходил к нам и вступал в разговор. Ему нравилось говорить о джазе. Я знала его прежде всего по фамилии, но именно потому, что я знала, с кем имею дело, он казался мне хорошим знакомым: коренастый, хотя и высокого роста, со светлыми встрепанными волосами, и улыбался он теперь так же, как когда-то его брат Эндель, обнажая испорченные синеватые зубы и нездоровые десны. Мне были не совсем приятны его слишком уж мужественная фигура, открытая теплая улыбка и то, что, входя в азарт, он брызгал в лицо собеседника слюной. И тем не менее я испытывала разочарование, когда не видела его в коридоре или же, если и видела, не могла с ним поговорить.
Однажды Хендрик не вышел на работу. Пронесся слух, что он будто бы свихнулся, выпрыгнул из окна третьего этажа и сломал руку… Теперь многим стало казаться, что он и прежде нес чепуху, что, в сущности, он никогда и не был вполне нормальным. Эти перешептывания и пересуды сопровождались смущенными улыбками.
Спустя несколько месяцев Хендрик снова появился на работе. Рука у него срослась неправильно и осталась искривленной. Он как будто замкнулся в себе, казался подавленным и стал похож на прежнего серьезного мальчика Хендрика. Думали, что его гнетет сознание того, что его считают сумасшедшим; полагали, что он знает о своей болезни; и в то же время все искренне сочувствовали ему, как самому обыкновенному человеку, у которого неправильно срослась рука. Он продержался несколько недель, а затем снова пропал. Самой мне работа вконец осточертела, вернее, мне стало невыносимо изо дня в день сидеть как проклятой на одном и том же месте, и я пошла учиться дальше. И там, в другом городе, я познакомилась с Энделем. Эндель уже не смеялся, как прежде, во весь рот; большей частью уголки его губ подергивались в легкой усмешке, и лишь изредка, слишком уж развеселившись, он принимался что-то тихо напевать. И вообще я познакомилась с ним как с совсем новым человеком; мне ни разу не пришло в голову связать его со своим детством или с Хендриком. Я не расспрашивала его о Хендрике. Не потому, что боялась причинить ему боль – просто мне и в голову не приходило, что он может сообщить мне что-нибудь о своем брате. Однако бывая дома и встречаясь с бывшими сослуживцами, я всегда справлялась о состоянии Хендрика – он по-прежнему находился в больнице.
И вот как-то ночью я увидела сон: я увидела Хендрика. Он то широко улыбался, обнажая испорченные зубы и брызгая слюной; то казался подавленным, съежившимся, будто ему холодно; я смотрела на его встрепанные волосы, пряди которых торчали в разные стороны; я знала, что временами он ненормален, и все-таки не боялась его, ощущала прежнюю детскую доверчивость к нему. Мы говорили о его брате, хотя и сейчас, во сне, я не воспринимала их как братьев – скорее, Хендрик представлялся мне моим собственным братом. Я как будто искала у него помощи; говорила, что люблю Энделя, что он не просто нравится мне или я в него влюблена, а что ничего подобного со мной никогда не случалось, что он близок мне, как-то по-особенному близок, и если он чувствует то же самое, то нельзя же нас за это осуждать. Я видела, что Хендрик готов нам помочь, что он на нашей стороне, и в то же время я чувствовала, что он слишком слаб для того, чтобы можно было на него положиться, казалось, я всем своим существом ощущала, как ему плохо: у него высокая температура, его бросает то в жар, то в холод, голова странно гудит; ему трудно воспринимать реальность как реальное, верить, что он бодрствует, трудно заставить себя нести за что-то ответственность. Я понимала, что на самом деле не сплю, и я сказала Хендрику: «Все бы ничего – самой смерти я не боюсь, но мне не по себе от сознания, что меня убьют».
Я почему-то знала, что меня убьют, и меня действительно охватил ужас оттого, что срок, когда явится женщина-убийца, уже определен, и я не могу его изменить; к тому же сознание этого угнетало меня, во всем этом было что-то унизительное – смерть не придет неожиданно, случайно, как к дикому животному, она наступит как будничное явление в заранее назначенный час – будто я боров, откормленный на рождество.
Мы разговаривали на улице. Шел мокрый снег. Было скользко. Вдоль длинной белой дороги бежали черные ледяные полосы. Мы стали кататься по ним. Одну из улиц преградила продолговатая горка, похожая на буханку хлеба. Хендрик почему-то стал съезжать с нее на животе, головой вперед. В это мгновение я подумала, что самое большое счастье на свете – это умереть сумасшедшей. Может быть, из-за ужаса, все еще не покидавшего меня, я представила себе блаженное забытье, куда не сможет проникнуть страх, где смерть разом перережет киноленту, а сон продолжится еще секунду после того, как лента перерезана.
Хендрик съезжал с горки на животе, головой вперед, и я увидела, что он превращается в бабочку. Его большое серое тело в теплом пальто скользило куда-то вниз по улице; все удалялось, уменьшалось по мере того, как из него выпрастывалась яркая бабочка, поначалу с трудом, еле-еле поднимаясь в воздух. Мой сон был до этого черно-белым, кроме яркой бабочки – коричнево-сине-оранжево-желтой. Я видела высоко в небе бабочку, теперь уже не скованную, и видела в то же время серое тело внизу на улице; меня вдруг охватило грустное и одновременно сладкое чувство, а в плечах появилась удивительная легкость.
Затем я пошла по аллее парка. Под зеленым кустом на поблекшей осенней траве я увидела странную вещь или существо: сверху до пупка оно походило на куклу, на блестящего пластмассового или фарфорового ангелочка, далее шло мохнатое коричневое тело личинки, а откуда-то с середины вырастали и расстилались по траве широкие сверкающие крылья бабочки. На самом же деле это было не живое существо, а лишь тело, снизу уже начавшее разлагаться.
Я долго смотрела на это странное тело, а потом подумала: хорошо, что кусты скрывают его и оно не беспокоит прохожих.
Бутоны роз
Прежде Катарина жила вдвоем с матерью. Но как-то, после одной из поездок в город, мать вернулась вместе с мужчиной. У них была с собой бутылка вина, и мать сказала, что этот мужчина – друг ее юности.
Вино было темно-красное, крепкое и сладкое. Катарина захмелела, и ей захотелось спать. Она начала зевать и отправилась в постель, а мать с гостем продолжали разговаривать в передней комнате.
Обычно Катарина пила молоко и ела черный хлеб; к кофе и вину она не привыкла – хотя ей и хотелось спать, сон почему-то не шел. И она еще долго прислушивалась к смеху и голосам, доносившимся из соседней комнаты, но в конце концов все-таки уснула, будто под шум дождя или тихое бульканье супа на плите.
Под утро она очнулась от нестерпимой жажды, прошла через переднюю комнату в кухню попить и увидела, что мать спит на широком диване рядом с этим мужчиной. Спросонья она не сообразила, что к чему, а утром, пробудившись окончательно, подумала, уж не приснился ли ей странный сон.
Катарина осторожно приоткрыла дверь в переднюю комнату. На широком диване, меж белых простыней под пестрым лоскутным одеялом спал чужой мужчина. Мать возилась на кухне, и по тому, как пылали ее щеки, Катарина вдруг поняла, что все это не было сном.
Мужчина уехал. Они с матерью больше не вспоминали о нем, но каждый раз, когда отправлялись утром в коровник, а вечером возвращались с работы или же когда сидели друг против друга за кухонным столом и ели, а солнце светило через окно прямо на масленку, Катарине казалось, что мать хочет ей что-то сказать. И вот однажды вечером, когда они укладывались спать, мать высказала то, что ее давно тяготило: тот чужой мужчина был отцом Катарины.
Катарина поначалу испугалась и не знала, что ей теперь и думать. Ведь ей было известно, что ее отец воевал в Красной Армии и пропал без вести, из-за чего она с самого рождения и носила фамилию матери. Она свыклась с этим. Но когда мужчина приехал снова и Катарина разглядела его повнимательнее, у нее не осталось ни малейших сомнений в том, что все обстоит именно так, как сказала мать.
Мать была когда-то хрупкой женщиной. Теперь она располнела, живот оплыл, груди обвисли; пальцы были скрюченные, ноги у нее постоянно болели и опухали. Но все же, несмотря на больные ноги, походка у нее оставалась легкой и плавной; когда она улыбалась, глаза у нее подергивались влагой, и было в ней что-то очень нежное, а запястья так и остались тонкими, хотя она не один десяток лет доила коров. Руки матери не были созданы для доения, потому пальцы у нее и скрючились и болели. Катарина могла разом захватить одной рукой все вымя, все четыре соска. Ноги у нее не опухали, просто они были большие и немного кривые, а фигура крепко сбитая, с широкой костью, глаза постоянно какие-то сонные. Она ничего не унаследовала от матери, она как две капли воды походила на этого мужчину, значит, он действительно был не кто иной, как ее отец.
Катарина любила мать, потому что мать оберегала ее, заботилась о ней, несмотря на то, что Катарина была большая и намного крепче матери. Порой Катарина думала, что она будто какой-то подарок для матери, безымянная и случайная находка, правда, находка не совсем удачная; и вдруг перед ней предстал мужчина, который полностью отвечал за ее существование, и могло ли это ее радовать? Даже мать казалась ей теперь виноватой. Да, конечно, мать виновата, что выбрала ей такого отца. И теперь она не стесняется снова спать с этим мужчиной!
Мало того, что фигура у отца была неуклюжая и волосы стояли торчком, он к тому же, как казалось Катарине, был грубым и пошлым. Он говорил, что работает шофером на междугородных перевозках и потому не может слишком часто бывать у них, но уже вскоре повел себя хозяином. До всего ему было дело; стоило ему появиться, как он тут же начинал прикрикивать на Катарину: «Чертова девка», – будто и вправду у него было на это какое-то право.
Он говорил матери: «Еще пару годков, и выйду на пенсию, буду жить у вас. Стану разводить пчел», – и словно в подтверждение своих слов, привез матери из очередной поездки розовые лаковые туфли.
Ни Катарина, ни ее мать никогда прежде не видели подобных туфель: они блестели как зеркало; каблук полувысокий, сверху ажурная пряжка, и, вместо обычного резкого запаха кожи, от них исходил какой-то нежный аромат, так что мать сказала: «Их будто с розового куста сорвали!»
– Куда я в таких пойду? – смутилась она и нерешительно взглянула на Катарину.
Катарина опустила глаза.
– Недостаточно хороши, что ли? – со злостью спросил отец.
– Ох, ну что ты! – воскликнула мать, затем, не выпуская из рук туфли, немного помолчала и добавила:
– Они скорее для девушки, – и снова украдкой взглянула на Катарину.
– Может, примеришь? – спросила она Катарину, но не протянула ей туфли, а прижала их к своей груди.
– Нечего тебе тут канючить! – со злостью произнес отец. – Готова последнее у матери отнять! Погляди лучше, какие у тебя ноги, кривые, как автомобильная баранка!
У Катарины задрожала правая щека, ее и без того маленький серый глаз совсем закрылся, пару раз странно дернулся, а затем наполнился влагой, как след от ноги, оставленный на мокром весеннем поле; она заплакала и, прижимая к щекам кулаки, убежала в другую комнату.
Катарина отвела стадо на пастбище, где росли можжевельники. Лучше было бы пустить коров на только что скошенное кукурузное поле, однако этого она не могла сделать: дорога туда шла через рожь, но изгороди, поставленные для защиты полей, развалились, а собаку Катарины, которая, лая, удерживала коров на дороге, застрелил какой-то горожанин, приняв ее за бродячую. У собаки была дурная привычка: в свободное время она рыскала по лесу, другой же такой собаки взять было неоткуда. Правда, можно было обзавестись щенком, только поди знай, какая собака из него вырастет.
На пастбище коровы следовали за Катариной сами: Мирья вышагивала первой, гордо подняв голову, ступала легко, будто коза, за ней Пярья, Пучеглазка и Лийзу. Они всегда шагали по пятам за Катариной, куда бы она ни направлялась, а за ними длинной чередой медленно тянулось все черно-белое стадо, проплывало враскачку через ольшаник, шуршало и мелькало среди ярко-зеленых кустов, оставляя позади несчетные землисто-бурые тропки.
Катарина брела по буйно разросшемуся кустарнику, время от времени пригибаясь под низко нависшими ветвями, и представляла себе, что она – генерал вьетнамских партизан, который ведет свои войска через джунгли по тропам, проложенным дикими слонами. Она миновала кустарник и, гордо вскинув голову, дыша полной грудью, направилась по скошенному лугу к видневшимся вдалеке можжевеловым зарослям. Добравшись до пастбища, Катарина откинула прясла и посмотрела назад: беспорядочный походный строй стекался к ней небольшими группками; некоторые коровы уже сворачивали в загон, другие все еще мелькали среди кустов, задерживались на лугу, похрустывая травой, но, заметив, что отстали, вприпрыжку, словно преследуемые оводами, бросались догонять стадо. Собака такого не допустила бы. Собака всегда бежала в хвосте стада и ревностно, даже с какой-то злостью следила, чтобы строй не распался. А сейчас вислоухая Майму, единственная в стаде рыжая корова, все еще ошивалась на опушке, будто не имела к другим коровам никакого отношения. Катарина, размахивая куском проволоки, помчалась к корове, и та, огретая по заду, затрусила в загон, с затаенным бесстыдством частной коровы поглядывая на Катарину.
Катарина не любила хозяйских коров, которые, позванивая колокольцами, забредали иногда в стадо. Ее коровы держались вместе, все время были настороже. Чтобы они слушались, достаточно было шлепнуть их слегка по боку или просто погрозить кнутом, а уж если погладить такую корову по морде, то глаза у нее тут же делаются влажными. Хозяйские коровы были упрямы, их приходилось хлестать по нескольку раз, прежде чем они соображали, что им надо убираться восвояси. Катарине казалось, что они ведут себя так же бесцеремонно и надменно, как чуждый ей отец. Майму напомнила Катарине об отце, и она почувствовала, как глаза ее снова наполняются горькой влагой.
Будто сама она не знает, какие у нее ноги и что некуда ей пойти в таких туфлях, потому что она уже превращается в старую деву и на танцах никто ее не приглашает. Впрочем, здесь и нет такого парня, с которым бы ей хотелось танцевать! Эти туфли она взяла бы с собой на пастбище. И пока коровы будут спокойно пастись, она сядет на камень, наденет туфли на ноги и станет ими любоваться. Глядя на розовый лак, такой же бездонный и в то же время непроницаемый, как это ясное небо над головой, она поднимется к облакам своей мечты, где детектив – умный и отважный англичанин, зажав в зубах трубку, мчится на гордом коне, а изысканная леди, хрупкая и бледная, с огромными серыми глазами и блестящими иссиня-черными волосами кружится под звуки вальса по парку, подобно белому лебедю на пруду. Разве туфель убудет, если она станет сидеть и любоваться ими? Только Катарина не попросит туфель ни у отца, ни у матери. Она не возьмет их, даже если мать сама предложит, потому что отец обидел ее.
Приезжая к ним, отец каждый раз спрашивал у матери, когда та наденет туфли. Мать отвечала, что осенью, когда в колхозе будет большой праздник и станут раздавать почетные грамоты, или зимой, когда их повезут на автобусе в театр, – тогда она возьмет туфли с собой.
И туфли лежали в шкафу в коробке, как книжка с картинками, которую держат под замком.
Как-то теплым августовским вечером, когда разгоряченное дневной жарой тело все еще продолжало исходить потом, у матери страшно заболела нога. Катарина только что вернулась со двора и увидела, что мать стоит в кухне над тазом, по пояс раздетая, с намыленной шеей, и упирается застывшими руками прямо в дно таза. Ноги у нее и прежде побаливали, но то была тупая боль, разве что мешавшая заснуть; время от времени резкая боль сжимала и сердце. Тогда она принимала валидол и еще какое-то лекарство и выпивала маленькую рюмку коньяка, потому что отец говорил: водка – отрава, а коньяк – лекарство для сердца. Он сам привез матери бутылку коньяка, и мать хранила ее в аптечке.
На этот раз унять боль в ноге не смогло никакое лекарство. Ночью боль стала невыносимой, и, когда мать начала кричать диким голосом, перепуганная Катарина вскочила на велосипед и помчалась к почте, где был телефон.
Через несколько дней после того, как мать увезли на «скорой помощи» в районную больницу, приехал отец. Было около девяти вечера, рабочий день Катарины закончился, подоенные коровы находились в хлеву. Катарина опустилась на корточки перед шкафом, вынула туфли из коробки и стала разворачивать папиросную бумагу, в которую они были упакованы. С тех пор как Катарина осталась дома одна, она почти каждый вечер разглядывала туфли, примеряла их и кружилась по комнате. Взять туфли с собой на пастбище она не решалась, боясь, что отец нагрянет домой в дневное время и обнаружит пропажу. Но и того, что она кружила в них по комнате вечерами, было достаточно, чтобы она могла грезить весь следующий день.
Катарине представлялись сияющие замки из розового и белого мрамора, дивные парки с подстриженными живыми изгородями, кустами роз, фонтанами и лебедиными прудами, или же такие изысканные яства, как бананы, огромнейший торт «безе» и шампанское. И где-то там попыхивал сигарой умный и не ведавший страха детектив, который в то же время был сказочно богатым лордом, а порой чуть ли не королем, умиравшим от безумной любви к очаровательной чернокудрой леди. Иногда детектив надоедал Катарине, и тогда действие перемещалось в рыцарские времена, где дева становилась блондинкой, отнюдь не менее прекрасной. Рыцарь уже не был красив как картинка, лицо у него было не столь возвышенное, как у лорда-детектива, глаза не такие большие и темно-карие. Зато он был невероятно силен и голыми руками мог задушить медведя; и хотя в светлых узких глазах рыцаря мелькало порой туповатое выражение, а волосы были жестки и черны, за всем этим крылась истинно благородная натура. Он был всеми гоним, но любил златовласую красавицу, и за нее, свою королеву, отдал жизнь.
Впрочем, этот внешне непривлекательный и невезучий рыцарь долгое время был единственным героем фантазий Катарины. Детектив появился позднее, после того как Катарина посмотрела в поселковом кинотеатре фильм «Моя прекрасная леди». Теперь детектив вклинивался в рыцарские истории лишь от случая к случаю, как некий изысканный десерт. Однако еще до рыцаря, когда Катарина училась в начальных классах, она то и дело думала о собаке, у которой кот украл шапку, и часто плакала, жалея бедного пса. Но вот однажды, когда она получила двойку по математике, перед ее взором возник отверженный рыцарь. Рыцарь стал приходить к ней на уроках математики, в которой она ничего не смыслила, или весной на пастбище, где она готовилась к переэкзаменовке. Все то время, пока Катарина ходила в школу, она не помнила ни одной весны и осени, чтобы у нее не было бы переэкзаменовки по математике. Каждую осень мать Катарины отправлялась в школу уговаривать учителей, чтобы Катарину перевели в следующий класс: не может же она – такая верзила – сидеть за партой вместе с малышами. Таким образом Катарина кое-как окончила семилетку, лишь однажды оставшись на второй год и с помощью копченого окорока получив на выпускном экзамене по математике тройку. Но еще долго, на протяжении многих лет эта страшная школа преследовала ее во сне, и ей снилось, что она, большая и неуклюжая, бродит по школе; снились пронырливые мальчишки, среди них Артур Вярав, прицепивший к ее спине листок со словами «КАТА-ДУРА». Катарине казалось, что самое лучшее место на свете – это пастбище ранней осенью, где она может быть совсем одна со своими коровами, хотя отец и дразнил ее, без конца повторяя, что Катарина так и проживет всю жизнь среди коров.
Вдруг Катарина услышала в прихожей шаги отца. Она вздрогнула, швырнула туфли в шкаф, захлопнула дверцу и встала, плотно прижавшись к ней спиной.
Отец ходил взад-вперед в передней комнате; со стуком опустил на пол что-то тяжелое – наверно, свой рюкзак, потому что каждый раз, приезжая из города, он привозил с собой что-нибудь вкусное: торт, вино. Он еще некоторое время постоял, а затем, громыхнув стульями, сел. Катарина проскользнула в дверь.
– Ну, а где мать? – спросил, как показалось Катарине, недоверчиво отец, в голосе его слышалась злость, будто Катарина была виновата в том, что матери нет дома.
– Мать в больнице, – ответила Катарина и медленно, с трудом выдавливая из себя слова, словно вытягивая репу из вязкой борозды, рассказала, что у матери образовался на ноге тромб и теперь ей делают уколы, чтобы кровь стала жиже, и сердце тоже лечат, потому что сердце у нее никуда не годится, как у курильщика.
На это отец сказал:
– Ну да! Она же не курит?
Катарина пожала плечами и умолкла: мать и вправду не курила.
Отец сам закурил. Катарина, пока рассказывала, незаметно для самой себя опустилась на стул напротив отца и теперь не решалась встать. Так они довольно долго просидели друг против друга за столом, отец смотрел в окно на заходящее солнце, в его глазах отражались два оранжевых шара, в руке тлела папироса из пачки «Беломора».
Катарине было не по себе. Она украдкой корябала стул и думала, не следует ли что-нибудь сказать отцу – хотя бы предложить ему чаю. Или сперва дать поесть, а может, и то и другое? Но затем она вспомнила, что ничего, кроме хлеба и молока, в доме нет… Вдруг у нее в голове мелькнуло, что она сидит наедине с мужчиной и за четверть километра вокруг нет ни одной живой души. Ей вспомнились разные ограбления и еще более жуткие истории, случавшиеся на одиноких хуторах; внутри у нее все сжалось от страха, и она вцепилась пальцами в стул – волосы у отца были ежиком, подбородок тяжелый, нос большой; он казался таким сильным – смогла бы Катарина справиться с ним?
– Ну, так я пойду, – сказал отец, загасил окурок о ножку стола и сунул его в карман.
– Ночевать не останешься? – как бы невзначай спросила Катарина, и тут же ей стало неловко от своих слов.
– Мне здесь нечего делать, – ответил отец.
До самого последнего мгновения Катарина ощущала легкий, волнующий страх. Но стоило отцу оказаться вместе со своим рюкзаком за воротами, как ее охватила ужасная тоска, так что даже губы скривились от обиды: отец пренебрег ею! А ведь она намного моложе матери. Во всяком случае, для стриженного ежиком отца она достаточно хороша! Затем до нее дошло, что отец – это ведь ее отец и потому не пристало думать о подобных вещах. Только это было слабое утешение: лишь робкая стыдливая фраза, которую невзначай обронила мать. Ни в каких бумагах это не значится. Да и знал ли об этом сам отец? Ведь он наверняка остался бы поболтать с Катариной, может, и еще что-нибудь предпринял, если бы Катарина была кем-то другим.
Она подошла к зеркалу. В нежных сумерках лицо ее казалось гладким и свежим, глаза большими и темными, щеки слегка горели – Катарина решила, что она весьма недурна.
Когда Катарина пришла в больницу навестить мать, она тотчас же сообщила, что к ним приходил отец. Но для матери это не было новостью – отец и здесь уже побывал.
Мать спросила, как Катарина справляется с домашними делами, и Катарина тут же начала жаловаться на свои невзгоды. Дома так тяжело: вставай до восхода солнца и тащись в коровник, дои группу материных коров, потом выгоняй стадо на пастбище, вечером снова надо доить, мыть доильный агрегат, выгребать навоз, а поздно вечером возись к тому же дома со свиньей – вари целый котел картошки.
– Попроси Эдгара зарезать свинью, – сказала мать, – хоть она и маловата еще…
Катарина задумалась было об этом, но когда мать стала учить ее, как договориться с Эдгаром, сколько водки купить для него, что потом делать с мясом – подержать несколько дней на холоде, а после этого засолить и закоптить, у Катарины побежали по спине мурашки; она решила, что уж лучше каждый вечер разводить в плите огонь и варить картошку, нежели взвалить на себя все эти хлопоты.
– Постарайся как-нибудь справиться, – сказала мать, – когда я вернусь из больницы, станет полегче.
Словно в утешение, она дала ей апельсин, который принес отец, но Катарине от этого стало еще горше: мать лежит на белых простынях, отец навещает ее, а она, Катарина, должна вкалывать. И она позавидовала матери.
Мать вернулась из больницы, но легче Катарине не стало, во всяком случае, не настолько легче, как обещала мать или как было прежде. Колено у матери все еще болело, хотя тромб вроде бы рассосался. Она не могла толком ни согнуть, ни выпрямить ногу; была не в силах поднимать тяжелые корзины, кастрюли и ведра; к тому же она жаловалась, что ничего не может делать левой рукой – сразу же начинало болеть сердце. Поэтому Катарине приходилось помогать ей и во время дойки. Она ничего не говорила матери, но про себя думала: до больницы мать все могла делать, и боли в сердце терпела, а в больнице она научилась болеть.
Катарина работала больше, чем ей хотелось. Она становилась все мрачнее и раздражительнее, и, когда скребла доильный агрегат, ее не оставляла назойливая мысль: если мать действительно так больна, как прикидывается, то скоро ей, Катарине, достанутся в наследство розовые лаковые туфли.
Мать хотела, чтобы Катарина отказалась от работы пастухом. Все равно уже осень, и скотина могла бы в крайнем случае оставаться в коровнике. Пусть к весне подыщут нового пастуха. С этим справился бы даже хромой Таавет, надо лишь починить изгороди. Они развалились, поэтому телята за все лето, можно сказать, дневного света не видели. К тому же доярки намного больше зарабатывают.
Когда мать заводила такие разговоры, Катарина притворялась глухой. Она ни на что на свете не променяла бы работу пастуха. Пастбище – единственное место, где можно сидеть тихо и спокойно, ничего не делать и не бояться, что на нее взвалят еще какую-нибудь работу. Потому что от стада нельзя отходить: коровы могут пролезть сквозь жердины, потравить посевы и объесться так, что заболеют; а лесные пастбища и вовсе не огорожены – они тянулись одно за другим семью прямоугольниками, разделенные небольшими полосками кустарника, от леса их отделяла глубокая осушительная канава; коровы разбредались по семи выгонам; большинство держалось вместе, но некоторые ухитрялись перелезть через канаву к большому лесу, и тогда приходилось кнутом пригонять их к остальным. Больше всего Катарина любила пастбище, поросшее можжевельником: огромное голое пространство, по краям которого росли купы можжевельников, исчезавшие вдалеке среди зарослей орешника и елей. С трех сторон выгон был обнесен еще довольно крепкой изгородью, здесь можно спокойно оставить коров и послоняться по лесу или даже вздремнуть на опушке. Когда она тихо сидела на земле, обняв руками колени, ее мечты начинали бежать особенно стремительно – от легкого, волнующего томления до бушующих страстей; в эти тихие предвечерние часы, когда стадо спокойно пережевывало жвачку, отверженный рыцарь претерпевал ужасные приключения. Он мучился на скамье пыток, охлаждал безнадежное пламя любви к прекрасной белокурой деве со страстными негритянками, и его боевой путь был отмечен окровавленными трупами. Время от времени Катарина настолько возбуждала себя этими видениями, что несколько дней после этого была не в состоянии переживать их заново. Тогда ее голову наполняли тихие мысли; она наблюдала за маленькой неподвижной ящеркой, гревшейся на камне, и откуда-то из пыли школьной библиотеки в памяти всплывал огромный ящер «бантозавр». Ей представлялось, что он вот-вот выйдет из можжевеловых зарослей, огромный, выше силосной башни, и угрожающе качнет головой, венчающей длинную змеиную шею. Плавно скользившего в поднебесье ястреба можно было принять за птицу со смешным названием «контора», она казалась маленькой только потому, что была так высоко, на самом же деле она подстерегала Катарининых коров. Думая обо всем этом, Катарина чувствовала себя сильной, способной защитить своих коров, и если бы уж, скользнувший в траву, оказался таким же большим, как змея анаконда, Катарина из одного только любопытства поймала бы его. Она даже начинала прыгать среди можжевельника, изгибаться и размахивать руками, воображая, что ловит громадную змею.







