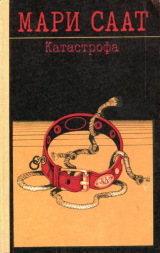
Текст книги "Катастрофа"
Автор книги: Мари Саат
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 16 страниц)
Катарина не хотела отказываться от места пастуха. Сидя у костра, разведенного среди можжевельников, она снова и снова представляла себе, как пасет коров и нет у нее никаких других обязанностей, и дома нет ни свиньи, ни овцы, ни коровы – только кошка у плиты да несколько кур. Ведь мать была так добра к ней, до тех пор пока не появился отец. Мать отдавала ей самые красивые вещи, сама все делала за нее; а теперь она даже не замечает Катарину, только и знает, что прислуживает отцу, когда тот приезжает. И когда отец придирается к Катарине, мать всякий раз соглашается с ним. Даже спустя несколько дней после отъезда отца мать смотрит на Катарину как на какую-то помеху, ее раздражает даже то, что Катарина чавкает во время еды, невзначай шмыгает носом или при ходьбе шаркает туфлями. И тогда, словно тихо укоряя ее, мать произносит: «Разве так можно, ведь ты уже девица на выданье!»
Корень всех зол, конечно же, отец, потому что раньше мать относилась к ней по-иному. А если бы матери не стало, то и отец не приезжал бы. И она жила бы совсем одна, делала бы что хотела, а в долгие зимние вечера рисовала бы акварельными красками, чередуя нежно-розовое, голубое, желтое, и, соприкасаясь с голубым, желтое превращалось бы в ярко-зеленое. Ей правилось наносить на бумагу краски и представлять себе происходящую в них жизнь; и эти розовые туфли тоже достались бы ей. Судя по тому, что мать зачастую просыпалась по ночам, принимала валидол и, задыхаясь, склонялась над столом, прижав руку к груди, можно было предположить, что ждать осталось не так уж долго.
Слякотной поздней осенью у матери снова разболелась нога, да так сильно, что она уже больше не могла ходить, даже не могла доковылять по нужде до прихожей. Но дороги так развезло, что машина с врачом не смогла бы добраться до них. Мать успокаивала Катарину, что все пройдет само собой, надо лишь несколько дней спокойно полежать.
Катарине надоела болезнь матери, ведь, кроме работы в коровнике, ей приходилось ухаживать и за больной матерью, и не только выгребать навоз и задавать корм колхозным коровам, но и еще дома варить картошку для свиньи. Катарина недовольно ворчала, когда спешила утром в непроглядной тьме и непролазной грязи, преодолевая ветер и ледяные порывы дождя, к коровнику; ворчала, когда со злостью скребла вечно жирную, с приторно-сладким запахом доильную установку. И думала, что непременно огреет первую же попавшуюся корову или нагрубит матери. Но когда она входила в коровник и ее встречали живое тепло и тихое мычание, и когда корова спокойно вверяла ей свое вымя, Катарину наполняло какое-то совсем иное чувство. Такое же странное чувство охватывало ее, когда она сидела у постели матери и та, будто невзначай, задерживала свою руку в ее ладони. Катарину вдруг окутывало сладкое, пахнувшее навозом тепло коровника – словно корова ткнулась ей мордой в ладонь, лизнула языком и закосила на нее своим влажным карим глазом. Вечером, ложась спать, она вспоминала, что уже несколько дней у нее не было времени подумать о рыцаре, не говоря уж о красавце детективе, но у нее не было сил рассердиться на себя за это – слишком хотелось спать.
Как-то в полдень, когда Катарина пришла домой обедать, потому что стадо она уже не выгоняла на пастбище, мать начала говорить, что все это дело слишком уж затянулось. Хотя врач строго-настрого запретил употреблять водку и даже коньяк, отец все же советовал другое. Неужели врач знает лучше отца, что творится у нее внутри?
Катарина глубоко задумалась об этом, настолько глубоко, что почти забыла о том удивительном чувстве, которое охватывало ее, когда она держала в своей ладони руку матери, – она ощущала только чувство огромного покоя, – и она решила, что одна рюмка коньяка и вправду может пойти на пользу: заставит кровь быстрее бежать по жилам, и тогда заработает сердце, а если в ноге опять возник какой-то комок, доставляющий столько страданий, то и он, благодаря такому подстегиванию, сдвинется с места.
– Ну как, полегчало? – спросила Катарина, когда мать проглотила немного коньяка, налитого на дно кружки.
– Да, – ответила мать и вдруг, неожиданно охнув, повалилась на спину.
Катарина неподвижно сидела на стуле – мать и прежде, бывало, лежала так же тихо, не храпя, но сейчас Катарина знала, что мать отошла. Она все еще не отрываясь смотрела на мать, когда в дверь вкатилась похожая на сморщенный гриб-дождевик пыллуская Хильда.
– Я пришла узнать, ты что, сегодня в коровник больше не придешь? – запыхавшись, спросила она.
– Не-е, – протянула Катарина. – Не-е, – еще раз протянула она. – Вишь, говорили, говорили. – И, видимо, испугавшись, разревелась.
В бане было не топлено, потому что женщины обмывали здесь покойницу. Катарина стояла в углу у двери и не знала, что ей делать. Неожиданно весь дом и баня заполнились людьми – они приходили и уходили. У врача, участкового уполномоченного, председателя колхоза – у всех вдруг нашлись тут дела. И у всех были такие серьезные и важные лица, будто здесь готовились к какому-то торжеству. В доме мужчины пропустили несколько рюмок за упокой души усопшей и помянули ее добрым словом – время от времени то один, то другой вытирал рукавом глаза.
Женщины обряжали умершую.
– Чего ты стоишь в углу и глядишь, – заворчала на Катарину маленькая подвижная преэстриская Лидия, – пойди принеси матери чулки!
Катарина быстро побежала в заднюю комнату. Она выхватила из шкафа связку чулок, села на диван и стала искать чулки поновее и поцелее. Но никак не могла найти. Снова и снова взгляд ее останавливался на рукаве кофты, которую вязала мать, и почему-то перед глазами все подергивалось туманом. Она ожесточенно мяла пальцами украшенное воланами диванное покрывало, но и это покрывало было сшито матерью, и Катарина расплакалась. Мать покинула ее, бросила как чужую в этой суете; она была здесь совсем одна, никому нет д о н е е дела! Мать должна была бы жить, пусть даже в постели, но заботиться о ней, защищать ее, устраивать ее жизнь; а теперь она лежит в бане, холодная, как деревянная колода, и ей еще меньше дела до Катарины, чем всем другим здесь. Катарина горько всхлипнула. Но чем больше она себя жалела, чем более одинокой себя чувствовала, тем сильнее, казалось ей, она становилась: вырастала, словно высокое развесистое дерево среди равнины, и в то же время она думала, не забыли ли из-за этих хлопот подоить коров. Ведь все женщины здесь, вспомнит ли кто-нибудь и о коровах?
Катарина натянула на ноги покойной чулки, а затем и туфли. Сделать это было не легко, потому что ноги окоченели, а ей не хотелось их слишком сжимать и делать больно. Но когда она приподняла ноги – они оказались мягкими и пружинящими, как податливый сырой камень, и холодными, и Катарина вдруг поняла, что матери уже нет здесь, как нет больше в этих блестящих розовых туфлях ни рыцаря, ни прудов, ни живой изгороди. И все-таки она чувствовала близость матери в чем-то другом, во всем широком пространстве вокруг себя.
Женщины столпились за спиной Катарины и все разом принялись горячо спорить.
– Мертвой надевать туфли на ноги! – воскликнула преэстриская Лидия. – Это никуда не гоже!
Все тараторили, перебивая друг друга, высказывали, что каждая об этом думает. А Хелье, скрестив на груди руки, сказала:
– За границей для мертвых делают специальные тапочки! У нас тоже делали, в буржуазное время.
Однако снимать с покойной туфли никто не стал, и они так и остались на ногах матери, как два розовых распускающихся бутона.
В школе
Как только учительница сообщила, что Мари-Анн из-за болезни легких будет теперь учиться в санаторной школе, Эстер, сидевшая за первой партой, вскочила и спросила, можно ли ей перебраться к Инге. Эстер была очень плохой девочкой. На первой парте она сидела в наказание, потому что совсем не слушала, что говорят учителя, колола карандашом или булавкой соседа по парте и сидящих впереди и дралась на переменах. Инга же училась на одни пятерки и была самой тихой девочкой в классе. Поэтому учительница, основательно все взвесив, сказала:
– Ну ладно, может быть, Инга сумеет повлиять на тебя.
Эстер схватила под мышку свои вещи, чтобы помчаться к задней парте, где сидела Инга, но учительница остановила ее:
– Погоди, пусть лучше Инга пересядет на первую парту! А последнюю парту мы потом вынесем, и в классе станет просторнее!
Похоже было, что старая толстая и неповоротливая учительница не прочь всех детей посадить за первые парты – поближе к себе, однако парты, к сожалению, стояли в три ряда. Ну, по крайней мере, забияка Эстер и лопоухий лентяй Пауль, и маленький вредный Алари должны были находиться в радиусе ее досягаемости.
Инге ни капельки не понравилась перемена места. Конечно, она хотела бы сидеть на первой парте, но только без соседей: тогда бы класс остался у нее за спиной и она могла бы обо всех забыть, чувствовать себя совсем одной или разве что вдвоем с учительницей; никто бы не пихал ее локтем и не надоедал болтовней. Она не любила таких, как Эстер, кто стремились разделить с кем-нибудь свою парту – им скучно в обществе самих себя. Каждое утро по дороге в школу она про себя мечтала о том, чтобы Мари-Анн заболела, тогда она весь день будет полной хозяйкой своей парты. Теперь так и было бы – много-много дней подряд, если бы Эстер все не испортила. Она ненавидела Эстер! Ей стало жаль себя и даже Мари-Анн. Правда, Мари-Анн любила поболтать, но в общем была тихой девочкой. Инга могла повлиять на нее – та тотчас умолкала, стоило Инге сердито взглянуть в ее сторону. И та и другая терпеть не могли уроков физкультуры. Мари-Анн, долговязая и сутулая, казалась старше других, Инга же была самой маленькой в классе – обе они во время физкультуры держались в сторонке. Мари-Анн потирала руки, почесывала голые ляжки и смущенно улыбалась; Инга с отчаянием загнанного в угол зверька косилась на коня, козла, брусья и прочие чудовища и на не знавшую пощады учительницу физкультуры. Зато Эстер стрелой взлетала вверх по канату под самый потолок. И мяч ловила, как кошка, и насмехалась над недотепами. Смех у нее был особенный. В нем было что-то противное: будто по полу с шуршанием бежали серые мышки.
Инга исподлобья оглядела Эстер. Вид у Эстер был неопрятный. Рукава голубой форменной блузки стали серыми, ногти длинные, как у ястреба, и под ними траурная кайма, впрочем, два ногтя обгрызаны; черные как вороново крыло волосы забились за воротник – может, в них и белые букашки копошатся? Хотя вряд ли, совсем недавно врач проверяла, нет ли вшей. И все-таки при этой мысли у Инги мурашки пробежали по спине и она отодвинулась от Эстер подальше. Эстер сидела спокойно, только сопела, но именно это угнетало Ингу сильнее, чем тихая болтовня Мари-Анн. Это сопение заставляло Ингу все время быть настороже. И не зря – в конце занятий Эстер-таки неожиданно сообщила хриплым голосом:
– Училка велела, чтоб ты подтянула меня по математике!
– Ладно, – сказала Инга, потому что по школьным правилам слово учителя – закон.
– Приходи к нам! – сказала Эстер.
– А где ты живешь?
– Ха, в школе, конечно.
Верно, иначе и быть не могло, ведь мать Эстер работала в школе техничкой и где-то в этом доме у них была квартира, служебная квартира. Эстер казалась неотделимой от школы. Правда, в их классе она училась не все время. Она пришла к ним, оставшись на второй год, то ли в прошлом, то ли в позапрошлом году, Инга уже не помнила точно, да и никто в их классе не помнил, потому что все с самого начала привыкли к ней, как привыкли к дяде Рашпилю, к рыжей школьной кошке и прочему школьному инвентарю.
Инга думала, что Эстер живет где-нибудь в подвале, в гардеробе, в котельной или же на чердаке. К ее удивлению, Эстер распахнула совсем незаметную грязновато-белую дверь здесь же, на первом этаже; точно такую же, как двери классов, только одностворчатую.
– Входи! – толкнула Эстер Ингу в плечо.
И вдруг школы не стало, не стало этого длинного, похожего на пенал здания, к которому привыкла Инга. На нее навалились полумрак и тяжелый спертый воздух. Инга чуть не задохнулась. Сначала она не поняла, почему в этой комнате так темно, словно сумерки наступили, хотя на самом деле был разгар дня. Потом она заметила, что на окнах висят плотные гардины. Эстер не стала их полностью отдергивать, а лишь настолько, чтобы на край стола упала полоска света. Туда она и усадила Ингу.
Вся эта комната казалась какой-то не такой. Не то чтобы необычной, этого Инга не сказала бы, потому что комната была как комната и вещи в ней как во всякой комнате, но и вещи были какие-то не такие. Они наводили на странные мысли: в углу распластался похожий на дорожный каток диван; посреди комнаты, одним краем у окна, другим доходя почти до дверей, стоял огромный круглый стол; окно и дверь были очень узкие, непривычно высокие и узкие. Как внесли сюда этот стол и этот диван? Одно из двух: либо эти вещи были сделаны в этой комнате, либо они были поставлены здесь еще когда не было комнаты, а потом вокруг возвели стены – замуровали их. Оба варианта казались нелепыми. И эта сероватая занавеска с гномиками, единственное светлое пятно в комнате, она скрывала какой-то закуток, в котором исчезла Эстер. Что там? Еще одна комната или кухня? Или там дверь, через которую втащили стол и диван? Что-то было не так; то ли что-то напутано, то ли спрятано…
Эстер вынырнула из-за занавески.
– Как тебе у нас нравится?
Инга вздрогнула.
– Нравится, да, нравится, – испуганно пробормотала она.
– А что тебе нравится? – хитро спросила Эстер.
Инга еще раз окинула взглядом комнату.
– Занавеска, эта занавеска с гномиками, – сказала она и запнулась, поняв, что сказала не то. – Мне нравятся гномы, – попыталась она объяснить, но почувствовала, как еще больше запутывается.
– Ах эти! Фи, они злюки! – презрительно воскликнула Эстер. Прозвучало это так, будто гномики были какие-то ущербные. И Инга с испугом заметила, что гномики закивали головами. Они все так же горбились, выражение лиц у них не изменилось, с той же легкой ухмылкой висели они на занавеске, и только их головы покачивались туда-сюда и, как будто с усмешкой, они повторяли про себя: ты-смотри-ты-смотри-ты-смотри…
– А этот коврик? Тебе нравится этот коврик? – поинтересовалась Эстер, прыгая на диван, и взгляд Инги, вопреки желанию, последовал за ней: над диваном и впрямь висел коврик. Он был таким темным, что сливался с обстановкой и с коричневато-лиловым рисунком обоев, наверно, потому Инга его сразу и не заметила. Из темной глубины коврика выплывали три белых пятна – три лебедя.
– Тебе хотелось бы полетать на них? Ночью? – произнесла Эстер неожиданно мягким, мечтательным голосом. И когда она это спрашивала, она была совсем как Мари-Анн, словно бы Мари-Анн вдруг вернулась и улыбается, робко, смущенно, и глаза у нее такие же темные, как мягкий коврик за ее спиной. Рука Эстер скользнула по коврику, по лебединой шее. Шея изогнулась, как будто лебедь боялся щекотки. Инга видела это совершенно ясно.
Что же это? – недоумевала Инга.
Вначале, по дороге домой, начиная приходить в себя от испуга, она была возбуждена: теперь она знала нечто такое, о чем другие и не подозревают. Школа стала для нее чем-то бо́льшим. Но тут она мотнула головой – она уже не маленькая, чтобы обманывать себя. Такого не бывает, слишком уж все это похоже на сказку, а сказка оттого и сказка, что в ней бывает то, чего на самом деле не бывает. Значит, на самом деле ничего такого нет. Но она же видела? А что она, собственно, видела? Может, ей все причудилось? Разве не могла занавеска колыхнуться от сквозняка, а ковер шевельнуться оттого, что к нему прикоснулась Эстер? Просто создалось такое впечатление?.. Она широко раскрыла глаза, чтобы отчетливее вспомнить все происшедшее, и снова перед ее взором возникли кивающие гномики, и снова ей стало не по себе.
Это надо проверить, обязательно проверить, решила она, чтобы избавиться от страха.
Вечером она была готова тут же обо всем порасспросить Эстер. Однако утром, по дороге в школу, все представилось ей не то чтобы сном, а просто комната Эстер со всеми своими чудесами отдалилась куда-то, так что было бы смешно спрашивать, кивают ли гномики и почему… Эстер еще высмеет ее. Инга решила, что можно ведь снова пойти туда и еще раз во всем убедиться, но когда Эстер в конце занятий спросила, придет ли она сегодня заниматься с ней, у Инги как будто само собой слетело с губ:
– А не лучше ли сегодня ко мне? Давай будем по очереди – один день у нас, другой у вас!
– Ладно, – согласилась Эстер.
В коридоре, у лесенки, которая вела из раздевалки во двор, около двери котельной стояла техничка и разговаривала с истопником. Техничка, или Эстерина мама, или Элла-звонариха, как ее прозвали, потому что она давала звонки на урок и с урока, что-то раздраженно доказывала дяде Рашпилю, смотревшему под ноги и почесывавшему затылок. На нянечке был застиранный синий халат, из-под которого виднелся подол красного цветастого шелкового платья. Ноги у нее были тоненькие, как спички, и неуклюжие мальчишечьи ботинки казались на них копытами. Великан-истопник был в высоких резиновых сапогах, на голове – восьмиугольная шоферская фуражка. На заросшем щетиной лице поблескивал единственный маленький глаз, второй глаз был закрыт, и из него сочился гной.
Эстер бросилась вниз по лестнице навстречу Инге и крикнула:
– Пошли!
– Ну-ну, куда это! – рассердилась мать Эстер, неожиданно повернувшись к девочкам.
Инга заметила, что у нее яркие красные губы и большие, как тарелки, глаза, светившиеся на худощавом лице.
– Я пойду к Инге заниматься, – объяснила Эстер. – Это та самая умная девочка, что будет подтягивать меня по математике.
– Ясно, – произнесла мать Эстер, и глаза ее потухли.
Дети группами возвращались домой. Некоторые шли вниз по аллее, другие вверх, шли впереди и позади Инги и Эстер. От компании мальчишек отделился Алари, побежал за девочками и начал дразниться:
– Элла-звонариха, старая кудлариха, дринь-дринь!
Эстер резко обернулась, зашипела, как кошка, и замахнулась портфелем, но Алари оказался проворнее. Большими козлиными прыжками он вернулся под защиту компании мальчишек. Эстер и не пыталась его преследовать. Она спокойно ступала рядом с Ингой и даже усмехалась про себя. Инга была ошарашена: Эстер, задира и забияка, так спокойно отнеслась к тому, что дразнят ее мать! Если бы Алари просто крикнул: Элла-звонариха! А ведь он сказал куда хуже. И Эстер… Будто так и должно быть.
Инга жила на втором этаже большого каменного дома. У них были просторные комнаты и светлый паркет. Из кухни приковыляла бабушка – в одной руке у нее была палка, другой она опиралась о косяк, – выглянула в прихожую и позвала: «Иди обедать!»
– Я не могу, – возразила Инга. – Сперва я должна позаниматься с Эстер.
Инга разозлилась: вечно бабушка пристает со своей едой в самое неподходящее время.
Комната Инги была прямо-таки создана для занятий: у правой стены стояла доходившая до самого потолка книжная полка, письменный стол под окном был покрыт зеленой бумагой – говорят, это полезно для глаз… Эстер уселась за стол, раскрыла тетрадку по математике, погрызла шариковую ручку и неожиданно спросила:
– Это твоя бабушка?
– Да, бабушка, – ответила Инга.
– Она с вами живет?
– Конечно, с нами.
– А на кухне у нее сушатся травы?
– Какие травы? – не поняла Инга. Ей показалось, что Эстер, вместо того чтобы учить уроки, решила подразнить ее.
– Ну, разные травы, которые она собирает, – хитро усмехнулась Эстер.
– Моя бабушка никаких трав не собирает! – отрезала Инга.
– Ха-ха, – засмеялась Эстер. – Кого ты дурачишь?
– Не собирает!
– Ты хочешь сказать, что она не сушит тра́вы у вас на кухне и не варит из них всякие зелья? – прищурившись, спросила Эстер.
– Не варит!
– Значит, она варит их где-то в другом месте. Просто ты не знаешь. У моей бабки в деревне вся кухня забита травами, они свисают с потолка и растут прямо на полу, мне то и дело приходится полоть пол, а когда бабка начинает их варить, она выгоняет меня из кухни и сама все время что-то бормочет. Ты понаблюдай как-нибудь за своей бабушкой, – Эстер перешла на шепот. – Когда она ночью встанет с постели. Старухи – они хитрые. Она будет ждать, пока ты заснешь, а ты не засыпай, выглядывай из-под одеяла и, как только она вылезет в окно, выскочи из постели и посмотри, в какую сторону она пошла!
– Моя бабушка не лазает по ночам в окна! – громко ответила Инга. Эстер еще что-то советует ей, будто знает ее бабушку лучше, чем сама Инга!
– Тсс! – поднесла Эстер палец к губам и захихикала: – Откуда тебе знать, что она не лазает, видела, что ли?
– Что?
– Ну, что она вылезает в окно.
– Нет, не видела!
– Так откуда же ты знаешь, если не видела? – с издевкой произнесла Эстер и расхохоталась.
Инга разозлилась, но постаралась ответить так же насмешливо и так же холодно, как Эстер:
– Ты что, дурой меня считаешь? Я не маленькая, чтобы верить в такие вещи!
– Чему же ты не веришь? – спросила Эстер, снова хитро прищурившись.
– Вот ничему не верю! А ты просто сумасшедшая, если говоришь такую ерунду и сама в нее веришь!
– Ну и пусть. А ты зато дура, – хладнокровно возразила Эстер.
– Почему дура? – спросила ошарашенная Инга.
– Потому, что тот, кто не сумасшедший, тот просто дурак!
Инга потрясла головой. Слова Эстер привели ее в замешательство.
Эстер тихо, как кошка, придвинулась к Инге и зашептала прямо в ухо:
– А ты веришь, что в котельной стоят котлы и под ними горит огонь, и что у дядьки Рашпиля на голове рог, веришь? Ну что? Или хочешь сама убедиться?
Инга сумела взять себя в руки.
– Ничего я не хочу! – крикнула она. – И вообще, убирайся отсюда, я не хочу тебя видеть, сейчас же уходи.
Эстер была такая противная, грязная, и вообще, – что все это значит! Вместо того чтобы учиться, Эстер изводит ее идиотскими сказками – и она им верит! Она должна заниматься с Эстер, а не слушать ее! Именно теперь, когда Эстер, высокомерно пожав плечами, выплыла за дверь, до Инги дошло: ведь Эстер должна учиться. Что бы там ни было, но она должна решить задачу по математике и выучить стихотворение на русском языке. И она, Инга, обязана проследить, чтобы Эстер приготовила уроки, значит, все же Эстер должна подчиняться ей, а не наоборот!
Мне надо пойти и проверить, занимается ли она. Это мой долг, хотя, возможно, мне это и неприятно! – так рассуждала Инга вслух. И где-то в глубине души у нее поднималось скрытое торжество.
Инга поспешила к школе и постучалась в узкую белую дверь на первом этаже. Ей никто не открыл. Она подергала ручку – дверь оказалась запертой. У второй смены как раз была перемена. Инга решила подняться на третий этаж, где был звонок, наверняка мама Эстер там. Она, надо думать, знает, где Эстер.
На лестнице Ингу обогнали старшеклассники. Когда-нибудь и она будет такой же умной, как они, даже умнее, чем они сейчас. С каждым годом она будет становиться все умнее, так как выучит все, что написано в книгах. На стене между вторым и третьим этажами висел плакат, гласивший, что сияющих вершин науки достигнет только тот, кто бесстрашно преодолеет крутые тропы. Сам плакат был голубым, а белые буквы на нем сияли и впрямь как снежные пики. Этот плакат всякий раз вселял в Ингу бодрость. Она станет ученым, человеком, который знает все!
Как только Инга занесла ногу на последнюю ступеньку, зазвенел звонок – на кнопку нажимала Эстер, рядом стояла ее мать.
– Нам задали на завтра по русскому длинное стихотворение, я пришла проверить, выучила ли Эстер, – объяснила Инга.
– Как же, она да выучила! – воскликнула мать Эстер. – А ну, марш учиться!
Эстер скакала впереди Инги вниз по лестнице, вид у нее был далеко не обиженный. Похоже, она вовсе не сердилась на Ингу. Она, как и в прошлый раз, усадила Ингу за круглый стол, сама села напротив и сказала:
– Ты читай мне по одной строчке, а я буду повторять, так я лучше запомню.
На самом же деле Эстер просто не хотела читать, поскольку плохо разбиралась в русских буквах. Инга это знала, но решила не спорить и начала читать:
– За морями, за горами…
– Ой, погоди, – сказала Эстер, – так я ничего не запомню. Я лучше прилягу на эту улиткину софу, а ты читай. Так я в момент запомню!
– Это не улиткина софа, – поправила ее Инга, – это вовсе диван-улитка.
– Ну, тогда улиткин диван, – ответила Эстер, сладко зевая и потягиваясь, так, что хрустнули все ее косточки и даже спинка дивана.
– Не улиткин диван, а диван-улитка, – снова поправила ее Инга, – потому что он не улиткин, а просто такой диван.
– Нет, именно улиткин, – с жаром возразила Эстер.
– Нет! – крикнула Инга. Эстер не понимает самых простых вещей!
– Улиткин! – завизжала Эстер, вскакивая с дивана. – Улиткин, потому что улитка приползает сюда и ложится, когда ей вздумается!
Инга на мгновение оцепенела.
– К-какая улитка? – заикаясь, произнесла она наконец.
– Улитка, – повторила Эстер, уставившись на Ингу. Рот у нее был раскрыт, будто она была поражена, что Инга еще нуждается в каких-то пояснениях, и тут она словно бы и сама испугалась. – Большая улитка, огромная, как куча компоста, – добавила она уже шепотом.
Инга быстро оглянулась. Там ничего не было, и все же ей показалось, будто по ее спине ползет что-то холодное и скользкое.
– Она появляется не оттуда, – успокоила ее Эстер, – она вползает через дверь.
Инга вздрогнула и посмотрела на дверь.
– Нет, не отсюда, – сказала Эстер.
– А откуда?
– Откуда? – повторила Эстер и, жутко вращая вытаращенными глазами, затараторила: – Из маленькой двери, маленькой коричневой двери… Ты ищешь, где эта дверь? – зашипела она.
– Нет, – поспешно возразила Инга, – нет-нет. Мне некогда, я заглянула лишь на минутку напомнить тебе, чтобы ты выучила уроки. Меня дома ждут!
Она попятилась к двери, прежде взглянув, белая ли она. Для одного дня было более чем достаточно!
Господи, зачем все это? – в отчаянии восклицала она, спеша домой и то и дело оглядываясь назад. Ей все время казалось, что по аллее вслед за нею ползет что-то огромное и бесформенное. В конце концов она не выдержала, повернулась и остановилась, плотно прижавшись спиной к дереву. Она не могла просто так обратиться в бегство, если чего-то очень боялась, она должна была смотреть прямо в глаза опасности. Если бы она сумела схватить страх! Если бы она была большой-большой и широкой, как тонкий лист бумаги, если бы она смогла схватить страх и обернуться вокруг него! Нет, так ничего не выйдет, с одной стороны она завернет его в себя, а с другой все-таки останется открытой… Если бы можно было разделиться на два листа и свернуться сразу в обе стороны… то незащищенный тыл оказался бы между двумя листами. Она должна бы стать круглой! Шар, и со всех сторон глаза – тогда бы она видела страх так далеко, насколько хватает глаз. И если бы она стала шаром, она могла бы двигаться во все стороны, потому что движение в одном направлении значило бы, что она отступила от других направлений… Мимо прошел мужчина с большим черным портфелем, затем невысокая женщина с маленькой сумочкой и зеленой авоськой, из которой выглядывали кочан капусты и пакеты с молоком. Прошагали мимо старшеклассники, те самые, что чуть не сбили ее с ног в школе, когда она поднималась по лестнице. Все они так спокойны. Неужели они ни о чем не догадываются или просто не придают этому значения? Не может быть, чтобы они не знали, кто-то все же знает – ведь они не слепые. И почему Алари обозвал Эстерину мать? Но учителя-то должны знать! А если они не верят? Ведь и она не верит, вернее, не хочет верить, но не может оставаться спокойной… Неужели она не в состоянии идти, как идут другие, и не подавать вида, не озираться по сторонам, не мчаться в комнату Эстер и не думать – главное, не думать о таких вещах!
На следующее утро Эстер явилась в класс одной из первых.
– Я уж решила, что ты проспишь! – крикнула она Инге. – Иди быстрее, помоги мне! У меня гениальная идея!
Она сунула Инге под нос большой лист ватмана и потребовала:
– Напиши-ка здесь это стихотворение, только крупными буквами и четко, и пиши эстонскими буквами!
– Зачем? – спросила Инга и недоверчиво поглядела на Эстер – она была уже по горло сыта этими «гениальными» идеями Эстер.
– Давай быстрее! Ведь толстуха сказала, что ты должна помогать мне, сказала же!
Инге пришлось подчиниться. Эстер велела ей еще нарисовать рядом со стихотворением несколько зайчат и прикрепила лист к стенгазете, что висела справа, рядом со столом учителя.
– Читай как по книге! – радовалась она, репетируя у доски.
Восхищенные мальчишки топтались возле газеты, а Лийна, мягкая и круглая, как пышка, пискливым дрожащим голосом заявила:
– Я все скажу учительнице!
Эстер схватила Лийну за руку и сжала ее своими тонкими пальцами как клещами, так что та потешно пискнула.
– Только попробуй! – сказала Эстер и оттолкнула Лийну в сторону.
– Все равно учительница заметит, – вслух подумала Инга, – случайно посмотрит и заметит.
– Эта дубина! – воскликнула Эстер. – Да ей и голову не повернуть, все следит, как бы кто не подсказал!
Русский язык, если не считать физкультуры, был единственным предметом, который вела не их классная руководительница, а другая, веснушчатая долговязая учительница. У нее дрожали руки, лицо то и дело покрывалось красными пятнами. Возможно, она плохо слышала, во всяком случае, она никого не спрашивала с места, а вызывала к доске, сама же во время ответа неотрывно следила за классом: не шевелит ли кто-нибудь губами как при подсказке.
Давно уже прозвенел второй звонок, но учительницы все не было. Мальчишки толпились в дверях класса. По коридору, задрав хвост, прогуливалась рыжая школьная кошка. Лопоухий Пауль лениво подошел к ней, проворно схватил за шкирку и притащил в класс, на учительский стол.
Тут только все заметили, что в дверях стоит маленький сутулый старичок.
Класс замер, затем раздался шум, и все в один прыжок оказались на своих местах. Только кошка, удобно устроившись на столе, с наслаждением покусывала свою ляжку.
Этот учитель обычно давал уроки в старших классах. Он был очень маленького роста, сухощавый, но почему-то все боялись его – стоило ему во время перемены появиться в коридоре, как тут же устанавливалась гробовая тишина. Сейчас он прошел по гулкому от тишины классу, спихнул со стола кошку, но за дверь ее не выгнал, а наоборот, ухмыльнулся, как будто был с кошкой в тайном сговоре, и, не пускаясь ни в какие объяснения, уселся за стол.
– Эстер, почему у твоей фамилии стоит галочка? – спросил он, листая журнал.
– Н-не знаю, – запинаясь пробормотала Эстер.
– Так-так, – протянул учитель и снова едва заметно усмехнулся, – я думаю, что учительница хотела тебя сегодня вызвать и, чтобы не забыть об этом, поставила галочку. Не так ли? – Он как будто читал мысли Эстер.







