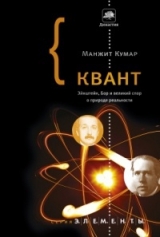
Текст книги "Квант. Эйнштейн, Бор и великий спор о природе реальности"
Автор книги: Манжит Кумар
Жанр:
Физика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 32 страниц)
Каждый прошедший через щель электрон до соударения с фотопластинкой движется по одной из большого числа возможных траекторий. Однако сферическая волна, утверждал Эйнштейн, соответствует не отдельному электрону, а “облаку электронов”38. Квантовая механика предоставляет информацию не об отдельном событии, а только о том, что называется “ансамблем” событий39. Поскольку каждый отдельный электрон движется от щели до пластины по особой траектории, волновая функция описывает не отдельный электрон, а облако электронов. Поэтому квадрат волновой функции, |ψ(A)|2, представляет собой не вероятность обнаружить отдельный электрон в точке А, а вероятность обнаружить один из членов ансамбля в этой точке40. Это, как сказал Эйнштейн, – “чисто статистическая” интерпретация квантовой механики. То есть статистическое распределение большого числа ударяющихся о пластину электронов приводит к образованию характерной дифракционной картины41.
Бор, Гейзенберг, Паули и Борн не совсем понимали, к чему клонит Эйнштейн. Он не сформулировал свою задачу четко: показать, что квантовая теория противоречива и поэтому не является законченной. Конечно, редукция волновой функции происходит мгновенно, думали они, но ведь это абстрактная волна вероятности, а не реальная волна, распространяющаяся в обычном трехмерном пространстве. Также не представлялось возможным на основании наблюдения происходящего с отдельным электроном сделать выбор между двумя подходами, о которых говорил Эйнштейн. В обоих случаях электрон проходит через щель и в какой-то точке ударяется о пластину.
“Я в очень затруднительном положении, поскольку не вполне понимаю, что имел в виду Эйнштейн. Нет сомнений, это моя вина”, – сказал Бор42. И прибавил: “Я не знаю, что собой представляет квантовая механика. Я думаю, мы имеем дело с некими математическими методами, адекватными для описания наших экспериментов”43. Вместо ответа Эйнштейну Бор просто еще раз изложил свои взгляды. Ответный ход в этой игре в квантовые шахматы датский гроссмейстер сделал тем же вечером, в последний день конференции. Об этом он подробно рассказал в статье, написанной в 1949 году по случаю семидесятилетия своего оппонента44.
Согласно Бору, Эйнштейн, анализируя свой мысленный эксперимент, предполагал, что положение и экрана, и фотографической пластинки строго определены в пространстве и во времени. Если это так, значит, утверждал Бор, предполагается, что оба эти предмета имеют бесконечную массу, поскольку только в этом случае вылет электрона из щели не сопровождается неопределенностью положения или времени. Тогда точный импульс и энергия электрона неизвестны. Это единственно возможный сценарий, утверждал Бор, учитывая, что в соответствии с принципом неопределенности, чем точнее известны координаты электрона, тем менее точным будет результат одновременного измерения импульса. Бесконечно тяжелый экран в мысленном эксперименте Эйнштейна не оставляет места для неопределенности положения электрона в пространстве и во времени. Однако за эту точность придется заплатить: импульс электрона и его энергия будут полностью неопределенны.
Более реалистично, считал Бор, предположить, что масса экрана конечна. Хотя по-прежнему экран остается очень тяжелым, при пролете электрона через щель он чуть-чуть сдвинется. Этот сдвиг настолько мал, что в лабораторных условиях заметить его невозможно, однако в абстрактном мире мысленного эксперимента, где измерительные приборы обладают абсолютной точностью, определить его не представляет проблемы. Поскольку экран сдвигается, в процессе дифракции положение электрона в пространстве и во времени точно не определено. Это приводит к неопределенности значений его импульса и энергии. Однако в сравнении со случаем бесконечно тяжелого экрана можно точнее предсказать место, где дифрагированный электрон ударяется о пластину. В пределах, заданных принципом неопределенности, утверждал Бор, квантовая механика дает настолько полное описание отдельного события, насколько это вообще возможно.
Ответ Бора не произвел впечатления на Эйнштейна. Он попросил рассмотреть возможность проконтролировать и измерить импульс и энергию, переданные экраном частице, будь то электрон или фотон, при прохождении через щель. Тогда, возражал Эйнштейн, состояние частицы сразу после прохождения щели можно будет определить с большей точностью, чем та, которую допускает принцип неопределенности. Проходя через щель, говорил Эйнштейн, частица перестает двигаться прямолинейно. Траектория ее движения к экрану определяется законом сохранения импульса, согласно которому сумма импульсов двух взаимодействующих тел (частицы и экрана) должна оставаться неизменной. Если частица отклоняется вверх, экран должен сдвинуться вниз, и наоборот.
Эйнштейн использовал введенный Бором для своих целей подвижный экран и модифицировал свой мысленный эксперимент, поместив еще один экран с двумя щелями между подвижным экраном и фотопластинкой. Эйнштейн уменьшил интенсивность пучка настолько, что единовременно только одна частица могла пройти через щель в первом экране S1 и через одну из двух щелей экрана S2. Каждая из частиц, попадая на фотографическую пластинку, оставляет на ней неисчезающий след. Дальше происходит нечто поразительное. То, что вначале казалось случайными вспышками, по мере того как все больше частиц оставляет след на пластинке, следуя статистическим закономерностям, превращается в картину интерференции, состоящую из светлых и темных полос. Поскольку каждая частица ответственна только за одну отметку на экране, она, вне всякого сомнения, подчиняясь статистическому императиву, вносит вклад в изображение на пластинке.

Рис. 15. Мысленный эксперимент Эйнштейна с двумя щелями. Крайний справа рисунок – картина интерференции, которая будет видна на экране.
Контролируя и измеряя передачу импульса от первого экрана частице, можно, утверждал Эйнштейн, определить, куда отклонится частица: по направлению к верхней или нижней щели второго экрана. Исходя из того, где она ударилась о фотографическую пластинку и как двигался первый экран, можно определить, через какую из двух щелей частица прошла. Казалось, Эйнштейну удалось придумать эксперимент, позволяющий измерить координату и импульс частицы точнее, чем это допускает принцип неопределенности. Создавалось впечатление, что такой эксперимент противоречит еще одной доктрине копенгагенской интерпретации: в рамках принципа дополнительности Бора постулируется, что в одном эксперименте могут проявляться лишь корпускулярные либо волновые свойства электрона или фотона.
В аргументации Эйнштейна должен был найтись изъян. Чтобы его отыскать, Бор решил проанализировать, какие устройства использовались в этом эксперименте. Он сделал небольшой чертеж. Бор сосредоточился на первом экране, понимая, что возможность контролировать и измерять импульс, переданный от частицы экрану, зависит от того, может ли экран двигаться вертикально. Именно возможность наблюдать, сдвинулся экран вверх или вниз после прохождения частицы через щель, позволяет определить, прошла частица через верхнюю или через нижнюю щель во втором экране после того, как она ударилась о фотопластинку.
Эйнштейн, несмотря на годы, проведенные в патентном бюро, не учел деталей. А Бор знал, что квантовый дьявол именно в них. Он заменил первый экран другим, подвешенным на двух пружинах, закрепленных на неподвижной рамке. Это позволяло измерить импульс, переданный экрану при прохождении частицы через щель. Измерительное устройство было простым: стрелка, закрепленная на рамке, и шкала, нанесенная непосредственно на экран. Несмотря на свою простоту, прибор был достаточно чувствительным, чтобы в мысленном эксперименте можно было наблюдать взаимодействие одной частицы и экрана.

Рис. 16. Схема Бора с подвижным первым экраном.
Бор утверждал, что если экран уже двигался с некоторой неизвестной скоростью, превышающей скорость, обязанную взаимодействию с проходящей через щель частицей, то выяснить, чему равен переданный импульс, невозможно. Следовательно, нельзя узнать и траекторию частицы. С другой стороны, если можно проконтролировать и измерить импульс, переданный частицей экрану, в соответствии с принципом неопределенности одновременно имеется неопределенность в положении экрана и щели. Каким бы точным ни было измерение импульса экрана в вертикальном направлении, оно в меру соотношения неопределенности строго связано с соответствующей неточностью измерения вертикального смещения.
Кроме того, по мнению Бора, неопределенность положения первого экрана разрушает интерференционную картину. Пусть точка D на фотопластинке – точка деструктивной интерференции, то есть она попадает в темную полосу интерференционной картины. Вертикальное смещение первого экрана приведет к изменению длины двух путей: ABD и ACD {рис. 15). Если новые пути отличаются на половину длины волны, в том же месте будет уже не деструктивная, а конструктивная интерференция: точка D попадет в светлую полосу.
Чтобы учесть неопределенность вертикального смещения первого экрана S1, требуется “усреднение” по всем его возможным положениям. Это приведет к интерференции где-то посередине, между местами максимумов полностью конструктивной и полностью деструктивной интерференции, и в результате к размыванию интерференционной картины на фотопластинке. Бор утверждал, что, контролируя передачу импульса от частицы первому экрану, можно проследить траекторию частицы, проходящей через щель во втором экране, но это разрушит интерференционную картину. Он пришел к заключению, что “предложенный [Эйнштейном] контроль переданного импульса будет включать в себя свободу в определении положения диафрагмы [S1], что исключает возникновение интересующего явления интерференции”45. Бор отстоял не только принцип неопределенности, но и утверждение, что волновой и корпускулярный аспекты микрофизического объекта не могут проявляться в эксперименте одновременно, будь он мысленный или нет.
Построенное Бором опровержение утверждений Эйнштейна основывалось на предположении, что достаточно точное измерение импульса, переданного экрану S1, которое позволило бы сделать заключение о дальнейшем направлении движения частицы, приводит к неопределенности в определении положения самого экрана. Это связано с тем, объяснял Бор, что потребуется прочесть показания шкалы, нанесенной на S1 . Значит, шкалу придется осветить. А это значит, что от экрана должны отражаться фотоны, что приводит к бесконтрольной передаче импульса. Следовательно, точно измерить импульс, переданный экрану при прохождении частицы через щель, не удастся. Единственный способ исключить влияние фотонов – не освещать шкалу. Но тогда нельзя будет узнать ее показания. Бору пришлось воспользоваться тем же представлением о “возмущении”, за которое он прежде критиковал Гейзенберга, когда тот использовал его для объяснения источника неопределенности в мысленном эксперименте с микроскопом.
Было еще одно любопытное явление, связанное с экспериментом, в котором использовался экран с двумя щелями. Пусть одна из щелей имеет заслонку. Если закрыть эту заслонку, интерференционная картина пропадает. Интерференция получается только тогда, когда обе щели одновременно открыты. Как это возможно? Частица может пройти только через одну щель. Но откуда она “знает”, что вторая щель закрыта?
У Бора был ответ. Нет такой вещи, как частица со строго определенной траекторией. Именно отсутствие определенной траектории стоит за появлением интерференционной картины, даже если она создается не волнами, а частицами, проходящими по одной через экран с двумя щелями. Именно такая квантовая размытость позволяет частице “испытывать” различные возможные пути, так что она “знает”, закрыта или открыта одна из щелей. На путь, по которому частица будет двигаться, оказывает влияние, открыта щель или нет.
Если детектор поместить перед двумя щелями так, чтобы можно было подсмотреть, через какую из них частица собирается пройти, создается впечатление, что вторую щель можно закрыть и это не окажет влияния на траекторию частицы. Когда впоследствии такой эксперимент с “отложенным выбором” поставили, то вместо интерференционной картины получили увеличенное изображение щели. При попытке измерить положение частицы, чтобы установить, через какую из щелей она пройдет, ее исходное направление движения возмущается и интерференционная картина не реализуется.

Рис. 17. Эксперимент с двумя щелями: а) открыты обе щели; б) одна щель закрыта.
Бор говорил, что физики должны выбирать: они могут “отслеживать траекторию частицы либо наблюдать интерференционные эффекты”46. Если одна из щелей на экране S2 закрыта, физики знают, через какой из затворов пройдет частица, прежде чем ударится о фотопластинку. Но при этом интерференционной картины не будет. Бор утверждал, что именно возможность выбора позволяет “избавиться от парадоксальной необходимости сделать вывод, что поведение электрона или фотона зависит от наличия щели в диафрагме [S2], через которую, как можно доказать, он не проходит”47.
Для Бора эксперимент с двумя щелями был типичным примером проявления свойства дополнительности при взаимоисключающих экспериментальных условиях48. Он утверждал, что свет – квантово-механическая реальность, не являющаяся ни частицей, ни волной. Он и то, и другое. В каждом случае ответ природы на вопрос, частица это или волна, зависит от того, каков сам вопрос: от того, какой эксперимент ставится. Если целью эксперимента является определение, через какую из щелей на экране S2 пройдет фотон, природа на этот вопрос ответит “частица”, и поэтому интерференционной картины не будет. Именно потерю независящей от наблюдателя объективной реальности, а не вероятность (“Бога, играющего в кости”) считал недопустимой Эйнштейн. Именно поэтому квантовая механика не могла быть фундаментальной теорией природы, на чем настаивал Бор.
“Озабоченность Эйнштейна и его критика были для всех нас главным стимулом еще раз проверить все, что связано с описанием атомных явлений”, – вспоминал Бор49. Суть разногласий, подчеркивал он, сводилась главным образом к “различию между исследуемым объектом и измерительными приборами, с помощью которых на языке классической физики надо определить условия, при которых проявляется данное явление”50. Согласно копенгагенской интерпретации, измерительные приборы сложным образом связаны с исследуемым объектом, и разделить их невозможно.
Измерительные приборы подчиняются законам классической физики, а такой микрофизический объект, как электрон, – законам квантовой механики. Тем не менее перед вызовом, брошенным Эйнштейном, Бору пришлось отступить. Он применил принцип неопределенности к макроскопическому объекту – первому экрану S1. В этот раз Бор, которому не удалось провести четкую “разделительную линию” между классическим и квантовым мирами, своевольно перевел элемент повседневного мира больших размеров в царство квантов. Это был не последний сомнительный ход Бора за время игры в квантовые “шахматы” с Эйнштейном. Уж очень высоки были ставки.
Во время заключительной дискуссии Эйнштейн взял слово только однажды, когда и задал свой вопрос. Позднее де Бройль вспоминал, что Эйнштейн “практически ничего не сказал, только сделал небольшое замечание относительно вероятностной интерпретации”, а затем “снова погрузился в молчание”51. Однако поскольку все участники конгресса остановились в “Метрополе”, жаркие споры начались именно здесь, в элегантной столовой в стиле ар-деко, а не в конференц-зале Института физиологии. Бор и Эйнштейн, по словам Гейзенберга, были в самой гуще событий52.
Удивительно, что де Бройль, хотя и был аристократом, говорил только по-французски. Он, конечно, видел Бора и Эйнштейна, с головой погруженных в разговор, и Гейзенберга с Паули, внимательно их слушавших. Они говорили по-немецки, и де Бройль не понял, что присутствует при событии, которое Гейзенберг назвал “дуэлью”53. Признанный мастер мысленных экспериментов, Эйнштейн явился к завтраку вооруженный. Он опять был готов бросить вызов принципу неопределенности, а вместе с ним и хваленой непротиворечивости копенгагенской интерпретации.
Разговор начался за кофе с круассанами. Бор и Эйнштейн продолжили беседу по пути в Институт физиологии. Как всегда, Гейзенберг, Паули и Эренфест замыкали шествие. Перед утренней сессией оппоненты зондировали почву и уясняли смысл новых аргументов друг друга. “Во время заседания, а особенно в перерывах, молодежь, главным образом Паули и я, пыталась проанализировать эксперимент Эйнштейна, – рассказывал позднее Гейзенберг. – За завтраком обсуждение вопроса с Бором и другими ‘копенгагенцами’ продолжилось”54. К концу дня совместными усилиями удалось сформулировать контрдоказательство. Во время обеда в “Метрополе” Бор объяснил Эйнштейну, почему его последний мысленный эксперимент не приводит к нарушению ограничений, накладываемых принципом неопределенности. Всякий раз, когда Эйнштейну не удавалось обнаружить изъян в доводах “копенгагенцев”, они, по словам Гейзенберга, знали, что “в глубине души он оставался при своем мнении”55.
Через несколько дней, вспоминал Гейзенберг, “Бор, Паули и я знали, что мы можем быть уверены: почва у нас под ногами тверда, а Эйнштейн понял – новую интерпретацию квантовой механики опровергнуть не так-то просто”56. Впрочем, Эйнштейн не собирался сдаваться и, хотя суть его претензий к копенгагенской интерпретации заключалась в ином, продолжал повторять: “Бог не играет в кости”. Бор однажды возразил ему: “Не нам указывать Господу, как управлять миром”57. “Эйнштейн, мне стыдно за вас, – как бы в шутку сказал однажды Пауль Эренфест. – Вы возражаете против новой квантовой теории точно так же, как ваши оппоненты возражали против теории относительности”58.
На Сольвеевском конгрессе 1927 года Эренфест был единственным беспристрастным свидетелем схваток Эйнштейна с Бором. “Позиция Эйнштейна приводила к горячим дискуссиям в узком кругу, – вспоминал Бор. – Эренфест, долгие годы наш общий близкий друг, принимал в них самое активное участие и очень помогал нам”59. Спустя несколько дней после конгресса Эренфест написал своим студентам в Лейденский университет о событиях в Брюсселе: “Бор затмил всех. Сначала вообще никто не понимал его (Борн был тоже здесь), а затем, потихоньку продвигаясь вперед, он всех победил. Естественно, опять эта ужасная, похожая на заклинание терминология Бора. (Бедный Лоренц переводил англичанам и французам, которые не могли понять друг друга. Он кратко изложил выступление Бора. И ответ Бора, находившегося в состоянии вежливой безнадежности.) Каждую ночь, в час пополуночи Бор приходил в мою комнату сказать ОДНО СЛОВЕЧКО – и это продолжалось до трех часов. Замечательно, что я мог присутствовать при разговорах Бора и Эйнштейна. Это было похоже на игру в шахматы. Эйнштейн приводит все новые и новые примеры... которые должны опровергнуть ПРИНЦИП НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ. Бор, окруженный клубами философического дыма, непрерывно ищет способ сокрушить один пример за другим. Эйнштейн, каждое утро выскакивающий как чертик из табакерки с новым примером. О, эти разговоры бесценны! Но я практически безоговорочно за Бора и против Эйнштейна”60. Однако, признавался Эренфест, “мир в моей голове не наступит до тех пор, пока согласие с Эйнштейном не будет достигнуто”61.
По воспоминаниям Бора, дискуссии на Сольвеевском конгрессе 1927 года шли в “максимально юмористическом духе”62. Однако, замечал он задумчиво, “оставались определенные различия в позициях и точках зрения. Эйнштейн мастерски умел согласовывать явно противоречащие друг другу свидетельства, не отступая от принципов непрерывности и причинности, и ему, по всей видимости, было труднее отказаться от этих идеалов, чем тем, кому отречение от них представляется единственной возможностью решить первоочередную задачу согласования разнообразных свидетельств, касающихся атомных явлений, которые накапливались день ото дня при исследованиях в этой новой области знаний”63. Бор считал, что именно небывалые достижения Эйнштейна были якорем, удерживающим его в прошлом.
По мнению участников V Сольвеевского конгресса, встреча закончилась победой Бора, отстоявшего логическую непротиворечивость копенгагенской интерпретации. Но Бор не сумел убедить Эйнштейна, что это единственно возможная интерпретация теории, которую можно считать полной и замкнутой. По пути домой Эйнштейн вместе с небольшой группой участников конгресса, среди которых был де Бройль, заехал в Париж. Когда они расставались, Эйнштейн сказал герцогу: “Так и продолжайте. Вы на верном пути”64. Но де Бройль вскоре отрекся и принял копенгагенскую интерпретацию: его дух был сломлен отсутствием поддержки в Брюсселе. Измученный и подавленный, Эйнштейн добрался до Берлина. Две недели спустя он написал Арнольду Зоммерфельду, что квантовая механика, “может, и правильная теория, состоящая из статистических закономерностей, но она не подходит для описания отдельных элементарных процессов”65.
Если для Поля Ланжевена на Сольвеевском конгрессе “неразбериха с идеями достигла апогея”, то для Гейзенберга “встреча великих” была очень важным, решающим моментом: он считал, что теперь справедливость копенгагенской интерпретации установлена66. “Научными результатами я удовлетворен во всех отношениях. Взгляды Бора и мои были в целом восприняты; даже у Эйнштейна и Шредингера не осталось сколько-нибудь серьезных возражений”, – написал он после конгресса67. С точки зрения Гейзенберга, они победили. “Использовав старые понятия и ограничив их принципом неопределенности, мы смогли разобраться во всем и получить при этом полностью согласованную картину”, – вспоминал он почти сорок лет спустя. Когда у него спросили, кого он понимает под словом “мы”, Гейзенберг ответил: “Я могу сказать, что в то время это фактически были только Бор, Паули и я сам”68.
Бор никогда не использовал термин “копенгагенская интерпретация”. Им не пользовался никто, пока его не ввел в оборот Гейзенберг в 1955 году. Однако если сначала его использовала только кучка адептов, то скоро этот термин стал общеупотребительным. Для большинства физиков слова “копенгагенская интерпретация квантовой механики” стали синонимом квантовой механики. Три фактора определили быстрое распространение и признание “копенгагенского подхода”. Первый – главенство Бора и его института. Бор помнил, какое огромное влияние оказала на него аспирантура в лаборатории Резерфорда в Манчестере. Ему удалось организовать институт так, что там работали с той же энергией, с тем же наполнявшим сам воздух института ощущением: возможно всё.
“Вскоре институт Бора стал мировым центром квантовой физики. Перефразировав римскую поговорку, можно было сказать, что все дороги ведут на Блегдамсвей, 17”, – вспоминал русский физик Георгий Гамов, появившийся здесь летом 1928 года69. Институт теоретической физики им. кайзера Вильгельма, где Эйнштейн был директором, существовал только на бумаге. И Эйнштейна это устраивало. Бор же, хотя он обычно работал один, а позднее с одним ассистентом, помогавшим с расчетами, произвел на свет много “детей”. Первыми, кто достиг известности и ответственных постов, были Гейзенберг, Паули и Дирак. Несмотря на их молодость, вспоминал Ральф Крониг, другие молодые физики не осмеливались им противоречить. Сам Крониг, например, отказался от публикации своей идеи о существовании спина у электрона только потому, что ее высмеял Паули.
Во-вторых, примерно тогда же, когда проходил V Сольвеевский конгресс, открылось несколько профессорских вакансий. Почти все эти места заняли архитекторы новой физики. Очень скоро институты, которые они возглавили, стали местом притяжения для лучших студентов Германии и всей Европы. Шредингер стал наследником Планка. Это место в Берлине было наиболее престижным. Сразу после конгресса в Лейпциг явился Гейзенберг, получивший пост профессора и директора Института теоретической физики. Спустя шесть месяцев, в апреле 1928 года, Паули оставил Мюнхен и переехал в Цюрих, где стал профессором Высшей технической школы. Паскуаль Йордан, чье искусство математика оказалось жизненно важным при построении матричной механики, занял место Паули в Гамбурге. Вскоре, благодаря регулярным визитам, обмену студентами и аспирантами и поездкам в институт Бора, Гейзенберг и Паули смогли превратить Лейпциг и Цюрих в центры квантовой физики. Учитывая, что Крамерс уже работал в университете Утрехта, а Борн – в Геттингене, копенгагенская интерпретация стала догмой квантовой физики.
Несмотря на разногласия, Бор и его молодые соратники всегда выступали единым фронтом против любых вызовов, с которыми сталкивалась копенгагенская интерпретация. Единственным исключением был Поль Дирак. В 1932 году он стал Лукасианским профессором математики Кембриджского университета, заняв то место, которое когда-то занимал Исаак Ньютон. Но вопрос интерпретации квантовой механики его никогда не интересовал. Дираку казалось бессмысленным тратить на это время, поскольку такие занятия не приводили к выводу новых уравнений. Подчеркивая это, он называл себя математическим физиком. Никто другой – ни его сверстники Гейзенберг и Паули, ни Эйнштейн с Бором – никогда таковыми себя не считали. Как и Лоренц, признанный старейшина клана, умерший в 1928 году, они были физиками-теоретиками. Про Лоренца Эйнштейн позднее написал: “Для меня лично он значил больше, чем все, с кем мне довелось столкнуться на жизненном пути”70.
Вскоре здоровье самого Эйнштейна начало вызывать беспокойство. В апреле 1928 года во время краткой поездки в Швейцарию он потерял сознание. Сначала думали, что у Эйнштейна сердечный приступ, но потом выяснилось, что причина в увеличении размеров сердца. Позднее он сказал своему другу Бессо, что почувствовал “близость смерти”, и добавил, что, “конечно, говорить такое всуе нельзя”71. Когда он вернулся в Берлин, Эльза сильно ограничила визиты друзей и коллег. Она стала сторожем и нянькой Эйнштейна, как и тогда, когда он заболел в результате геркулесовых усилий, затраченных на построение общей теории относительности. В этот раз Эльзе понадобилась помощь, и она наняла незамужнюю сестру знакомого. Эллен Дюкас было тридцать два года. Она стала доверенным секретарем и другом Эйнштейна72.
Пока он выздоравливал, статья Бора вышла сразу на трех языках: по-английски, по-немецки и по-французски. Английская версия, опубликованная 14 апреля 1928 года, называлась “Квантовый постулат и новое развитие атомистики”. В сноске к статье сообщалось: “Статья совпадает с содержанием доклада о современном состоянии теории квантов, сделанном 16 сентября 1927 года во время празднования юбилея Вольты в Комо”73. По правде говоря, по сравнению с Комо и Брюсселем Бор обновил и существенно улучшил изложение своих идей, связанных с принципом дополнительности и квантовой механикой.
Бор послал экземпляр статьи Шредингеру. Тот ответил: “... получается, что если вы хотите описать систему, то есть материальную точку, задав ее [импульс] p и [координату] q, вы можете это сделать только с определенной степенью точности”74. Это означает, возражал Шредингер, что необходима новая концепция, в рамках которой такое ограничение уже не требуется. В заключение он написал: “Однако, без сомнения, будет очень трудно построить такую концептуальную схему, поскольку – Вы это подчеркиваете – ее создание должно затронуть наши самые глубинные представления о мире: о пространстве, времени и причинности”.
Бор поблагодарил Шредингера “за отсутствие полного неприятия” его теории, но указал, что не видит необходимости в “новой концепции” квантовой теории, поскольку старые эмпирические понятия представляются неразрывно связанными с “основами человеческих способностей к визуализации”75. Бор еще раз сформулировал свою позицию. Дело не в более или менее произвольном ограничении применимости классических представлений, а в неустранимой, связанной с дополнительностью, особенности, проявляющейся при анализе концепции измерения. В конце он написал, что был бы рад, если бы Шредингер обсудил содержание его письма с Планком и Эйнштейном. Когда Шредингер рассказал Эйнштейну о своей переписке с Бором, тот ответил: “Убаюкивающая философия (или религия?) Гейзенберга – Бора выстроена так тонко, что для истинно верующего она служит мягкой подушкой, подняться с которой очень нелегко. Пусть там и лежат”76.
Через четыре месяца после обморока Эйнштейн был еще слаб, но к постели не прикован. Чтобы набраться сил, он снял дом в небольшом сонном городке Шарбойц на Балтийском побережье. Здесь он жил, читая Спинозу и наслаждаясь тем, что не принимал участия в “идиотическом существовании, которое человек вынужден вести в больших городах”77. На восстановление потребовался почти год, и только после этого он смог вернуться в свой кабинет. Эйнштейн работал там все утро, потом уходил домой на обед и отдыхал до трех часов. “Иначе он работал бы весь день, – вспоминала Эллен Дюкас, – а иногда и всю ночь”78.
В 1929 году Паули приехал к Эйнштейну на пасхальные каникулы. Он нашел, что “в своем отношении к современной квантовой физике Эйнштейн остается таким же реакционером”, то есть “продолжает верить в реальность, где естественные события происходят в соответствии с законами природы, не зависящими от наблюдателя”79. Вскоре после приезда Паули Эйнштейн изложил свою позицию предельно четко. В речи по поводу вручения ему медали им. Макса Планка (полученной из рук самого Планка) он сказал: “Я до глубины души восхищен достижениями молодого поколения физиков, известными как квантовая механика, и верю в глубинную истинность этой теории, но я верю, что можно будет снять ограничения, налагаемые статистическими законами”80. К тому времени Эйнштейн уже отправился в одиночное плавание в поисках общей теории поля, которая, как он верил, должна спасти причинность и независимую от наблюдателя реальность. А в данный момент он продолжал оспаривать то, что становилось ортодоксальной квантовой доктриной – копенгагенскую интерпретацию. В 1930 году на VI Сольвеевском конгрессе, когда Бор и Эйнштейн снова встретились, Эйнштейн преподнес своему оппоненту ящик со светом.








