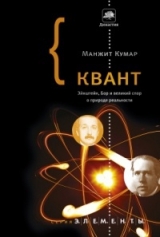
Текст книги "Квант. Эйнштейн, Бор и великий спор о природе реальности"
Автор книги: Манжит Кумар
Жанр:
Физика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 32 страниц)
Бор напряженно работал над статьей с апреля. Человеком, к которому он обратился за помощью, был Оскар Клейн, тридцатидвухлетний швед, работавший в институте. Поскольку споры о неопределенности и дополнительности становились все яростнее, Хендрик Крамерс, в прошлом ассистент Бора, предупредил Клейна: “Не вмешивайся в этот конфликт. Мы оба слишком добрые и кроткие, чтобы участвовать в такой битве”83. Когда Гейзенберг впервые услышал, что Бор, исходя из предположения о “существовании волн и частиц”, готовит с помощью Клейна статью, он пренебрежительно написал Паули, что “если исходить из этого, то, конечно, удастся согласовать все”84.
Один черновик сменял другой. Менялось и название статьи. Сначала оно звучало так: “Философские основы квантовой теории”. Затем работа получила название “Квантовый постулат и новое развитие атомистики”. Бор старался закончить работу как можно скорее, чтобы представить ее на конгрессе. Но оказалось, что получается только еще один черновик. В тот момент, правда, и его было достаточно.
Международный физический конгресс проходил с 11 по 20 сентября в итальянском городе Комо. Он был посвящен столетней годовщине смерти изобретателя химической батареи Алессандро Вольта. Бор до самого дня доклада переделывал свои заметки. Доклад он представил 16 сентября. Среди тех, кто явился в Институт Кардуччи на доклад Бора, были Борн, де Бройль, Комптон, Гейзенберг, Лоренц, Паули, Планк и Зоммерфельд.
Слушатели затаили дыхание сразу после того, как Бор наметил план выступления: отправной точкой должно было стать новое понятие дополнительности; затем следовало изложение принципа неопределенности Гейзенберга и роли измерений в квантовой теории. Бор соединил вместе все эти элементы, включив сюда и вероятностную интерпретацию Борна волновой функции Шредингера. Все вместе они стали основой нового физического понимания квантовой механики. Позднее физики стали называть этот сплав идей “копенгагенской интерпретацией”.
Доклад Бора стал кульминацией, главным событием конгресса, на котором, как позднее сказал Гейзенберг, шло “напряженное исследование всех вопросов, касающихся интерпретации квантовой теории в Копенгагене”85. Сначала даже Гейзенберга беспокоили ответы, которые предлагал датчанин. “Я помню споры с Бором, продолжавшиеся много часов подряд, далеко за полночь; они вызывали у меня чувство безысходности, – записал Гейзенберг позднее. – Обычно после таких дискуссий я в одиночестве бродил в соседнем парке, снова и снова спрашивая себя: может ли природа на самом деле быть настолько абсурдна, какой она пытается показать себя нам в этих атомных экспериментах?”86. Бор недвусмысленно отвечал на этот вопрос “да”. Поскольку центральная роль отводится измерениям и наблюдениям, обречены на неудачу все попытки обнаружить регулярные закономерности и причинные связи.
Именно Гейзенберг в статье о принципе неопределенности первым открыто выступил против постулата, являющегося одним из главных столпов, на которых держалась наука: “В строгой формулировке принципа причинности (если мы точно знаем настоящее, мы можем предсказать будущее) уже кроется недостаток: это не утверждение, которое можно вывести, а только предположение. Мы не можем знать настоящее во всех деталях”87. Если не известны одновременно точное начальное положение, например, электрона и его точная начальная скорость, можно только вычислить, какими из всего имеющегося “изобилия возможностей” будут в будущем его наиболее вероятные координата и скорость88. Поэтому точный результат любого отдельного наблюдения или измерения предсказать невозможно. Точно можно предсказать только, с какой вероятностью получится тот или иной результат из веера возможностей.
Вселенная, построенная на заложенном Ньютоном фундаменте, – это детерминистский, работающий как часы мир. Даже после релятивистской перестройки этого фундамента Эйнштейном, если в заданный момент времени известны точная координата и импульс любого объекта (частицы или планеты), можно в принципе точно определить его положение и скорость в любой следующий момент времени. В квантовой Вселенной нет места детерминизму классического мира, где все явления можно описать как причинно обоснованную цепь событий, происходящих в пространстве и во времени. “Поскольку все эксперименты подчиняются законам квантовой механики и, следовательно, выполняется уравнение ΔpΔq ≈ h, — дерзко утверждал Гейзенберг в последнем абзаце статьи о принципе неопределенности, – то отсюда следует, что квантовая механика окончательно устанавливает несостоятельность принципа причинности”89. Любая надежда восстановить ее “бесполезна и не имеет смысла”, как и давняя мечта найти скрытый “реальный” мир за тем, что Гейзенберг называл “чувственным статистическим миром”90. Эту точку зрения разделяли Бор, Паули и Борн.
В Комо было заметно отсутствие двоих физиков. Шредингер, который всего за неделю до того переехал в Берлин на место Планка, обустраивался на новом месте. Эйнштейн отказался приезжать в фашистскую Италию. Бору предстояло еще целый месяц ждать встречи с ними в Брюсселе.
ЧАСТЬ III.
Битва за реальность
Квантового мира нет. Есть только его абстрактное математическое описание.
Нильс Бор
Я все еще верю, что модель реальности возможна – иными словами, что можно построить теорию, которая описывает сами события, а не просто вероятность их осуществления.
Альберт Эйнштейн
Глава 11.
Сольвеевский конгресс 1927 года
“Вот теперь я могу написать Эйнштейну”, – решил Хендрик Лоренц 2 апреля 1926 года1. В тот день старейшина физического сообщества удостоился личной аудиенции у короля Бельгии. Лоренц рассчитывал получить – и получил – согласие короля на избрание Эйнштейна членом ученого совета Международного института физики, основанного промышленником Эрнестом Гастоном Сольве. Лоренц (о нем Эйнштейн однажды сказал, что тот являет собой “чудо интеллигентности и такта”) получил согласие короля и на приглашение немецких физиков на V Сольвеевский конгресс, который намечалось провести в октябре 1927 года2.
“Его Величество высказал мнение, что спустя семь лет после войны неприязнь к ним [немцам] понемногу смягчается, что взаимопонимание между людьми совершенно необходимо для будущего и что наука может в этом помочь”, – сообщал Лоренц3. Хотя еще было свежо воспоминание о грубом нарушении Германией бельгийского нейтралитета в 1914 году, король счел “необходимым подчеркнуть, что принимая во внимание, сколько немцы сделали для физики, будет трудно не пригласить их”4. С конца войны никто с этим не считался и немцев никуда не приглашали. Все это время они оставались в изоляции от международного научного сообщества.
“Из всех немцев приглашен только Эйнштейн, поэтому конференцию будем считать интернациональной”, – сказал своим коллегам Резерфорд перед открытием III Сольвеевского конгресса в апреле 1921 года5. Поскольку остальных немецких ученых исключили из списка участников, Эйнштейн решил не приезжать. Вместо этого он отправился с лекциями в Америку, где намеревался собрать деньги на строительство Еврейского университета в Иерусалиме. Двумя годами позже он заявил, что отклонит приглашение и на IV Сольвеевский конгресс, поскольку запрет на участие немецких физиков сохранялся. “С моей точки зрения, неправильно смешивать политику и науку, – написал он Лоренцу, – как и неправильно считать человека ответственным за действия правительства той страны, в которой ему доводится жить”6.
В 1921 году Бор не смог приехать на конгресс из-за болезни, а в 1924 он отклонил приглашение, боясь, что его поездка может быть воспринята как молчаливое согласие с политикой недопущения немцев. В 1925 году, когда Лоренц стал председателем комиссии Лиги Наций по интеллектуальному сотрудничеству, он понял: в ближайшем будущем шансов на снятие запрета на участие немецких ученых в международных конференциях мало7. Однако в октябре того же года двери темницы неожиданно приоткрылись, хотя и не открылись совсем.
На швейцарском курорте Локарно на берегу озера Лаго-Маджоре были ратифицированы договоры, которые, как многие надеялись, должны были дать Европе мир. Локарно – самый солнечный город Швейцарии – был самым подходящим для этого местом8. Чтобы собрать вместе представителей Германии, Франции и Бельгии, потребовались месяцы интенсивной дипломатической работы. Подписание договоров о послевоенных границах открыло Германии дорогу в Лигу Наций, членом которой она стала в сентябре 1926 года. Окончилась и изоляция немецких ученых. Король Бельгии отказался от нее еще прежде того, как был сделан последний ход на дипломатической шахматной доске. Тогда же Лоренц написал Эйнштейну, пригласив его принять участие в V Сольвеевском конгрессе и стать членом оргкомитета. Эйнштейн согласился. В оставшиеся месяцы был намечен список участников, согласована повестка дня и разосланы столь желанные приглашения.
Участников конгресса можно было разделить на три группы. Первая – члены оргкомитета: Хендрик Лоренц (президент), Мартин Кнудсен (секретарь), Мария Кюри, Шарль Пои, Поль Ланжевен, Оуэн Ричардсон и Альберт Эйнштейн9. Вторая группа включала научных секретарей, представителей семьи Сольве и трех профессоров Брюссельского свободного университета, которых пригласили из вежливости. Американский физик Ирвинг Ленгмюр, путешествовавший в это время по Европе, стал гостем оргкомитета.
Конгресс был посвящен “новой квантовой механике и связанным с нею вопросам”10. Эта тема определила состав третьей группы: Нильс Бор, Макс Борн, Уильям Л. Брэгг, Леон Бриллюэн, Артур X. Комптон, Луи де Бройль, Петер Дебай, Поль Дирак, Пауль Эренфест, Ральф Фаулер, Вернер Гейзенберг, Хендрик Крамерс, Вольфганг Паули, Макс Планк, Эрвин Шредингер и Чарльз Т. Р. Вильсон.
В Брюсселе должны были собраться все: и мэтры квантовой теории, и “несносные мальчишки” квантовой механики. Среди приглашенных на конгресс, очень похожий на церковный собор, созванный для решения спорных теологических вопросов, не было только Зоммерфельда и Йордана. Предполагалось заслушать пять докладов: Брэгга об интенсивности отражения рентгеновских лучей, Комптона о расхождениях между экспериментом и электромагнитной теорией излучения, де Бройля о новой динамике квантов, Борна и Гейзенберга о квантовой механике и Шредингера о волновой механике. Последние два заседания отводились для общей дискуссии о квантовой механике.
Имена двоих не вошли в программу конгресса. Эйнштейна просили выступить, но он решил, что “недостаточно компетентен”. “Дело в том, – объяснил он Лоренцу, – что я не столь интенсивно участвовал в развитии современной квантовой теории, чтобы делать доклад. Отчасти это связано с тем, что я вообще не столь восприимчив и не могу в достаточной мере... следить за столь бурными событиями, отчасти с тем, что я не одобряю чисто статистический способ рассуждений, на котором строится новая теория”11. Это было непростое решение, поскольку Эйнштейн хотел бы “рассказать в Брюсселе нечто стоящее”, но признался, что “...потерял надежду на это”12.
На самом деле Эйнштейн внимательно следил за “бурными событиями” в новой физике и неявно поощрял и поддерживал де Бройля и Шредингера. Однако с самого начала у него были сомнения в том, что квантовая механика дает непротиворечивое и полное описание действительности. Имя Бора тоже не вошло в программу. Он не принимал непосредственного участия в развитии теоретической квантовой механики, но разговорами с такими участниками этого процесса, как Гейзенберг, Паули и Дирак, оказывал на него влияние.
Все приглашенные на V Сольвеевский конгресс “Электроны и фотоны” знали, что он устраивается для обсуждения самого злободневного (скорее философского, чем физического) вопроса: в чем смысл квантовой механики? Что новая физика может сказать о природе реальности? Бор верил, что нашел ответ. Многие в Брюсселе воспринимали его как “короля” квантов, но Эйнштейн был “римским папой” физиков. Бору не терпелось “узнать его реакцию на последние результаты, которые, с нашей точки зрения, значительно приближают к решению проблемы, столь предусмотрительно с самого начала поставленной им самим”13. Бора крайне волновало, что думает Эйнштейн.
В десять часов хмурым утром понедельника 24 октября 1927 года большинство ведущих мировых специалистов по квантовой физике собралось в Институте физиологии в брюссельском парке Леопольда. На организацию конгресса ушло восемнадцать месяцев. Потребовалось согласие короля и исключение Германии из числа “неприкасаемых”.
Приветственные слова произнес Лоренц, президент оргкомитета и председатель конгресса. Право сделать первый доклад получил Уильям Л. Брэгг, тридцатисемилетний профессор университета в Манчестере. В 1915 году, когда ему было всего двадцать пять, он вместе с отцом Уильямом Г. Брэггом был награжден Нобелевской премией за исследования кристаллов с помощью рентгеновских лучей. Никто лучше него не мог рассказать о последних результатах изучения отражения рентгеновских лучей от кристаллов и возможности их использования для уточнения атомных структур. После доклада Брэгга Лоренц предложил собравшимся задавать вопросы и выступать с места. Программа была построена так, что после каждого доклада оставалось время для обстоятельной дискуссии. У Лоренца была целая команда помощников, говоривших по-английски, по-немецки и по-французски, так что участие в разговоре могли принять даже те, кто недостаточно хорошо знал эти языки. До конца первого заседания, до того, как все отправились на завтрак, в обсуждении доклада Брэгга приняли участие Гейзенберг, Дирак, Борн, де Бройль и даже сам голландский старец.
На заседании во второй половине дня американец Артур X. Комптон рассказывал о том, что с помощью электромагнитной теории излучения не удается объяснить ни фотоэлектрический эффект, ни увеличение длины волны рентгеновских лучей при рассеянии на электронах. Всего несколькими неделями ранее он разделил Нобелевскую премию за 1927 год с Вильсоном, но врожденная скромность не позволила ему назвать, как это делали во всем мире, второе явление эффектом Комптона. Там, где потерпела поражение великая теория Джеймса К. Максвелла, кванты света Эйнштейна, недавно получившие название “фотоны”, успешно связали эксперимент и теорию. Доклады Брэгга и Комптона должны были послужить завязкой дискуссии о теоретических концепциях. К концу первого дня уже высказались все ведущие игроки, кроме Эйнштейна.
Утром во вторник состоялся прием в Брюссельском свободном университете. Во второй половине дня все собрались снова, чтобы послушать доклад Луи де Бройля “Новая динамика квантов”. Де Бройль выступал по-французски. Сначала он коротко остановился на своих результатах, распространении корпускулярно-волнового дуализма на материю, затем рассказал, как искусно на основании его теории Шредингер построил волновую механику. Потом герцог осторожно (признав, что идеи Борна во многом верны) предложил свою альтернативу вероятностной интерпретации волновой функции Шредингера.
Позднее де Бройль назвал ее “теорией волны-пилота”. Он считал, что электрон реально существует и как частица, и как волна. В этом было отличие его интерпретации от копенгагенской, утверждавшей, что в зависимости от типа эксперимента электрон ведет себя либо как частица, либо как волна. Волны и частицы существуют одновременно, возражал де Бройль. Частицы сродни серфингисту, поймавшему волну. Хотя волны, направляющие (“пилотирующие”) частицу из одного места в другое, физически более реальны, чем абстрактные волны вероятности Борна, атака на теорию де Бройля началась немедленно. Бор и его сотрудники намеревались отстаивать примат копенгагенской интерпретации, а Шредингер был настроен упорно защищать свои взгляды на волновую механику. Де Бройль рассчитывал на поддержку человека, который мог бы склонить на его сторону тех, кто не примыкал ни к одной из партий. Но, к его разочарованию, Эйнштейн промолчал.
В среду, 26 октября, к аудитории по очереди обратились сторонники двух конкурирующих версий квантовой механики. На утреннем заседании состоялся совместный доклад Гейзенберга и Борна. Авторы разделили его на четыре пространных раздела: математический формализм, физическая интерпретация, принцип неопределенности и применение квантовой механики.
Сам доклад, как и подготовка к нему, был исполнен дуэтом. Борн, как старший, сделал введение и изложил части I и II, а затем передал слово Гейзенбергу. Доклад начался так: “Квантовая механика основывается на интуитивном предположении, что существенное различие между атомной и классической физикой состоит в появлении нарушений непрерывности”14. А затем они, образно говоря, сняли шляпы перед коллегами, сидевшими практически на расстоянии вытянутой руки от них, отметив, что квантовая механика является “непосредственным продолжением квантовой теории, построенной Планком, Эйнштейном и Бором”15.
После изложения матричной механики, теории преобразований Дирака – Йордана и вероятностной интерпретации докладчики перешли к принципу неопределенности и “истинному смыслу постоянной Планка h”16. Они заявили, что постоянная Планка – это не что иное, как “универсальная мера неопределенности, входящая в законы природы посредством дуализма волн и частиц”. В сущности, если бы не было корпускулярно-волнового дуализма материи и излучения, не было бы ни постоянной Планка, ни квантовой механики. В заключение Борн и Гейзенберг сделали провокационное заявление, указав, что считают “квантовую механику законченной теорией, а фундаментальные физические и математические предположения, на которых она строится, не допускающими каких-либо изменений”17.
Сказанное подразумевало, что развитие теории не сможет привести к пересмотру ее основ. Для Эйнштейна это было слишком. Он не мог согласиться с утверждением о полноте и завершенности квантовой механики. Он считал ее выдающимся достижением, но никак не непреложной истиной. Эйнштейн не попался на эту удочку и не принял участие в обсуждении доклада. От остальных возражений не последовало: выступили только Борн, Дирак, Лоренц и Бор.
Почувствовав, что Эйнштейн не доверяет заявлениям Борна и Гейзенберга о завершенности теоретической квантовой механики, Пауль Эренфест передал ему записку: “Не смейтесь! В чистилище отведут круг для профессоров, читающих лекции по квантовой теории, где они будут вынуждены каждый день по десять часов слушать лекции по классической физике”18. “Меня смешит только их наивность, – ответил Эйнштейн. – Посмотрим, кто будет смеяться через несколько лет”.
После завтрака в центре внимания оказался Шредингер, который по-английски сделал доклад о волновой механике. “В настоящее время, – заявил он, – под этим именем существуют две теории, которые, несомненно, близки, но не идентичны”19. На самом деле это одна теория, де-факто разделенная на две. Первая ее часть относилась к волнам в обычном трехмерном пространстве, с которым мы сталкиваемся каждый день. А для объяснения второй необходимо рассматривать очень абстрактное многомерное пространство. Дело в том, пояснил Шредингер, что в случае любого атомного объекта, кроме движущегося электрона, надо рассматривать волну, распространяющуюся в пространстве, число измерений которого превышает три. Если для описания одного электрона атома водорода достаточно трехмерного пространства, то гелию с двумя электронами требуется шесть измерений. Тем не менее, утверждал Шредингер, такое многомерное пространство, известное как конфигурационное пространство, используется только как математический инструмент. Ведь, в конечном счете, что бы мы ни описывали – столкновение большого числа электронов или их вращение вокруг ядра атома, – весь процесс происходит в пространстве и во времени. “Однако, говоря откровенно, полная унификация этих двух концепций еще не достигнута”, – заметил Шредингер перед тем, как начать излагать оба подхода20.
Хотя физики считали, что обращаться с волновой механикой легче, никто из ведущих теоретиков не был согласен с интерпретацией волновой функции частицы Шредингера, который считал, что волновая функция описывает похожее на облако распределение ее заряда и массы. Шредингера не останавливала широкая поддержка альтернативной вероятностной интерпретации Борна. На первый план он выдвигал свою интерпретацию и ставил под сомнение идею квантовых скачков.
Получив приглашение выступить в Брюсселе, Шредингер сразу понял, что весьма вероятна схватка с “матричниками”. Обсуждение его доклада началось с выступления Бора, который хотел выяснить, означает ли слово “трудности”, прозвучавшее в докладе, что сформулированный до того результат неправилен. С вопросом Бора Шредингер разделался легко. Но тут же понял, что теперь Борн ставит под сомнение справедливость еще одного расчета. Слегка раздраженный, он ответил, что расчет “абсолютно правилен и точен, а возражение г-на Борна голословно”21.
Выступили еще несколько человек. Пришла очередь Гейзенберга: “В конце своего сообщения г-н Шредингер сказал, что его исследование возвращает надежду на возможность объяснить и понять все результаты многомерной теории, используя трехмерное пространство. Это может произойти, когда наше понимание вопроса станет более глубоким. В расчетах г-на Шредингера я не вижу ничего, что могло бы оправдать такую надежду”22. Шредингер возразил, что его “надежды на трехмерное описание не совсем утопичны”23. Через несколько минут дискуссия закончилась. На этом закончилась и первая часть конгресса, где заслушивались приглашенные доклады.
Когда уже трудно было менять сроки, обнаружилось, что четверг, 27 октября, был выбран Академией наук Франции, чтобы отметить в Париже сотую годовщину со дня смерти физика Огюстена Жана Френеля. Было решено, что Сольвеевский конгресс прервет работу на полтора дня, чтобы желающие могли принять участие в торжественном мероприятии. Затем они должны были вернуться в Брюссель, где на двух последних заседаниях конгресса планировалось провести общую дискуссию. Среди двадцати участников конгресса, поехавших в Париж отдать дань знаменитому коллеге, были Лоренц, Эйнштейн, Бор, Борн, Паули, Гейзенберг и де Бройль.
В зале стоял шум. По-немецки, по-французски и по-английски у Лоренца просили слова. Неожиданно поднялся Пауль Эренфест. Он подошел к доске и написал: “...там смешал Господь язык всей земли”. Его возвращение на место сопровождалось смехом: все поняли, что имелась в виду не только Вавилонская башня. Заседание, на котором началась общая дискуссия, открылось 28 октября. Лоренц сделал несколько вступительных замечаний, стараясь настроить участников на обсуждение вопросов, связанных с причинностью, детерминизмом и вероятностью. Подчиняются ли квантовые явления принципу причинности? Или так: можно ли отказаться от детерминизма, объявив его только догмой? Необходимо ли возвести индетерминизм в принцип?24 Остановившись на этом, Лоренц пригласил Бора обратиться к собравшимся. Тот начал говорить об “эпистемологических проблемах, встающих перед нами в квантовой физике”, и всем присутствующим стало ясно, что его цель – убедить Эйнштейна в справедливости копенгагенской интерпретации25.
В декабре 1928 года, когда материалы конгресса были напечатаны по-французски, многие по ошибке приняли выступление Бора за приглашенный доклад. Такое же мнение существовало и позднее. Дело в том, что когда Бора попросили отредактировать для печати свое выступление, он захотел, чтобы вместо его коротких замечаний в Брюсселе был напечатан гораздо более пространный доклад, сделанный в Комо и опубликованный за год до того, в апреле. Бор был Бором, и его просьбу выполнили26.
Эйнштейн слушал, как Бор пытается обрисовать в общих чертах свои представления о корпускулярно-волновом дуализме – неотъемлемом свойстве природы, истолковать которое можно только в рамках принципа дополнительности. Он подводит фундамент под принцип неопределенности, определяющий пределы применимости классических представлений. Однако, объяснял Бор, для однозначного восприятия результатов экспериментов, с помощью которых мы исследуем квантовый мир, необходимо, чтобы экспериментальная установка и сам наблюдатель описывались с помощью понятий, “определенных достаточно строго только на языке классической физики”27.
В феврале 1927 года, когда Бор медленно двигался к принципу дополнительности, Эйнштейн прочитал в Берлине лекцию о природе света. Он заявил, что вместо двух теорий света, квантовой и волновой, необходим “синтез этих двух концепций”28. Такую точку зрения он впервые высказал почти двадцать лет назад. Он так давно надеялся услышать о чем-то вроде “синтеза”, а теперь Бор навязывал ему разделение этих понятий с помощью дополнительности. Будут это волны или частицы, зависит оттого, какой эксперимент мы выбираем.
Выполняя тот или иной эксперимент, ученые всегда полагали, что они пассивные наблюдатели, что они могут изучать природу, не подвергая возмущению объект исследований. Очень четко разделялись объект и субъект, наблюдатель и объект наблюдения. Согласно копенгагенской интерпретации, в атомном царстве это правило нарушается. Именно это Бор отождествлял с тем, что он назвал “сущностью” новой физики – “квантовым постулатом”29. Он ввел этот термин, чтобы зафиксировать связанное с неделимостью квантов существование в природе нарушений непрерывности. Квантовый постулат, говорил Бор, не позволяет при исследовании атомного объекта явно отделить наблюдателя от наблюдаемого явления. Согласно Бору, взаимодействие между тем, что измеряется, и измерительным устройством означает, что “как исследуемому явлению, так и средству наблюдения невозможно приписать самостоятельную понимаемую в обычном смысле физическую реальность”30.
Реальность, о которой говорил Бор, не существует в отсутствие наблюдателя. Согласно копенгагенской интерпретации, любой микрофизический объект не обладает имманентно присущими ему свойствами. Электрон не существует где-либо, пока не выполнено наблюдение или измерение, позволяющее локализовать его. Между измерениями бессмысленно спрашивать, какова координата или скорость электрона. Поскольку квантовая механика не говорит ничего о физической реальности, существующей независимо от измерительных приборов, электрон становится “реальным” только при акте измерения. Ненаблюдаемый же электрон не существует.
“Неверно думать, будто задача физики – выявить, что представляет собой природа, – утверждал позднее Бор. – К физике относится только то, что мы можем сказать о природе”31. И ничего больше. Он верил, что у науки может быть всего две цели: “расширить наши эмпирическое знание о мире и упорядочить его”32. “Единственная задача того, что мы называем наукой, – определить то, что есть”, – сказал однажды Эйнштейн33. Физика для него – попытка понять независимую от наблюдателя реальность. Именно это подразумевается, утверждал он, “когда говорят о ‘физической реальности’”34. Бора, вооруженного копенгагенской интерпретацией, интересовало не то, что “есть”, а то, что мы можем сказать друг другу о мире. Как утверждал позднее Гейзенберг, в отличие от объектов в окружающем нас мире, “атомы или элементарные частицы сами по себе не совсем реальны; они скорее образуют мир потенциальных возможностей и вероятностей, а не вещей и фактов”35.
Для Бора и Гейзенберга переход от возможного к реальному происходил во время акта наблюдения. Нет независимой от наблюдателя реальности, лежащей в основании квантового мира. Для Эйнштейна главным в науке была вера в существование именно такой, независимой от наблюдателя, реальности. В споре, вскоре начавшемся между Эйнштейном и Бором, на карту была поставлена суть физики и природа реальности.
После Бора выступили еще трое. Затем Эйнштейн дал знать Лоренцу, что хочет нарушить обет молчания. “Хотя я сознаю, что недостаточно глубоко проник в суть квантовой механики, – сказал он, – я, тем не менее, хочу сделать несколько общих замечаний”36. По утверждению Бора, квантовая механика “исчерпывает все возможности, позволяющие описывать наблюдаемые явления”37. Эйнштейн с этим не согласился. Разделительная черта была проведена по микрофизическим пескам квантового мира. Эйнштейн знал, что на нем лежит бремя доказательства противоречивости копенгагенской интерпретации, именно он должен опровергнуть Бора и его последователей, утверждающих, что квантовая механика – замкнутая и полная теория. Он прибег к своей излюбленной тактике: поставил в лаборатории своего разума мысленный эксперимент.

Рис. 13. Мысленный эксперимент Эйнштейна с одной щелью.
Эйнштейн нарисовал линию – непрозрачный экран с небольшой щелью, а за экраном – полукруг, обозначавший фотопластинку. Когда пучок электронов или фотонов падает на экран, часть их пройдет через щель и ударится о фотографическую пластинку. Из-за узости щели проходящие сквозь нее электроны дифрагируют, как волны, во всех возможных направлениях. В согласии с требованиями квантовой теории, объяснил Эйнштейн, прошедшие через щель электроны движутся к пластине как сферические волны. Тем не менее, ударяясь о пластину, электроны ведут себя как отдельные частицы. Таким образом, указал Эйнштейн, мы имеем дело с двумя разными точками зрения на этот эксперимент.

Рис. 14. Интерпретация Бора мысленного эксперимента Эйнштейна с одной щелью.
Согласно копенгагенской интерпретации, до проведения наблюдения (а удар о пластинку можно считать за таковое) имеется отличная от нуля вероятность обнаружить отдельный электрон в любой точке пластины. Хотя волна, представляющая собой электрон, распределена в большой области пространства, в каждый момент времени, если данный электрон обнаружен в точке А, вероятность обнаружить его в точке В мгновенно обращается в нуль. Согласно копенгагенской интерпретации, квантовая механика дает полное описание события, происходящего с отдельным электроном в данном эксперименте, а значит, поведение каждого электрона описывается волновой функцией.
Это и есть камень преткновения, заявил Эйнштейн. До наблюдения вероятность обнаружить электрон была “размазана” по всей фотопластинке. Следовательно, вероятность обнаружить его в точке В или в какой-то другой точке мгновенно меняется в тот момент, как электрон ударяется о пластину в точке А. Такая мгновенная “редукция (коллапс) волновой функции” подразумевает что-то вроде распространения причинноследственной связи со скоростью, превышающей скорость света. Пусть какое-то событие в точке А является причиной события в точке В. Эти события должны быть разделены временным интервалом, чтобы позволить сигналу, двигающемуся со скоростью света, дойти от точки А до точки В. Эйнштейн был уверен, что нарушение этого требования, позднее названного требованием локальности, указывает на противоречивость копенгагенской интерпретации, и, значит, квантовая механика не является законченной теорией индивидуальных процессов. Эйнштейн предложил альтернативное объяснение.








