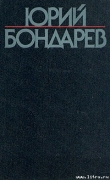Текст книги "Дорога издалека (книга вторая)"
Автор книги: Мамедназар Хидыров
Жанры:
Роман
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 16 страниц)
– Столько времени от тебя ни единой весточки, – с мягким укором, не глядя на мужа, проговорила Донди, когда Бибигюль-эдже отлучилась к очагу. – Душа изболелась, думы тревожные одолели вконец…
– Да, верно, Донди, – Нобат внимательно, с затаенной нежностью посмотрел на жену. – Знаю, что виноват, прости меня! Только один раз и собрался написать. И то лишь потому, что ранили… Думал о тебе каждую минуту, но… боевая жизнь мало времени оставляет человеку для себя. Ответственность на плечах, отдыха не знаем, смерть над головами…
– Вах-х… – вырвалось у Донди, и она горестно вздохнула.
Мать за завтраком не уставала задавать новые и новые вопросы. Больше всего – о здоровье Нобата, о том, как лечили его после ранения. Он рассказал про госпиталь, про нянечку, про хирурга Егорычева. Про Машу – не решился, потому что Донди тоже внимательно слушала, хотя и молча. Только поведала, как с братишкой исходила весь аул в поисках хотя бы одного грамотея, чтобы письмо Нобата прочесть.
Проговорили час, другой. Нобат рассказал немного и о своем эскадроне, о боевых товарищах. Кое-кого из них мать и Донди хорошо помнили.
– Что же, сынок, – улучив момент, Бибигюль-эдже все-таки осмелилась задать мучивший ее вопрос. – Надолго ли ты домой? Неужто опять уедешь – и ни слуху, ни духу?
– Угадала, мама, – Нобат старался говорить спокойно. – Приехал ненадолго и уеду снова. Только теперь служить буду неподалеку – в Керки. Уже не на военной службе. Но все равно, враги нам пока передышки не дают. А вы здесь не горюйте, я буду наведываться.
Конь во дворе хрупал свежим, только что с поля, клевером, временами коротко ржал, копытом рыл землю. Нобат уже не один раз выходил проведать своего Вороного, с которым успел сдружиться за десяток дней службы в окрчека. Вот Вороной опять заржал. Нобат поднялся, вышел во двор.
– Дома ли хозяева? – раздался от калитки знакомый мужской голос. Вслед за тем калитка приотворилась, во двор шагнул человек – невысокий, сутуловатый, одет скромно, однако опрятно. Бекмурад Сары! Вот кто первый пожаловал в гости, после того, как весь Бешир из конца в конец облетела весть: Нобат Гельды приехал!
– Входи, дорогой Бекмурад! Салам алейкум!
– Салам! – гость протянул обе руки для приветствия. – Да будет благополучным твой приезд… Ох, брат, до чего же тебя тут не хватало. Да и отряду твоему нашлась бы работа…
– Знаю, друг, уже знаю кое-что про ваши дела, – Нобат повел гостя в дом. – Ты, говорят, молодцом действовал. Ну, рассказывай теперь все.
Бекмурад поздоровался с женщинами, и прошел к сачаку. Секретарю партийной ячейки было о чем рассказать, а Нобату, начинающему чекисту, – послушать. Вскоре подошли и другие односельчане; далеко за полночь затянулась душевная беседа давних друзей, единомышленников, товарищей по общей борьбе.
Высоко взберешься – падать больней
В смутные годы Салыр вел себя осмотрительно. Рассчитывал каждый свой шаг, единого слова на ветер не бросал. Как говорится, береженого и бог бережет… Действовал только наверняка, бил без промаха. Оттого и славу стяжал далеко за пределами родных мест. Люди считали его ловким, бесстрашным, удачливым и рассудительным. Ловкости, изворотливости в самом деле было Салыру не занимать. Как мы знаем, еще во времена эмира сумел он раздобыть в Бухаре бумагу на право взимать «пошлину» с торговых караванов, якобы ради их же безопасности, на путях между Лебабом и Карши. Позже, когда старая власть зашаталась и рухнула, а новая еще не окрепла, Салыр требовал с караванщиков «пошлину» уже только по праву сильного. Но вот стала Бухара народной республикой, новая власть начала править, по новым законам. Однако и тут Салыр не растерялся. Его земляк-одноаулец, молодой мулла, который и в прежнее время помог найти доступ в канцелярию самого кушбеги, оказался сторонником новой власти, видным служащим одного из народных назиратов – так теперь стали называть министерства. И этот человек снова помог Салыру получить в Карши, в окружном ревкоме, мандат на право взимать пошлину с караванов «для поддержания порядка на торговых путях, впредь до распространения компетенции народной милиции на территорию глубинных Кизылкумов между Карши и Беширом».
Не один год Салыр придерживался однажды выработанной тактики: обирал – под видом «пошлины» – исключительно караванщиков со стороны. Земляков своих, оседлых туркменских дайхан, а также чабанов в степи и в песках не только не трогал, но и оберегал, защищал, когда, случалось, нападали шайки калтаманов откуда-нибудь издалека. Оттого и поддерживали его местные жители, снабжали продовольствием, в трудную минуту предупреждали об опасности. За отвагу называли Салыра «волком пустыни», но нередко именовали почтительно: «лев Кизылкумов». Джигиты, которым вольготно жилось на стане у колодцев Кыран и от «пошлин» перепадала порядочная доля, неустанно расхваливали своего предводителя.
Но слаб человек. Кружит голову, ослепляет притупляет разум слава. Кого постоянно восхваляют, тот становится самонадеянным, перестает обдумывать и взвешивать каждый свой шаг.
А еще – кто неизменно удачлив, у того растет число недругов. Лютыми врагами Салыра сделались Абдурахман-караулбеги, позже и Мамедша-мирахур, былой союзник. Славе и удачам «льва Кизылкумов» остро завидовали Азиз-Махсум на левом берегу Аму, еще Клыч-Мерген, удалившийся на афганскую землю. В сложной обстановке, когда не только свободы, но и головы, того гляди, лишишься, Салыр совершил опрометчивый шаг – чтобы сорвать замыслы общих врагов, Абдурахмана и Мамедши, позволил временному союзнику Клыч-Мергену разграбить аулы по Лебабу. Не сразу дайхане дознались, что Салыр, многолетний заступник, предал их. Но уж как дознались – затаили против него неприязнь…
Салыр привык в любом деле выслушивать мнение своего наперсника Одели-пальвана. Тот плохих советов не давал. И вот теперь, когда Салыр, что называется, возомнил о себе, он уже не склонен был следовать советам даже самого близкого и надежного из своих сподвижников.
Когда поутихло на правобережье после того, как не удались походы Мамедши с Абдурахманом в глубь Кизылкумов, когда ушел на левый берег и больше не возвращался Клыч-Мерген, а его соперник Азиз-Махсум не отваживался переправляться через Джейхун, – в эту вторую зиму после свержения эмира и бесславного бегства его полчищ за рубеж дайхане вздохнули, наконец, свободно.
Зима выдалась студеной, с пронизывающими ветрами. По ночам вдоль берега Аму намерзал припай – хрупкий желтоватый ледок. Урожай, какой сумели вырастить в трудное, грозовое лето, уже собрали, свезли и уложили в амбары, для скотины заготовили кормов до самой весны. А потом принялись играть свадьбы – за долгие дни лихолетья много в дайханских семьях накопилось невест на выданье, одних джигиты сами приглядели для себя, других советовали дотошные свахи, а то и просто родители. Задымили в аулах очаги под казанами, жалобно заблеяли овцы и козы, которых десятками каждый день вели под нож. Допоздна тусклый свет пробивался сквозь щели на неплотно занавешенных дверях и окнах юрт и мазанок – это женщины при свете лучин или редких керосиновых коптилок шили невестам свадебные наряды. По дорогам, от аула к аулу, день и ночь сновали кучками всадники на конях и ослах, передвигались пешие. Это приглашенные на многочисленные свадьбы спешили к назначенному сроку, чтобы не обидеть хозяев торжества. Иных останавливали в глухих местах калтаманы. Однако, узнав, куда и по какому делу торопятся путники, чаще всего отпускали с миром или же отбирали малую толику от тех даров, какие задержанный вез на свадьбу.
В иной день не один, а сразу два или три свадебных тоя устраивалось в ауле. Самые именитые и желанные гости – прославленные борцы-пальваны или искусные бахши – в такие дни прямо с ног валились от усталости. Ведь их-то каждому лестно было видеть у себя на торжестве.
Калтаманы, особенно беспощадные к тем, кто приходил на Лебаб издалека, не случайно в эти дни проявляли снисхождение к людям, которые шли или ехали на свадьбу. Сами-то калтаманы, скрывающиеся на дальних колодцах в глубине песков, были в большинстве из местных жителей. У иных семьи оставались в аулах. А уж родичей почти у каждого можно было десятками насчитать среди мирных дайхан. Случалось, устроители тоя засылали гонцов на разбойничьи станы с приглашением пожаловать на празднество.
Такие приглашения стал получать и Салыр.
Поначалу он советовался с приближенными – ехать или нет. Одели-пальван неизменно отговаривал. Опасность велика, враги не дремлют, могут устроить западню… Не раз Салыр, сле-дуя таким советам, отсылал гонца обратно с вежливым отказом. Но после того, как сумел провести главных недругов, Абдурахмана и Мамедшу, самонадеянным и опрометчивым сделался Салыр. И еще одно пошло ему не на пользу. Как мы знаем, не ласковая судьба привела к нему на стан Тувак-сердара, тоже удальца не из последних, но далеко не столь удачливого, как Салыр: всех своих сподвижников растерял этот главарь. Звезда его, однако, в те дни стояла еще высоко. Салыр принял его с почетом, приблизил к себе, сделал одним из первых советников. И стал Тувак соперником осмотрительного Одели-пальвана, начал подбивать Салыра: нечего, мол, осторожничать. На правобережье, в Кизылкумах, ты один полновластный хозяин. Пусть друзья и враги знают: нет у нас страха ни перед кем…
Никто не мог подумать, что со злым умыслом внушал такие мысли Тувак-сердар предводителю, которому он же и предложил свою верную службу пусть даже в роли рядового джигита. Тем более, что и сам не прятался в кусты, не отсиживался в тени, всегда сопровождал Салыра, какая бы опасность не грозила впереди.
А Салыру, возомнившему о себе, что он в зените славы, подобные речи нового сподвижника были слаще меда. От них еще сильнее кружилась голова.
Раза два по приглашению съездил на той Салыр, с ним Тувак-сердар и десяток джигитов в качестве эскорта. Одели-пальван оставался на стане. Ему не хотелось испытывать судьбу. Знал он также, что не устоит против соблазна – выйти на круг, вспомнив свою былую славу борца. Ну, а на победу рассчитывать трудно: слишком много месяцев провел в песках, то и дело в седле, не упражнялся в мастерстве… Так он и оставался за старшего, пока Салыр и Тувак тешили сердца на многолюдном веселом тое.
Однажды в конце зимы со стороны Бешкента в сторону Аму глухими караванными тропами пробирались два всадника. Впереди Сеидкул, важный, влиятельный бай из узбекского кишлака Ковчун, что к востоку от Бешкента, следом – байский слуга. Сеидкул еще в эмирские времена водил дружбу с Салыром, не раз укрывал степного разбойника с его джигитами у себя во дворе. При новой власти Сеидкул, часть имущества раздав на время родственникам, сумел сохранить и почет, и вес среди односельчан. Но и спесивым, своенравным был этот бай. Прослышав, что Салыр, чье имя внушает людям трепет, запросто приезжает на той даже к незнатным, решил, что «лев Кизылкумов» должен почтить своим присутствием и его гостеприимный дом. Как раз наступающей весною Сеидкул-бай вознамерился женить старшего сына. К свадьбе готовились загодя, приглашения разослали в ближние и дальние места. К Салыру же бай решил отправиться лично.
Дорога на Кыран была Сеидкулу хорошо известна. Уже в сумерки, препровожденный к самому главарю и принятый Салыром со всем радушием, он отдыхал за чаем и шурпой. Беседовали о том о сем, хозяин, как принято, не проявлял любопытства, не выведывал, зачем явился нежданный гость. Только наутро, когда снова сошлись в белой юрте за трапезой, Сеидкул-бай изложил цель своего визита. Дескать, милости просим вас и ближайших сотоварищей три недели спустя к нам на свадебный той, не оскорбите отказом…
Салыр даже на минуту не задумался – тотчас с готовностью дал согласие. Одели-пальван, сидевший по правую руку от предводителя, нахмурился, но промолчал. А Тувак-сердар, проворно поднявшись, проговорил своим тонким, скрипучим голосом:
– Приедем обязательно! Не сомневайтесь, уважаемый гость. Для Салыр-мергена все пути открыты.
С тем Сеидкул-бай и уехал, сам Салыр с почетом проводил его к барханам, что окружали впадину у колодцев Кыран.
– К узбекам поедете, – три недели спустя, когда начались сборы в путь, хмуро, с затаенною тревогой, повел речь Одели-пальван. – Как бы не случилось беды… Человек тридцать, я думаю, нужно вам с собой взять, да чтобы у каждого винтовка исправная и патронов побольше. В тех краях наши давно не бывали. Мне-то ведомы там все дороги. В тринадцати верстах – Камачи, а там Мамедша-мирахур…
– Э, брось! – беспечно отмахнулся Салыр. – Не на битву едем. Как говорят, не позвали – не суйся, зовут – не отказывайся… Сеидкул-бай, уж на что спесивый, сам пожаловал на той приглашать. Лутчеки у него до сих пор на службе, хоть и тайно. Защитить сумеет гостей в случае чего. А не поедем – обидится, дружба врозь… А дружбу с такими, как Сеидкул, терять не годится, сам понимаешь.
Одели промолчал. А тем временем Тувак-сердар отдавал распоряжения от имени самого вожака: двух верблюдов навьючить подарками, а в сопровождение – всего лишь троих джигитов, чтобы люди видели: не знает страха перед врагами «лев Кизылкумов».
Дорогих гостей встретили за много верст до Ковчуна. Десяток всадников, наряженных в праздничные халаты, лисьи малахаи, на конях, с лентами в гривах, гарцевали на дороге и почтительно расступились перед Салыром и его людьми, пристроившись позади их небольшого каравана. Вот и кишлак. Свадебный той в разгаре. Сам хозяин, Сеидкул-бай, в воротах своего просторного двора. Коней Салыра и Тувака берут под уздцы молчаливые джигиты, помогают всадникам спешиться. В наступившей тишине звучат взаимные приветствия, расспросы о здоровье. Салыр и Сеидкул заключают друг друга в объятия. Гостей ведут к дому в дальнем конце двора. Высокий дом, просторный: прихожая, гостиная, в глубине еще несколько комнат. А на крыше навалены сухие ветви саксаула и черкеза. В гостиной по всему полу кошмы, расшитые цветами, алыми и голубыми, бархатные подушки там и тут. Салыр с Туваком, за ними Сеидкул-бай, двое его родственников, разулись у порога, расселись на паласах. Мигом возле каждого появились бордовые чайники с горячим чаем. Не успели гости наполнить пиалы, как появились касы с шир-чаем – чаем на молоке, с бараньим жиром, перцем и солью, потом пельмени под сметаной и сливками, дальше катлаклы-нан – лепешки из тонких промасленных слоев теста, горячие и ароматные, только из тамдыра… Потекла неторопливая беседа. Когда были опорожнены пузатые чайника, двое слуг внесли громадное блюдо с пловом.
– Берекелла! Во имя господа! – возгласил Сеидкул-бай. – Поверь, дорогой Салыр-сердар, мы искренне рады видеть тебя здесь, у себя, в день торжества!
– Мы тоже рады душевно, – с учтивостью ответил Салыр, – воздать честь твоему дому. Пусть в нем один той следует за другим. И всякий раз мы будем готовы вас навестить.
– Да будет так! – хозяин молитвенно возвел глаза к небу, поднял руки. – Аллах да услышит слова твои!
После этого он первым взял чурек, разломил, обратился к сидящим:
– Угощайтесь! А сперва вознесем молитву всевышнему.
Оба гостя и хозяин, глядя в пол, забормотали: «Бисмиллахи р-рахмани р-рахим… Во имя аллаха милостивого, милосердного…» Затем все потянулись к ломтям чурека и блюду с пловом. Воцарилась тишина, только слышалось приглушенное чавканье.
Хозяин и Салыр за время угощения перебросились несколькими фразами, а Тувак почти ни слова не проронил, как приехал. То ли утомился за дорогу, то ли чувствовал недомогание. Сидел молча, опустив голову.
– Хей, Тувак-сердар! – окликнул его один из родственников хозяина, вытирая сальные пальцы о сачак. – Видать, не по сердцу тебе угощение! На тое нельзя не отведать плову. Съешь, сколько можешь. На меня не гляди, я-то уже сыт по горло. А если на душе кручина, забудь! Сейчас бахши пригласим, взвеселим сердца.
Тут все поглядели на Тувака, и вновь воцарилась тишина.
– Верно, – помедлив, пряча глаза от сотрапезников, отозвался он. – Той – дело доброе, святое. Гуляй, сколько душа желает, только бы творец от смерти уберег…
Неуместным прозвучало слово «смерть» в празднично убранной комнате, за обильным угощением. Как сказал Махтум-кули: «Смеяться неприлично, придя на поминанье». Точно так же на празднестве: о смерти заводить речь совсем не подобает. То, что не к месту произнес Тувак, запало, однако, в душу каждого из сидящих за сачаком. Люди примолкли, насупились. Все – кроме одного Салыра.
– Ох, дорогой Сеидкул, – довольно проговорил он, откидываясь на подушки, – угостил так, что лучше некуда! Если ты не против, давай послушаем бахши на вольном воздухе.
Хозяин согласился, все один за другим вышли из комнаты. Во дворе и на прилежащих улицах пиршество было в полном разгаре. Дымились казаны, далеко разносился говор и смех многих десятков людей, которые кучками сидели прямо на земле, на кошмах, вокруг котлов с похлебкой, подносов с пловом. Кое-где уж звенели дутары, заливались на высоких нотах дудки – туйдуки, гнусаво пели скрипки – кеманчи, ухали бубны. В двух концах двора пели бахши, явно состязаясь в силе голоса и затейливых руладах.
Стало смеркаться, в прозрачном мартовском воздухе повеяло прохладой, звезды высыпали на темно-фиолетовом небе. Ярче запылали костры. В юртах и мазанках зажглись светильники.
Сеидкул-бай вместе с Салыром и Туваком обошли двор, послушали обоих бахши, посидели у костра, где, окруженный слушателями, слепой дервиш нараспев читал дестаны, по горсти монет кинули ему в тыквенную чашку. Совсем стемнело, но на широком дворе было светло, точно днем. А скоро еще и полный месяц взошел, молочным светом залив высокие дувалы, крыши мазанок и юрт. Дул ветер, и холод пробирал до костей. Оба гостя и хозяин поспешили вернуться в дом, где посреди гостиной уже пылала железная печь и светила керосиновая лампа, укрепленная на колышке. Снова появились чайники, потом касы с шурпой из курицы. Сеидкул-бай и Салыр непринужденно беседовали. Тувак по-прежнему выглядел понурым, каким-то встревоженным. Но теперь он знал, что своим видом обращает на себя внимание собеседников, и потому старался казаться таким же, как обычно. Вставлял свои замечания в разговор Сеидкула с Салыром, отвечал на вопросы, порой даже шутил.
Не догадывался Салыр – ведь чужая душа потемки, – о чем думал, что переживал в эти минуты его сподвижник, которого он принял и приблизил к себе так доверчиво и безоглядно. А началось это не сегодня – сразу же после того дня, как пришел Тувак-сердар к передовым постам салырова стана. Пришел он, не задумываясь, не заглядывая в будущее. Один остался, негде голову преклонить. В стычке с людьми вот этого же Салыра всех своих джигитов растерял. А здесь принимают, и даже с почетом… Удачлив, значит, Салыр-мерген, такой же, в сущности, калтаман, как и сам Тувак. И даже почет оказывает, великодушного разыгрывает.
Искра ненависти вспыхнула в озлобленной душе Тувака, щуплого телом, невзрачного лицом, – вспыхнула и погасла. От искры затлел, задымился, пламенем занялся темный, путаный клубок зависти, жадности, обиды, неутоленного властолюбия. Салыру все удается, что ни задумает. А он, Тувак… Разве не мог бы стать вот таким же «волком пустыни», «львом Кизылкумов?» Мог бы. И станет непременно! Только…
Только для этого нужно поскорее убрать удачливого соперника.
Так постепенно распаляя воображение своими же собственными вымыслами, уверяя себя, что Салыр лицемерит, когда воздает ему почести, представляя себя – в недалеком будущем – единовластным хозяином на караванных путях правобережья Аму, Тувак в душе сделался лютым врагом своего покровителя. И твердо решил, страшной клятвою поклялся самому себе: собственной рукой убить Салыра, как только представится удобный случай. Чтоб никакого риска, и самому ноги унести. Или он не Тувак-сердар! Ну, а дальше… еще услышат люди это имя.
Часа два сидели гости и хозяин в теплой, светлой гостиной. Джигиты Салыра после обильного угощения устроились на ночлег в прихожей, один бодрствовал, как было заведено, то и дело с карабином выходил наружу.
– Душно что-то, – пожаловался Сеидкул-бай. – Выйду на воздух, извините, дорогие гости…
Салыр, с пиалой в руке, рассеянно кивнул. Усталость его сморила, сон смежил веки. Тувак не шевельнулся, будто и не слыхал. Сеидкул-бай тяжело поднялся и вышел. Сквозь наплывающую дрему Салыр успел подметить: что-то тихо сделалось во дворе. Должно быть, уже поздно, люди притомились, разбрелись. Он откинулся на подушки, слабеющей рукою пошарил под паласом возле стены. Карабин на месте, там, где положил еще засветло.
Вдруг – выстрел где-то за воротами.
В одно мгновение Салыр и Тувак, с карабинами в руках, вскочив на ноги, ринулись к двери. В прихожей темно, пусто. Оба джигита секундой раньше выбежали во двор.
Какой-то невнятный говор доносился снаружи. Кто-то негромко, но властно командовал: «Прочь! Всем со двора! И без шума!..»
В прихожей, – две двери, ведущие во двор. Одна, боковая, кажется, заперта. Тувак – к ней. Салыр стал у той двери, через которую они входили днем.
А где же все три джигита?
Точно в ответ на этот вопрос выстрелы застучали совсем близко, наверное, по ту сторону ворот. Это карабины – такие только у джигитов Салыра. Вот – крики отчаяния, стоны… Кого-то ранили, может, смертельно…
– Э-эй, Салыр! – совсем близко прозвучал незнакомый голос. – Тувак-сердар! Бросайте оружие и выходите во двор. Не тронем, слово даем… Вы окружены. Ваши джигиты все полегли. Мы люди Мамедши-мирахура. Именем ревкома Камачи приказываем: сдавайтесь!
Не успел он договорить, как Салыр вскинул карабин к плечу, пальнул прямо в дверь. Еще раз, еще…
В то же мгновенье Тувак метнулся обратно в гостиную. Отсюда занавешенная дверь ведет куда-то в глубь дома. Тувак толкнул ее – заперта. Еще – окно на веранду. К нему Тувак подбежать не успел. Снаружи, в ответ на выстрелы Салыра, открыли огонь сразу несколько человек. Две пули прошибли ставень на окне. Значит, на веранде тоже враги…
– Что, вслепую палите?! – с бесшабашной удалью в голосе прокричал Салыр. – А ну, выходи, ревком ишачий! Смерти своей в глаза погляди, если ты мужчина, а не баба!
Тувак молчал. Неужели конец? Люди мирахура, пусть даже сами пощадят, все равно предадут в руки властей. А что, если им выдать Салыра? Но живым его не возьмешь, а за мертвого..» Да ведь все равно не отпустят, разве что жизнь сохранят. Как улизнуть?
Он стоял, прижавшись к самому косяку той двери, которая, кажется, была заперта наглухо. Если и сквозь нее станут стрелять, пуля не заденет…
Салыр по-прежнему, не таясь, возвышался во весь рост против двери, уже изрешеченной пулями с обеих сторон. Казалось, он презирал смерть. Или на что-то надеялся?
Снаружи больше не стреляли, там, похоже, совещались – были слышны приглушенные голоса… Где же Сеидкул-бай? В сговоре он с нападающими или тоже угодил к ним в когти?
– Видишь, Тувак, – внезапно хриплым, каким-то опавшим голосом заговорил Салыр. – Прав был Одели. Если б тут были сейчас три десятка наших молодцов…
Он не договорил. В тишине сверху раздался легкий треск, потянуло гарью. «Подожгли хворост на крыше!» – тотчас молнией прорезало сознание каждого.
– Сдавайтесь же, эй, вы! – опять послышался прежний голос. – Изжарим, как цыплят!
«Все равно пропадать! – У Тувака кровь застучала в висках. – Но прежде ему пуля…» Не раздумывая, он поднял карабин. Салыр, видимо, решил идти напролом, погибнуть в рукопашной схватке.
– За мной, Тувак! – внезапно во всю силу легких прогремел Салыр. – Глотки будем рвать этим трусливым шакалам! Дешево они нас не возьмут!..
В донесшемся снаружи грохоте пальбы потонул одинокий выстрел Тувака. Салыр, устремившийся к порогу, словно споткнулся, ноги у него подломились. «В затылок, – успел он подумать. – Неужто обошли?..» Рухнул навзничь, кровь толчками заструилась из пробитого черепа…
– Готов! Сюда, ребята! Осторожно, с ним еще один! – на разные голоса закричали нападающие. Один, опередив остальных, склонился над поверженным Салыром, уже бездыханным. «Бежать!» – последним отчаянным усилием Тувак навалился на дверь, она заскрипела, подалась. Враги, видимо, взволнованные удачей, не заметили его. Сторонясь полупотухших костров – вокруг них кое-где еще сидели обескураженные гости свадебного тоя, охраняемые джигитами, Тувак-сердар кошкой метнулся к дувалу, высмотрел дерево, взобрался на него, оттуда на дувал и – очертя голову, вниз, в темноту… Больше о нем на Ле-бабе никто никогда не слыхал.
Пожар на крыше с трудом потушили. Труп Салыра унесли до утра в овечий хлев. Наутро никак не могли понять – откуда у него рана на затылке…
Много позже, когда Нобат Гельдыев с отрядом чекистов из округа приехал в кишлак Ковчун и провел следствие по этому делу, а заодно и обо всех проделках Мамедши-мирахура, которого перед этим сняли с должности и арестовали в Камачи, сделались известными детали того, что произошло на свадебном тое у Сеидкул-бая. Оказывается, о приезде Салыра и Тувака в сопровождении всего лишь трех джигитов Мамедшу-мирахура известил один из оказавшихся на тое жителей аула Мюрушгяр. Мамедша, собрав до тридцати бойцов самообороны, поспешил в Ковчун. Люди на тое, конечно, сразу же заметили прибытие крупного вооруженного отряда, сторонники Салыра хотели было дать знать его джигитам – но и тут нашлись такие, кто не мог простить Салыру его вероломства, они-то и помешали предупредить «льва Кизылкумов» об опасности. Сеидкул-бая схватили первым, заставили отдать приказ своим лутчекам: не вмешиваться! Так Салыр оказался в западне: один из его джигитов был убит в перестрелке, другой, раненый, попал в плен, третьему удалось бежать.
Утром следующего дня Мамедша-мирахур, окрыленный победой, ринулся с отрядом в пески, к стану Салыра. Но оказалось – здесь пусто, ни души. Тот джигит, что ускользнул во время схватки в Ковчуне, поначалу прятался в чьем-то хлеву. Услышав, что Салыр убит, раздобыл коня и галопом помчался на стан. Одели-пальван, выслушав донесение, сразу решил: все кончено. Собрал людей, объявил: разойтись, кто куда хочет, имущество, какое можно унести, разделить, остальное закопать либо бросить. Распихав по хурджунам что успели, понурые, разъезжались по одному, по двое джигиты некогда славной разбойничьей ватаги. Человек пятнадцать во главе с Ягмуром, младшим братом Одели, решили не расходиться, действовать заодно, не оставлять прежнего ремесла степных калтаманов. И опустел просторный двор у колодцев Кыран, обнесенный высоким дувалом.
Джигиты Мамедши-мирахура обшарили в нем все закоулки, палками, шашками, ножами истыкали землю. Кое-где отыскали зарытое – зерно и муку, одежду и одеяла, посуду, немного патронов. Доложили мирахуру. Он только секунду подумал, махнул плетью:
– Поджечь строения!
Весело запылали копны хвороста и сухой колючки, которыми обложили мазанки внутри двора. Вскоре занялись окна и двери, потолочные балки. Мамедша скомандовал трогаться в обратный путь. Долго еще оглядывались джигиты на громадный столб черно-рыжего дыма, вставший над барханами в безветренном холодном воздухе хмурого мартовского дня, – с рассветом небо заволокло серыми плотными тучами. Все уже знали: с Салыром и его бандой покончено, караванные пути в Кизылкумах отныне свободны. Но смутно было на душе у победители – Мамедши, председателя камачинского ревкома. Чуял он: близок и его конец.
Предчувствие не обмануло. Недели две спусти в Ковчун, а затем в Камачи прибыл с отрядом начальник оперотдела Коркинской окрчека Нобат Гельдыев. Несколько дней длилось расследование, Нобат опросил десятки людей, в том числе былых джигитов Салыра, сложивших оружие. Облик Мамедши-мирахура сделался ему вполне ясен. На основе полномочий, загодя полученных по телеграфу из Бухары, Нобат снял и арестовал Мамедшу. Было арестовано еще шестеро его ближайших сподвижников. Всех семерых под конвоем отвели в Карши. Нобату поручили следствие, потому что много керкинских было замешано в здешних событиях. Позже арестованных приказали направить в столицу республики: что с ними дальше стало – неведомо.
Искали следы Тувак-сердара, но тщетно.
По слухам, малолюдная шайка Ягмура – все, что осталось от Салырова воинства, – подалась на юг, к Мукры и Термезу, позже скрылась за рубеж.
Обгорелые руины у колодцев Кыран вскоре сделались прибежищем для шакалов, степных лисиц, да еще для ночных пугал – филинов и сов. Караванщики и чабаны старались подальше обходить проклятое место.
А в народе долго рассказывали быль да небыль про то, как сперва дружили, потом рассорились Мамедша-мирахур и удачливый главарь калтаманов Салыр-мерген. Как первый выследил второго на тое у Сеидкул-бая, как Салыр погиб в схватке от выстрела в затылок. Имя Тувак-сердара было очень скоро забыто, никто так и не догадался о его вероломстве.
Как Салыр и Мамедша долго враждовали,
Кровь людскую много дней щедро проливали.
Опрометчив стал Салыр – повстречался с пулей,
От раздоров лишь тогда люди отдохнули.
Так пели бахши на тоях еще не один год после кровавого происшествия в кишлаке Ковчун. Позже забылось все это, стерлось в памяти людской.