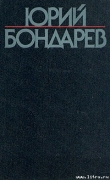Текст книги "Дорога издалека (книга вторая)"
Автор книги: Мамедназар Хидыров
Жанры:
Роман
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц)
Прощайте, боевые друзья!
Белый потолок высоко над головой, глянешь по сторонам – такие же белые, гладкие стены. Тонкие зеленоватые шторы на высоких окнах не пропускают в палату солнечные лучи. За окнами – яркое весеннее утро, блики майского солнца на молодой листве раскидистых деревьев. В палате сумрак, нежарко, только воздух нечистый – насыщенный запахами лекарств, испарениями человеческих тел. В ней до десятка раненых бойцов и командиров Красной Армии.
Тупая боль в бедре мешает уснуть. Утомление, однако, превозмогает боль, и Нобат погружается в тяжелую, смутную дрему. Беспрестанно мерещится только что пережитое: многоверстные марши пыльными дорогами Ферганы, тревожная дробь басмаческих выстрелов на окраине кишлака, угрожающее безмолвие ущелья в горах, внезапно взрываемое грохотом каменного обвала, и сразу же – утомительная погоня за врагом по козьим, едва протоптанным тропкам, когда выстрела в упор ждешь за каждым поворотом… Редко-редко всплывает из глубины давнее, казалось – навечно забытое. Донди увозят из родительского дома в разукрашенном кеджебе… Вонючий зиндан, тяжелая колодка впилась в ногу, боль нестерпимая – и Нобат просыпается, с трудом сознавая, что боль – наяву. Тут сквозь тишину, как будто сквозь вату, проступают голоса, звук шагов…
– Товарищ, проснитесь! – русская речь, мягкий женский голос, осторожное прикосновение ко лбу. Нобат разлепил веки. Все та же белая высокая палата. Над ним склонилась женщина – светлолицая, голубоглазая, веснушки на слегка вздернутом носу, темно-русые волосы упрятаны под белую косынку с вышитым красным крестиком.
– Командир Гельдыев, как чувствуете себя? – спрашивает по-узбекски мужчина в белой шапочке и таком же халате. Скуластый, смуглый – должно быть, татарин. – Сейчас осмотрим вас, потом, возможно, будет операция. – И добавляет по-русски, обращаясь к спутнице: – Подготовьте…
Женщина вдвоем с нянечкой осторожно снимают с Нобата простыню, закатывают на животе рубаху… Рана гноится, боль нестерпимая. И вновь склоненные лица врача и медсестры. Нобат зажмурил глаза, крепко закусил верхнюю губу. Дергающая боль молнией пробегает по всей ноге и, кажется, достает до самого черепа…
– На носилки, – командует врач.
Нобата долго везут коридорами. Наконец – широкая дверь, палата куда просторней и светлее, чем прежняя. Окно во всю стену. «Операционная», – догадывается Нобат.
«Неужели все это надолго? – минуту спустя тревожная мысль пронзает его сознание. – Как там сейчас эскадрон? Ишанкулов пока за меня управится, но потом, если долго не вернусь, – как бы не прислали нового командира… Домой ведь, наверное, следует сообщить? А может, вовсе и ненадолго! Сейчас хирург только глянет и…»
Между тем его лишь на минуту-две оставили одного. Из коридора донесся звук тяжелых шагов, следом еще нескольких. Тихие голоса. Грузные мужские шаги совсем рядом…
– Нобат, неужели ты? – негромкий, спокойный голос, очень знакомый, только не вспомнить, чей он. – Здравствуй, милый! Вот когда свиделись… Ты лежи спокойно, не поворачивай голову, я сейчас подойду… Ну, теперь узнал?
Плотный мужчина в белом халате и шапочке зашел так, чтобы Нобат мог его видеть, не меняя положения. Широкое красноватое лицо, седые кустистые брови, подстриженные усы. Шрам на левой щеке…
– Николай Петрович?!
Да, сомнений не оставалось: перед ним Николай Петрович Егорычев, полковой врач, старый товарищ с Лебаба. Сейчас, после курсов и многомесячной практики, хирург-ординатор второго военного госпиталя в Ташкенте.
Вот так встреча, неожиданная и радостная!
– Николай Петрович! – волнуясь, повторяет Нобат и пытается высвободить руку из-под простыни, но Егорычев удерживает его:
– Лежи спокойно, дружок, нельзя! После… Главное про тебя уже знаю, остальное потом расскажешь. А сейчас давай-ка займемся твоей ногой. Ты, значит, терпи, твое дело такое. Выправим тебе, что можно… Пока молчи, усыпим тебя, как положено. А уж после, оправишься маленько, тогда потолкуем…
И он сделал знак людям в белых халатах. Нобата живо перенесли с передвижных носилок на высокий стол под белыми лампами близ окна.
– Терпи, друг! – шепнул на прощанье Николай Петрович, ладонью тронув ему лоб. Вслед за этим Нобату на лицо – на нос и губы – положили что-то мягкое, холодящее, с пронизывающе-острым запахом. Сознание сразу начало мутиться, потолок и лампы над головой уплыли кверху, растаяли…
…Когда он пришел в себя, в палате сгущались синеватые сумерки. Попробовал шевельнуться – куда там, нога будто снова в колодке зиндана. Гипс… Только рукой удалось двинуть, койка скрипнула. И тотчас бесшумно растворилась дверь, прошелестели легкие шаги:
– Очнулись? Выпейте ложечку.
Тот же женский голос, что и в первые часы здесь, в госпитале. Знакомое лицо склонилось над постелью – редкие веснушки на вздернутом носу, ласковые голубые глаза. Протягивает белую кружку. Нобат отхлебнул раз, другой. Чистая, холодная вода.
– Спасибо! – отпив три-четыре глотка, Нобат помотал головой. – Вы опять у нас… дежурите?
– У вас, – женщина кивнула, не отходя от койки. – Только вы теперь в другой палате, на двоих. Не поднимайтесь ради бога, вам нельзя!.. – она предостерегающе вытянула руки, поняв, что Нобат хочет оглядеться. – Это Николай Петрович, добился. Его здесь уважают. Ваш сосед – артиллерист, командир орудия, тоже с Ферганского. Он местный, чувствует себя хорошо, иногда домой уходит…
– Как вас зовут? – Нобат против воли залюбовался миловидным профилем молодой женщины. – Меня Нобат, фамилия Гельдыев, ну, это вам известно. Я туркмен. Родом из Бухары, Керкинский округ, слыхали? – собеседница кивнула.
– Вы прекрасно говорите по-русски! – она улыбнулась, доверчиво глянула на него. – Учились в России?
– Нет, я… В общем, долго рассказывать. Среди русских прошли мои молодые годы, есть такая семья. Далеко, в Петрограде… Ну, как же все-таки вас зовут?
– Мария Герасимовна. Можно просто Маша.
– Вы работаете медсестрой? – спросил Нобат.
– Сейчас да, медсестрой. Но я мечтаю стать врачом. И стану, поверьте! – лицо у нее на миг сделалось одухотворенным, глаза сверкнули решимостью. – Только для этого нужно учиться. Но все это далеко – Москва, Петроград. Выла война – не поехала. А сейчас у меня отец тяжело болен. Старый друг нашего Николая Петровича. Введенский, врач-терапевт, он в Ташкенте с семидесятых годов…
Они помолчали. Нобат поймал себя на желании еще раз глянуть на Машу. И подольше не отводить взгляд. Какие у нее хорошие глаза – живые, ласковые… И в сердце растет благодарность к этой светловолосой русской девушке: ведь она уже не один день старательно, неустанно заботится о нем, беспомощном, неопрятном…
Должно быть, у него вырвался непроизвольный стон.
– Вам плохо? – тотчас прозвучал встревоженный голос Маши. – Товарищ Гельдыев… – она замялась, видимо, чуть было не назвав его по имени, но сдержалась в последний миг. – Лучше вам сейчас уснуть. Вообще сои при выздоровлении очень, очень полезен!.. Ну, хотите, я дам вам снотворного?
– Не-ет… – Нобат повернул к ней лицо, ее поразили его глаза, они стали строгими, какими-то сухими, взгляд устремлен как бы сквозь нее. А ведь только что были совсем другие, светились искренней теплотой и лаской. – Нет, – повторил он. – Спасибо вам. Мне еще в германскую говорили, в госпитале: чем меньше лекарств, даже пусть полезных, тем лучше для организма. Да и боль сейчас не сильная. Нет, спасибо.
– Верно вам говорили, – помедлив, ответила Маша, и голос ее прозвучал тускло. Ей передалось настроение Нобата. – Но отдых вам не помешает, – проговорила она минуту спустя, уже вполне овладев собой. – Я прикрою шторы и пока что вас покину.
Задернув обе шторы, она торопливо вышла, тихонько притворив дверь.
И опять его разбудил женский голос.
– Ну, сынок, пробудился? – певучим говорком произнесла пожилая дородная нянечка, улыбаясь круглым, в морщинках, лицом. – Ты, милый, только не ворохнись, нельзя, вишь, тебе… Вот я тя с ложечки чичас, с ложечки. Подушку-то подобью под затылок, оно и ловчее…
И она принялась осторожно приподнимать ему голову, подбивать подушку. Руки у нее оказались теплые, пухлые, при этом сильные и ловкие. Нобат сперва было не противился, но внезапно вздрогнул: его, боевого командира, – с ложечки?! Да ведь он же в полном сознании, вот-вот на ноги поднимется…
– Товарищ… мамаша!.. – он завертел головой, увертываясь от ее рук, умоляюще поглядел старушке в глаза. – Не нужно, я сам! Ну, зачем это? Ведь мне уже лучше. Скоро опять в строй, на коня. Беляков да калтаманов рубать… А тут вы мне с ложечки… Нет, нет! Да вы не бойтесь, я ногу себе не потревожу, я уже наловчился. А руки действуют, вот поглядите!.. Еще придвиньте, пожалуйста, столик поближе. Ну, я прошу!
Невольно повинуясь его горячей просьбе, нянечка опустила руки. Потом пододвинула столик с едой, сняла одну из тарелок.
– Ох, милок, влетит нам с тобой от Николая-то Петровича, – проговорила она, потом хитровато улыбнулась, пухлой ладонью тронув Нобата за плечо: – А ты, видно, боевой. Вон, аж глаза горят, как сказал, что скоро на беляков-то… Ну уж, ладно, уважу тебя. Вот ложка, кушай, милый, сам, – подав ему ложку, она умолкла, отступила на шаг, ладонь прижала к щеке, пригорюнилась, покачав головой: – О-ох, горемышна-ай! И все-те ему бы воевать, шашкой махать… А сам, поглядеть – кожа да кости… Небось, матушка родима где-то ждет сынка, убивается… Мама-то есть у тебя, сынок, жива она? Сам откуда будешь родом?
– Жива мама, – Нобат отложил ложку, вздохнул. – Наши места – Лебаб, на Амударье, Бухарская республика, Коркинский округ, слыхали? – Старушка кивнула. – Не так давно я побывал на родине, но война-то ведь еще идет. И теперь скорей бы встать на ноги да в строй, к товарищам…
– В строй-ой, ишь чего затвердил! – нянечка махнула на него рукой с таким видом, будто он несет бог весть какой вздор. – Оправишься маленько, пусть тебе Николай Петрович отпуск пропишет, съездишь, проведаешь матушку. Ты-то, видать, уж повоевал, да и еще навоюешься… Ох, сынок, заболталась я тут с тобой! – она выпрямилась, поправила косынку. – Кушай, ежели можешь, а я пойду, у меня и в соседней тоже тяжелые. Ешь, милый!
Она вышла. Управившись с обедом, Нобат долго лежал с открытыми глазами, думал, вспоминал. Простые душевные слова нянечки разбередили ему сердце. Родной дом, семья вспомнились в эти вечерние тихие часы с особенной четкостью. Захотелось побыть с ними, в привычной обстановке, пусть бедной и неказистой, но милой с детских лет. Донди… Ее никто не заменит. Да и мать ждет, старая уже стала.
Утром после завтрака и обхода дверь внезапно распахнулась и в палату торопливой походкой вошел Николай Петрович Егорычев.
– О-о-о! – Нобат, обрадованный, попытался приподняться на кровати, но доктор подошел, взял его за плечи:
– Лежи, брат, лежи! Ну, здравствуй еще раз!.. – они крепко пожали друг другу руки. – Сейчас я после ночного дежурства, можно нам и потолковать. На-ка вот, – он положил на тумбочку узелок, что-то твердое, в чистой белой салфетке. Заметив протестующий жест Нобата, поднял ладонь: – Молчи, молчи! Тут старуха моя кое-что собрала. Варенье, нишалда[8]8
Нишалда – узбекское лакомство: взбитый яичный белок с сахаром и мыльным корнем.
[Закрыть], лепешки сдобные… Тебе для поправки в самый раз.
– Спасибо, Николай Петрович! – Нобат улыбнулся, его смуглые обветренные щеки чуть порозовели. Егорычев сел на белый табурет возле тумбочки, взял в обе руки ладонь Нобата, лежащую поверх простыни:
– Ну, теперь рассказывай. Сперва, что дома у тебя. Матушка-то жива, в добром здравии? – Нобат кивнул. – А супруга? Донди ее зовут, верно? Рукой владеет?
– Николай Петрович, дорогой… – Нобат шевельнулся, чтобы приподняться, но вспомнил: нельзя. – Мы так вам благодарны!.. У Донди все хорошо, рука действует. Иначе… Сами знаете, в сельской местности работать приходится женщинам много. Мама старенькая… Вас вспоминаем то и дело.
– Скажи, дружок, по секрету, – старик наклонился над изголовьем, – не завелись еще ребятишки-то? Ведь пора, вон, гляди, серебрится на висках у тебя, хоть и лет немного… Правду скажи!
– Нет… – Нобат покачал головой, снова щеки зацвели румянцем. – Пока война идет… Солдат революции в строю, на коне…
– Это верно! – Егорычев вздохнул, стиснул ладонь Нобата. На минуту задумался о чем-то, помолчал. – Вроде и окончилась война, белых всюду расколотили, Антанту вышвырнули, а вот тут у нас… Да-а… Как бы славно: собраться былым однополчанам хоть у вас на Лебабе… места-то ведь райские! Мне даже мечталось: поутихнет маленько, возьму отпуск, да и к вам! До Чарджуя поездом, а там речники у меня знакомые, сам помнишь. Вверх по Аму за недельку бы добрался, в пути отдохнул… Нет, не получается! А ты, значит, в Фергане басмачам хребты ломаешь? Слышал, слышал…
– Николай Петрович! – Нобат дернулся на кровати, мгновенная вспышка боли исказила его худое, продолговатое лицо. Потом в глазах вспыхнул гневный огонь, слова полились взволнованные, скомканные: – Это враги заклятые, упорные!.. Вы не представляете, что они творят с нашими, если в плен попадешь! Еще в кишлаках, с теми, кто за Советы… Правда, среди них есть обманутые, этих мы живо переубеждаем. А другие, из баев, еще ишаны очень сильны… Ну, и наши бойцы, у каждого душа горит ненавистью. Сражаются, как львы, перед атакой, бывает, не удержать эскадрон, хоть трибуналом грози…
Он все-таки приподнял голову, теперь уже сам обеими руками крепко стискивал ладонь врача. Тот пытался успокоить своего не в меру темпераментного пациента, однако тщетно. Сказались долгие дни вынужденного молчания, теперь Нобату страстно хотелось выговориться. Уже дважды тихонько растворялась дверь палаты, нянечка удивленно заглядывала внутрь, но, увидев, как горячо и оживленно беседуют старший хирург и этот долговязый краском-туркмен, снова бесшумно притворяла дрерь.
– Входите, входите! – позвал Егорычев, когда нянечка заглянула в третий раз. – Дивно, небось? Старые боевые друзья встретились, вот оно что! Мы с товарищем Гельдыевым еще на Амударье в двадцатом контриков били, да… Я и всю его семью знаю.
– Уж матушка-то, поди, горюет, никак сыночка не отпускает война, – вздохнула женщина, видать, привыкшая доверительно беседовать с врачом. – Я и то говорю, скорей бы ему к своим.
– Недолго осталось… – проговорил Егорычев, но спохватился, ладонью зажал себе рот. Все же от Нобата не ускользнули ни его замешательство, ни смысл его слов, вырвавшихся, должно быть, нечаянно.
– Добро, Нобат! – старик поднялся. – Еще недельки две у нас поваляешься, а дальше посмотрим. Консилиум соберем, совет врачей, одним словом… Маша Введенская тут за тобой приглядит. Вот, скажу я тебе, братец, мастер своего дела! Прирожденный хирург. Учиться бы ей, а тут, видишь, как оно… Ну, извини, милый, мне пора. Еще и завтра к тебе наведаюсь, – Николай Петрович поднялся. – А там консилиум. Решим сообща, как быть с тобой.
Прошла неделя. Нобат сперва начал подниматься на кровати, потом ноги спускать, наконец – встал, опираясь на костыли. Уже целых два дня мерял из конца в конец тесную палату, выбирался и в коридор. Ежедневно с ним были Маша и нянечка – Агриппина Кузьминична. Заходил иногда ненадолго Егорычев. А сосед по палате, уже окрепший после ранения, почти вовсе глаз не казал.
– Помнишь, Нобат, – спросил однажды утром Николай Петрович, – ровно полтора года назад гуляли мы у тебя на свадьбе. Думали, заживем теперь в мире…
– Да, – Нобат вздохнул. – И вот сейчас я обещал скоро возвратиться. А сам даже письма не написал… Николай Петрович, ну когда же этот… консилиум?
– Завтра, – коротко ответил хирург и добавил после небольшой паузы: – Снова с тобой расставаться, а когда встретимся, бог весть.
– Значит, к эскадрону? – У Нобата загорелись глаза, лицо посветлело.
– Погоди, консилиум решит. Все же не забывай: ты дома не бывал больше года.
– Но там, в Фергане, как же без меня наши ребята?! – Нобат рывком, опершись на костыль, поднялся с кровати, гримаса боли исказила лицо.
– Во всяком случае не забывай, друг, – Егорычев тоже поднялся, ладонь положил ему на плечо. – Не забывай: мы с тобой солдаты революции. Куда ехать, где служить – не дано решать каждому из нас по своей воле. Да! – Он обернулся, широкое лицо озарилось улыбкой. – Поздравляю, комэска Гельдыев! Поздравляю! Знаешь или еще нет? Утвердили тебя, вчера под вечер пакет доставили из Туркбюро. Ты – большевик, член партии Ленина! Поздравляю!
Он сперва тряс Нобату руку, потом крепко обнял – высокий костлявый Нобат был вынужден наклонить голову, – расцеловал в обе щеки.
У Нобата от волнения стучало в висках, сердце учащенно колотилось. Утвердили! Вот это радость! Стать коммунистом, большевиком-ленинцем он решил еще в Питере, когда, раненный белоказаками Керенского в бою под станцией Александровской, лежал в госпитале, в первые же дни после победы Октября. Однако Нобат считал: право назваться коммунистом он, солдат, должен заслужить в бою, а его списали как негодного к строевой службе. Потом, когда назначили в Туркестан, рядом оказался комиссар Иванихин – коммунист, пример для многих, друг, боевой товарищ. Снова Нобат задумался: пора. Но не успел: отряд бухарских добровольцев, то, что осталось от Восточного мусульманского полка, поступил в распоряжение ревкома Бухарской республики. Пришлось повременить. Наконец – Фергана. Своею мечтой Нобат только здесь поделился с другом Серафимом. Тот сразу же заявил: «Коля, не надо тянуть! Ну, какие могут быть сомнения? Жизнью своей, отвагою командирской ты давно уже доказал свое право называться большевиком…» В тот раз Нобат сокрушался: образования-то, по сути, никакого! В Питере десяток политических брошюр только и успел прочесть, на митингах кое-чего понаслушался. Приемный отец, Александр Осипович, многое рассказывал о том, как в России народ за свою долю бился еще со времен Стеньки да Пугача… Унтер-офицер Василькевич в запасном полку про то же говорил не раз. После этого Серафим дал слово: рассказать Нобату, что сам знает, про Маркса и рабочее движение в зарубежных странах, про декабристов и народников, про Ленина. Немного им пришлось на эти темы побеседовать – война не дала. Наконец Нобат сам себе сказал: довольно сомнений, решено, вступаю в партию! Было это на отдыхе, в Фергане. Рекомендовали его трое воинов-большевиков: комиссар Серафим Иванихин, секретарь партячейки кавалерийской бригады Хабибуллин, а третьим оказался товарищ Кужелло, член реввоенсовета фронта, которого Нобат знал еще по Бухаре. На ячейке его приняли – биографию заставили изложить, вопросами вогнали в пот. А четыре дня спустя – выступать… Эскадрон действовал в отрыве от своих, связь – только нарочными. Потом ранение. И вот все же дошло, свершилось!
Консилиум отложили – один из членов, хирург, срочно выехал в Самарканд. Дня три Нобат ощущал себя – будто крылья выросли у него за спиной, легко, веса своего не ощущаешь. Забывалась даже боль в раненой ноге. Ходил по палате, коридор шагами мерял из конца в конец, в сад выбирался. И все думал, думал… Была у него тайная мысль: если забракуют на консилиуме, признают негодным к строю, махнуть без разрешения, тайком, обратно в Фергану, на фронт. Хоть рядовым бойцом, где-нибудь поблизости от своих, эскадронских. В штабе фронта не выдадут старые товарищи… Но теперь ему, члену партии большевиков, подобного даже помыслить невозможно. Нет, нет! Ну, а если спишут в запас? Тогда – на Лебаб. И не потому, что там – Донди, мать, земляки. Работы там сейчас – край непочатый.
В эти дни он собрался, наконец, с духом и написал домой. Самые общие слова: здоров, едва ли скоро увидимся… Конверт с маркой принесла Маша, она же взяла заклеенный конверт, обещала отправить.
В просторном саду госпиталя, словно снегом усыпанные, буйно цвели черешни, персики, яблони, урюк. Под вечер, когда солнце скрывалось за тополями, Нобат с палкой выходил на берег Салара – неширокой мутной речки, что опоясывала сад госпиталя с запада. На том берегу – красивый, ухоженный лесопарк училища лесоводства, основанного еще при Кауфмане, устроителе края, крутом на расправу… И все было тихо и спокойно, а там на Амударье… Мысли о доме не давали покоя.
И вот консилиум врачей в конце концов состоялся. Недолго седобородые мудрецы осматривали и ощупывали раненую ногу Нобата, слушали сердце, проверяли подвижность суставов. Николай Петрович тоже присутствовал, но только со стороны наблюдал – своего пациента он хорошо знал и без того. Чувствовалось, он смущен, ему неловко перед старым другом. Ему-то было известно заранее: Нобата должны признать негодным к военной службе. И теперь Нобат поедет к своим, кончилась для него военная служба.
Только сам-то комэска Гельдыев этим ничуть не обрадован. Совсем, совсем наоборот.
– Как же… товарищ председатель… – он протягивает длинные руки к старичку-профессору, у которого седые кудри выбиваются из-под белого колпака. – Война не кончена, весь Ферганский фронт в боях! Мой эскадрон из Бухары только прикомандирован. До конца боевых действий… Я не могу, не имею права!
– Товарищ краском, дорогой вы мой, – профессор сквозь пенсне глядит на него снисходительно, будто на ребенка, хотя и снизу вверх. – Вы же человек военный, красный офицер. Приказ подписан начальником санупра, утвержден Реввоенсоветом республики. С повреждением бедренной кости, как у вас после ранения, служба в строю иск-лю-ча-ет-ся, поймите, родной! Как же мы, военные врачи, осмелились бы нарушить приказ начальства?
Нобат смущен, стискивает зубы, под кожей играют желваки. Да, вот оно. Дисциплина.
– Прощайте, Маша! – Нобат долго не отпускает ее тонкую, но сильную руку. – Спасибо вам! Не забуду, как заботились обо мне. Если встретимся, все для вас сделаю, что нужно, сколько хватит у меня сил.
– Бог с вами! – она машет левою рукой, улыбается, по глаза краснеют, в уголках капельки слез. – Берегите себя, вам бы сейчас отдохнуть… Всего, всего доброго и счастливый путь!
С Николаем Петровичем уговорились проститься накануне отъезда. Поблагодарив на прощанье нянечку, медсестер, оставив на складе немудрые свои пожитки, Нобат поспешил на трамвай – в город, в Туркестанское бюро ЦК РКП (б). Там – назначение. Куда? Сейчас все станет ясно.
В кабинете завотделом по национальным кадрам беседа была недолгой. Перед Нобатом, за столом под алой скатертью, двое – пожилой седоватый мужчина в рабочей косоворотке, но внешности и выговору татарин, – и еще один, в полосатом бухарском халате поверх защитного френча и галифе, на голове низенькая смушковая папаха. Этот явно из бывших младобухарцев. Так и оказалось: незнакомец в полувоенной форме – представитель ЦК Компартии Бухары.
– Не знаю, поздравлять ли тебя, товарищ Гельдыев, – седоволосый в косоворотке пытливо вглядывается, ладонью прикрывает на скатерти листы бумаги – документы Нобата. – Знаю, охота тебе еще повоевать, но медицина решительно против. Займешься мирным трудом. Сам-то ты, – он придвинулся к Нобату, сидящему сбоку стола, – сам-то понимаешь, что на мирные рельсы нужно сейчас переключаться? Врагов добьем, это точно… Жизнь надо строить заново… Понимаешь душой?
– Да… товарищ завотделом, – Нобат тяжело вздыхает. В груди, на сердце тяжелый ком: товарищей боевых, судя по всему, больше не видать. Горько, обидно!.. А другого выхода нет. Дисциплина, революционная дисциплина! Не только в боевом строю она необходима. И Нобат, словно в кулаке крепко сжав свои чувства, произносит твердо. – Понимаю. И задание партии выполню там, где она прикажет.
– Молодец! – завотделом встает с кресла, причем оказывается почти таким же высоким, как Нобат, крепко стискивает ему плечи, опять садится. – Мы знали, ты настоящий большевик, и не ошиблись. Молодчина, Нобат Гельдыев! Так вот, слушай… Есть решение пленума Туркбюро: оказать Бухарской компартии помощь кадрами. Ты член РКП, родом с тех мест – туда и поедешь. Временно будешь прикомандирован к Керкинскому окружному компартии Бухары. Надеемся, в обстановке сумеешь разобраться скорее и лучше, чем товарищ со стороны. Вот знакомься, – он указал на неподвижно сидящего человека в халате. – Товарищ Абдувахид-заде, представитель ЦК Компартии Бухары. Он тебя введет в курс дела. После медкомиссии в штабе сразу к нему, документы здесь получишь. Давай, брат, оформляй уход в запас по состоянию здоровья. Комиссия при штабе Туркфронта, сам знаешь где… В три дня уложишься? – И когда Нобат кивнул, крепко пожал ему руку. – Действуй. Всего хорошего!
Оформление бумаг не отняло и часа времени. Когда все было кончено и дежурный адъютант вручил Нобату пакет под сургучной печатью, адресованный в отдел нацкадров Туркбюро, Нобат отважился на то, что задумал еще в госпитале:
– Товарищ дежурный, – начал он не совсем уверенно. – Могу я пройти к товарищу Благовещенскому, начальнику оперативно-строевого отдела, если не, ошибаюсь?
Белобрысый, сосредоточенный адъютант, быстро глянув на него, спросил:
– По какому вопросу? Вы ведь в запас.
– По личному вопросу. Правду сказать… Хотелось бы только проститься. Очень уж хороший старик, у него я и назначение получал в двадцатом, и позже встречались. Меня помнит, я уверен.
– Да, уж он памятлив, – парень тепло улыбнулся. – Ладно, сейчас позвоню ему. Примет если, тогда, безусловно…
…Сдал старый штабист всего за какой-нибудь год. Рукопожатие мягкое, уже не прежнее, на лице усталость. Только глаза из-под кустистых бровей глядят все так же пристально, с добротой, вниманием, участием.
– Знаю, голубчик, – он отпускает руку Нобата, жестом приглашает его сесть, садится сам. – И ваши чувства мне понятны, С боевыми друзьями разлука тяжела. А уж воевали вы как следует. От лица службы, от имени командования фронта уполномочен выразить вам благодарность, так и в приказе… Да вы сидите, сидите! – он кладет руку на плечо Нобату, который при слове «благодарность» вскочил на ноги и вытянулся во весь рост.
– Служу трудовому народу! Спасибо… – у Нобата комок подступил к горлу, он подавил волнение, сел. – Верно, от товарищей отрываться тяжело. Самому казалось, военная служба – моя судьба. А вот теперь на мирную работу, в родные места. Но солдатом революции останусь, где бы ни довелось… Солдатом партии. Вам я благодарен, товарищ Благовещенский, за вашу заботу, за науку, напутствия! То же скажу от имени бойцов моих и других. Там, в Фергане, вас знают и с большим уважением относятся к вам. Спасибо!
– Ну, ну, голубчик, не преувеличивайте! – старик машет рукой. – Исполнение долга, поверьте, не более. Долга перед родиной, армией. В ней вся моя жизнь. И, видать, уже скоро на покой… А вам на прощанье счастливой, светлой дороги на долгие годы желаю от души! Стройте новую жизнь, устраивайте судьбу народа своего! Уроки военной службы, навыки боевого братства очень вам пригодятся повсюду, я убежден.
Они тепло простились. В последний раз позади Нобата захлопнулась тяжелая дверь штаба фронта.
А вот вечером в кабинете представителя Бухарского ЦК Нобат был озадачен тем, что услышал.
– В распоряжение окружной Чека мы решили откомандировать тебя, дорогой товарищ Гельды-оглы, – представитель, еще совсем молодой, силился придать своему голосу побольше солидности. – Ты местный, а с другой стороны, опыт боевой у тебя велик. Это нам как раз требуется. В округе неспокойно по-прежнему. О работе чекиста представление имеешь?
– Н-нет… Но, если назначение…
– Правильно! А там, в округе, сильный товарищ, из русских, старый партиец. Поможет во всем, будь уверен. Значит, возражений нет?
На вокзале комендант выдал билет на поезд. Последние часы накануне отъезда Нобат провел у Николая Петровича Егорычева. Старые друзья, сидя во дворике, при керосиновой лампе, не одну чарку слегка разбавленного «медицинского» осушили и за пережитое, и за то, что каждого еще ждало впереди. Спать разошлись далеко за полночь.
– Когда будешь в Ташкенте, прямо ко мне двигай, – уже в который раз напутствовал старый хирург, когда наутро стояли у подножки вагона и паровоз короткими гудками, шипеньем тормозов напоминал, что минута разлуки наступает. Третий удар колокола, свисток главного кондуктора. И вот – последний гудок, протяжный, тоскливый. Нобат и Егорычев крепко обнялись.
– Прощай, друг! Дай бог встретиться! Удачи тебе во всем! Будь счастлив!
– Здоровья вам, Николай Петрович! Великое спасибо за все!
Уплывает перрон под навесом на массивных столбах. Все быстрее мелькают тополя ташкентских улиц. Поезд торопится к югу, туда, где Самарканд, Бухара, дальше – Керки, благодатные берега Аму…
После пересадки в Кагане поехали совсем медленно – железную дорогу еще полностью не восстановили. Подолгу стояли на станциях. Нобат, прихрамывая на раненую ногу, выходил в степь, вглядывался в однообразные желтеющие дали. Ветер здесь дул обжигающий, солнце палило, весенние травы уже погорели, крошились в труху под ногами. Желто-бурые беркуты с важностью восседали на столбах. Безлюдная засушливая степь словно бы таила что-то угрожающее.
А когда, наконец, проехали город Карши, потянулись места, знакомые Нобату с отроческих лет. С того незабываемого, уже далекого времени, когда пришел он безбородым юнцом на стройку этой стальной колеи, сделался подручным у замечательного человека – Александра Осиповича Богданова, питерского большевика.
…Вот оно, то самое место, где стояла возле самых рельсов хибарка, в которой тогда жили они вдвоем с Александром Осиповичем!
– Вы мне что-то сказали, товарищ краскам?
Это спросил сосед по купе, пожилой узбек. Он не навязывался с обычными в дороге разговорами, но сейчас заговорил первый.
– Я? – Нобат с удивлением оглянулся. Оба стояли у окна в коридоре вагона. Должно быть, Нобат не заметил, как начал вслух высказывать свои мысли. – Простите, я не вам… – он замешкался, покраснел, смущенно улыбнулся. – Места эти мне хорошо знакомы, вот в чем дело. Строил дорогу здесь, когда молодой был.
– А-а, да, да, – покачал головой собеседник. – И потом, очевидно, война, теперь опять в родные места?
Нобат растерянно кивнул.
– Простите, – очень вежливо вновь заговорил сосед. – Я вижу, вам нелегко стоять. Не хочу утомлять вас беседою, но давайте, ради знакомства, партию в шахматы. Будем знакомы, – он протянул руку! – Бабакадыр Исмаили из Термеза, учитель.
Нобат обернулся, наконец, к неожиданному собеседнику, потом пожал руку, назвал себя. Однако шахматы?
– Н-нет, извините меня. Шахматной игре… не обучен.
– О, это даже интересней! – бородатое скуластое лицо Исмаили осветилось не по-стариковски озорною улыбкой. – Вот я вас и научу. Идемте же!
От самого Карши они в купе ехали только двое. Исмаили живо извлек из хурджуна шахматы, доску, раскрыл, высыпал фигуры, предложил Нобату жребий – Нобат вытянул себе черные. И пошла наука. Всего час потребовался новичку, чтобы усвоить правила ходов для каждой из фигур. Потом – стратегия битвы в целом, тактика отдельных ударов. Да ведь это же настоящая школа военного искусства! Так Нобат и сказал своему учителю.