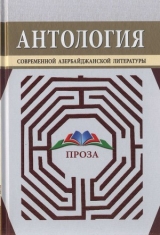
Текст книги "Антология современной азербайджанской литературы. Проза"
Автор книги: Максуд Ибрагимбеков
Соавторы: Натиг Расулзаде,Этимад Башкечид,Афаг Масуд,Камал Абдулла,Исмаил Шихлы,Шериф Агаяр,Мовлуд Сулейманлы,Юсиф Самедоглу,Мамед Орудж,Иси Меликзаде
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 32 страниц)
Советские войска укрепляли отбитые позиции. Катера, участвовавшие в операции, кроме сторожевых, вернулись обратно.
* * *
Медицинские сестры помогали сгружать с кораблей тяжелораненых. Некоторых вели под руки к палаткам. Легкораненые, не дожидаясь помощи, шли, поддерживая друг друга.
В одной из шлюпок, подошедших к причалу, сидел широкоплечий смуглый моряк в кожаном шлеме. Одежда на нем была мокрой. Он был бледен, губы посинели. Он держался за края шлюпки. Лицо его подергивалось от боли.
Его положили на носилки. Он хотел поблагодарить, но губы только едва шевельнулись – говорить он уже не мог и, застонав, закрыл глаза. Его принесли в палатку для тяжелораненых. Главный хирург осмотрел рану потерявшего сознание моряка.
– Перенесите его на операционный стол, надо удалить осколки!
Медицинские сестры, приготовив все инструменты для операции, позвали Захру, которая в другой палате перевязывала раненых. Осмотрев рану и не сводя с нее глаз, она попросила ножницы.
И только тогда взглянула на раненого, лежавшего без сознания. Дрожащими руками она сняла с моряка кожаный шлем. И хотя лицо его сильно изменилось от потери крови, вдобавок у него была бородка, которую Захра никогда не видела, она сразу узнала брата…
– Аслан, – прошептала она, и в глазах у нее потемнело.
Она опустилась на колени перед операционным столом. Смотревшие на нее, и ничего не понимавшие подруги бросились к ней.
Захра, очнувшись, снова склонилась над раненым.
– Аслан, – шептала она и, припав к груди брата, стала целовать его.
– Захра, не надо так, не надо, не тревожь раненого, – пытались успокоить ее сестры.
Она же, не слыша их, прижимала к груди голову брата, осыпая ее поцелуями.
Главный хирург подошел к Захре и отвел ее от стола.
– Возьмите себя в руки.
Захра не хотела уходить, но ее вывели насильно. Во время операции она стояла за занавесом, и ее лицо искажалось мукой, когда она слышала стоны брата.
Наконец сестра вышла и сказала:
– Операция окончена.
Захра бросилась в палатку. Умоляюще взглянула она в глаза старого хирурга, и тот ответил на ее безмолвный вопрос:
– Рана тяжелая, потеря крови огромна. Но организм здоровый и сердце крепкое. Думаю, все обойдется.
…Когда Аслан пришел в себя, Захра нагнулась над ним. Большие черные глаза его взглянули на сестру, на губах мелькнула слабая улыбка.
– Не плачь, Захра… – с трудом прошептал он. – Если бы ты знала, какие там остались ребята…
Медицинскую сестру, которая выходила с одеждой Аслана из палатки, остановил какой-то стук – что-то упало на землю. Девушка нагнулась и подняла большую матросскую трубку. Она тихо подошла к койке Аслана и молча протянула ему эту трубку.
Аслан взглянул на нее затуманенными глазами. Он взял трубку, и легкая улыбка промелькнула на его истомленном страданиями лице. Аслану почудилось, что перед ним стоит Дмитриев и предлагает закурить. А он вынимает свой увесистый кисет, Дмитриев набивает трубку, закуривает, и голубой дым окутывает все вокруг мягкой пеленой.
– Ну как, Володя, табачок?
– Яхши тютюн, – отвечает он, покашливая.
Аслан смеется. Моряки на палубе поют.
– Капитан, разрешите, – просит Ильяс, кивая головой на берег…
Трубка Дмитриева снова разгорается, и пламя ее, как факел, освещает все вокруг.
Иса Гусейнов (1928–2014)
САЗ
© Перевод Т. Калягина
Война заметно изменила порядки в доме дяди Исфендияра, как, впрочем, и в большинстве других домов. Раньше, до войны, одна Тубу поднималась с рассветом доить коров, мести двор, готовить завтрак – все это входило в обязанности младшей невестки; остальные члены семьи высыпались досыта и вставали позднее, когда солнце светило уже вовсю. Теперь Исфендияр открывал глаза еще в темноте, причем стоило ему приподнять голову и несколько раз кашлянуть, как невестки тотчас же начинали шевелиться под одеялами, и не успевала просохнуть роса, а женщины уже пылили ногами по дороге, догоняя тарахтящую впереди арбу бригадирши.
Накормив внуков, старик вместе с ними отправлялся в кузницу. Кузницу эту он давно уже передал сыновьям, но они ушли на фронт, и Исфендияру снова пришлось встать к наковальне, хотя до семидесяти ему оставалось совсем немного. Расчистив один из углов от железного хлама, Исфендияр постелил там палас и бросил несколько старых мутак, чтобы хоть немножко было похоже на жилье; здесь и копошились целый день его внуки. Усадив на паласе ребятишек, Исфендияр подходил к старой, видавшей виды наковальне, раздувал мехи и, взяв молот, рукоятку которого совсем недавно сжимали ладони его сыновей, принимался за дело: оттягивал лемеха и кетмени, налаживал топоры, натягивал шины на колеса.
Вечером, возвратившись с поля, невестки забирали из кузницы детей и сразу же, не мешкая, принимались за домашние дела, спеша управиться до прихода свекра. Впрочем, старый Исфендияр не торопился домой. Он медленно шел к арыку, из железной трубы, служившей мостиком, доставал банку с колесной мазью и принимался до блеска начищать свои черные хромовые сапоги. Потом он оттирал, насколько возможно, копоть и ржавчину с рук, вытаскивал из кармана куртки обломок гребня и тщательно, волосок к волоску, расчесывал бороду. Расправив плечи, распрямив стан, с грубоватой тяжеловесностью которого так не вязалось мягкое, задумчивое выражение его лица, старый кузнец неспешным шагом направлялся к деревенской площади. Здесь он здоровался со сверстниками, уютно расположившимися возле правления с неизменными чубуками и папиросами, справлялся у них о здоровье и входил в длинный широкий коридор. Послушав военную сводку, которую читал кто-нибудь из комсомольцев, Исфендияр обязательно направлялся к Гурбану затем – председателю сельсовета первому было известно, кто из односельчан получил сегодня повестки, – потом шел в кабинет к председателю колхоза, чтобы принять участие в «наряде» на завтрашние работы, и, отсидев там сколько положено, отправлялся домой. Раньше, когда сыновья были еще при нем, дядя Исфендияр редко наведывался в правление, не любил он толкаться среди людей. Проводив на работу сыновей и невесток, он усаживался с внуками под старым тополем и до самого вечера возился с ними. Дочки его первенца Рахмана, «букашки-чернашки», так звали их в семье за смешные, словно углем подведенные рожицы, совали деду тряпичные куклы и требовали, чтобы тот укладывал их спать. Исфендияру случалось по часу петь «детям» колыбельные песни.
Голопузые, вихрастые близнецы – сыновья младшего, Бахмана, – требовали только сказок, и слушать их могли без конца. Редко когда Исфендияру удавалось часок-другой повозиться в саду или побеседовать с каким-нибудь случайно оказавшимся поблизости аксакалом. Целыми днями не выходил он со двора. Теперь все пошло наоборот: Исфендияр не только не стремился скорее оказаться дома, но даже после «наряда» сворачивал в кузницу и оставался там до тех пор, пока какая-нибудь из невесток не приходила звать его ужинать.
В тот вечер Исфендияр тоже не сразу пошел домой. Выйдя из правления, он спустился под горку к кузнице, отнял лом, которым была приперта дверь, отворил ее. Внутри было совсем темно, но Исфендияру и не нужен был свет, он на память знал свое хозяйство и точно мог сказать, где что лежит, – от мельчайших гвоздиков до трехлемешного плуга, который приволокли сюда вчера утром. Старик неторопливо снял куртку, повесил ее на столб и, ни за что не задев, ничего не сдвинув с места, прошел прямо к горну.
Сегодня ему весь день было не по себе. В груди стояла тупая, неотступная боль, тело налилось тяжестью, обмякло, не было сил поднять молот. Что же делать? Идти домой? Сесть в углу и смотреть, как измученные женщины, целый день не выпускавшие из рук кетменя, варят, стирают, моют? Глядеть на их осунувшиеся лица, слушать, как хнычут внуки, дожидаясь, пока их накормят, и снова и снова думать о сыновьях: живы ли они?.. Уж лучше здесь…
Медленно, словно собираясь с силами, старик поднял руку, потянул за веревку… С надсадным хрипом засопели ветхие мехи. Потом они стали дышать ровнее, спокойнее, и скоро их монотонное глухое гудение наполнило темноту. Угли, подернутые слоем пепла, занялись сначала с одного края, потом пламя стало ярче. Кузнец снял со столба коптилку, встряхнул ее, проверяя, есть ли в жестянке керосин, вытащил побольше фитиль, запалил его от пляшущего на головне огонька и повесил коптилку на место. В горне затрещало сильнее, и, выбрасывая густую пушистую копоть, высоко взметнулось красное дымное пламя. Затрепетала паутина на потолке, притихли воробьи, только что беззаботно чирикавшие в трещинах стен. Трещин этих было несметное множество, стены мазали бог весть когда, глина осыпалась, и между ивовыми ветками, из которых сплетен был остов, образовались широкие просветы.
Исфендияр окинул взглядом груду металлических предметов, наваленных вокруг горна, поднял ржавый секач. Его принесла Хайра – вдова перекупщика Исмаила. Не лежит у Исфендияра душа к этой женщине. Старик повертел секач в руках, вздохнул и бросил его обратно в кучу. Воды, что ли, принести?.. Окалины в тазу на палец, словно кирпича натолкли, а вода почти вся…
Старик взял ведро и направился к запруде. Арык запрудили в самом широком месте, бросив в воду бочку, несколько колес от арб. Исфендияр опустил ведро, подождал, пока оно наполнится, потянул…
Вдруг резануло под левой лопаткой, но кузнец не обратил на боль никакого внимания. До сегодняшнего дня Исфендияр не знал, что значит болеть; поднимал ли он тяжести, схватывался ли с парнями на поясах, спокойная уверенность в собственной несокрушимости никогда не покидала его.
Старик до краев наполнил ведро и понес его в кузницу. На глаза ему снова попался ржавый секач, но Исфендияр только скользнул по нему взглядом и, отвернувшись, снял со стены костыль. Положил в горн кусочек железа чуть побольше ладони, бросил сверху горсть угля и стал раздувать мехи. Снова взвилось пламя, и целый сноп искр, вырвавшись из огня, осыпал костыль, наковальню, пресс. Потом пламя притихло, стало голубым, ровным…
Наконец железо раскалилось, начало светлеть – пора начинать. Веревка отпущена, быстрое, неуловимое для глаз движение – и молот с клещами уже в руках кузнеца, кажется, они сами прыгнули ему в руки. Багровый кусок железа выскакивает из огня и, чертя в полумраке светящуюся дугу, рассыпая искры, плюхается на наковальню; щипцы хватают болванку, переворачивают – раз, раз – несколько мгновенных ударов молота, и неправильной формы обрубок вытягивается, становится плоским и, загнувшись с одного конца, превращается в матово-красный наконечник.
Исфендияр бросил поковку в таз и, пока она шипела, остывая, вытер рукавом лоб. Боль куда-то ушла; тело прошибло потом, оно снова стало гибким, послушным; мышцы на груди молодо подрагивали от напряжения – все было как должно.
Исфендияр выждал минутку, отложил щипцы и, сунув руку в воду, достал только что откованное колечко. Железо еще не остыло, никто другой не смог бы взять его без рукавицы, но руки Исфендияра давно привыкли к жару и не обжигались, даже когда он доставал что-нибудь из огня. Исфендияр поднес поковку к свету, внимательно оглядел ее, выбрал из разложенных возле наковальни оправок самую маленькую, зачистил заусеницы, прошелся напильником по внутренней поверхности и, насадив похожее на серебряный браслет колечко на нижний конец костыля, оправил его маленьким молоточком.
Костыль этот Исфендияр делал по заказу чабана Абдуллы, того самого, что пас колхозных овец на горных пастбищах. Месяца два тому назад Абдулла получил известие, что сын его Магеррам ранен и находится на излечении где-то в России. Чабан продал пятнадцать овец и с помощью военкома Талыбова переправил солдата домой – поправляться, набираться сил на чистом воздухе. Сын у Абдуллы был квелый, болезненный, даром что вырос на сливках и свежей баранине, и, хотя сломанная в нескольких местах нога его давно уже срослась, никак не решался ходить без костыля.
Ну и будет же у них радости, когда солдат наконец ступит на раненую ногу! Исфендияр улыбнулся невесело, вздохнул…
Пожалуй, следует захватить костыль домой, на днях они вместе с фельдшером повезут его заказчику.
Старик надел куртку, присыпал золой тлеющие угли, взял в руки костыль и направился к двери. И тут ему опять стало плохо. Не понимая, что с ним происходит, теряя силы, Исфендияр прислонился к стене. Костыль выпал у него из рук. Тело сразу обмякло, обессилело…
Сколько времени это длилось, Исфендияр не запомнил. Лишь только боль начала затихать, он перевел дух, выпрямился и, радуясь, что его не застали в таком жалком положении, быстро припер ломом дверь. Потом, преодолевая головокружение, прошел по трубе через арык и не спеша зашагал к дому.
Он шел туда, где его не встретят ни Рахман, ни Бахман, где он увидит только усталые лица невесток и где долго будет лежать без сна, размышляя о пропавших сыновьях…
* * *
Весной сорок первого года, на майские праздники, в деревню приехал знаменитый силач-пехлеван. Он выступал на площади, перед правлением. До пояса обнажив могучее тело, пехлеван, поигрывая мышцами, легко поднимал многопудовые камни, а потом лег на коврик и велел поставить ему на живот принесенное из клуба пианино.
Кто-то из зрителей приметил лежавший неподалеку от коврика железный брус толщиной в руку у запястья, и в толпе заговорили о том, что этим брусом пехлеван опоясывается. Разумеется, в это мало кто верил. Не каждый день, конечно, приходится видеть, как, играя мышцами, человек ворочает каменные глыбы или ставит себе на живот пианино, но опоясаться железным брусом!
– Разве такой согнешь! – говорили в толпе. – Немыслимое дело!
И вдруг из толпы вышли два парня: невысокие, широкоплечие, а в бедрах – тонкие, через кольцо протащишь. Зрители оживленно зашептались: никак, Исфендияровы ребята решили посрамить пехлевана! Однако стоило молодым кузнецам приблизиться к пехлевану, все поняли, что о поединке смешно и помыслить: уж больно хрупкими и невесомыми казались эти стройные юноши рядом с огромным, по-медвежьи ступающим богатырем. Куда там! Да если они вместе возьмутся, им его с места не сдвинуть!
Люди обеспокоенно поглядывали на братьев, а старый Исфендияр просто не знал, куда глаза деть, даже четки перестал перебирать. Неужели ему придется выйти из толпы и, как ребятишек, пристыдив сыновей, прогнать их с площади?!
Однако оказалось, что кузнецы и не собирались схватываться с приезжим силачом. Они даже не подошли к нему, а направились прямо к железному брусу. Подняли его, взялись за концы, перехватились, берясь половчее, и… брусок в руках кузнецов стал гнуться, словно восковая свеча.
Раздались восторженные крики.
Старый Исфендияр молчал.
– Позор! – мрачно произнес он наконец. – Мне стыдно за моих сыновей!
Больше он не сказал ни слова. Сначала люди не поняли, в чем дело, но потом сообразили, что старый кузнец не зря стыдит парней; как-никак, а пехлеван посрамлен! И не какой-нибудь безвестный бродяга, а знаменитый Рагим-пехлеван, гордость и слава всего Азербайджана!
На лицах собравшихся стало проступать смущение. Братья совсем растерялись, стояли, виновато опустив головы, вихрастые, похожие друг на друга, как близнецы. Исфендияр убрал четки в карман и, запустив пятерню в бороду, обдумывал подходящие слова, чтобы как следует отчитать «дурней» за непристойное поведение. Но ругать сыновей ему не пришлось, пехлеван вперевалку подошел к молодым кузнецам, обнял их, обоих сразу, прижал к груди и стал что-то говорить им срывающимся от волнения голосом.
Что именно сказал пехлеван его сыновьям, Исфендияр узнал только вечером. Оказывается, знаменитый силач звал его парней в Баку учить своему искусству. Гурбан, бессменный председатель сельсовета, почитаемый в деревне не только как начальство, но и как один из самых уважаемых аксакалов, явился к Исфендияру вместе с Рагим-пехлеваном и несколькими стариками, и они все вместе стали уговаривать кузнеца отпустить сыновей в город.
«Прославятся ребята! – соблазнял Исфендияра председатель. – В газетах про них напишут, портреты печатать станут! И тебе почет, и всей деревне!»
Исфендияр был неравнодушен к славе – даром что всю жизнь провел в закопченной кузне – и сдался сравнительно легко; помолчал, ухмыляясь в усы, и сказал, что согласен отдать сыновей в обучение к пехлевану.
На следующее утро к дому кузнеца подъехала легковая машина, присланная из района за Рагим-пехлеваном. Стали прощаться. Старший сын поцеловал племянников, потом своих девочек, Бахман – тоже: сначала дочерей старшего брата, потом – своих близнецов. Все было обставлено очень торжественно, так, словно молодых кузнецов ждал не семичасовой путь в Баку, а долгое, трудное путешествие. И конечно, никому тогда не могло прийти в голову, что так оно и есть, что братья и вправду уезжают надолго, может быть, навсегда…
Сыновья писали Исфендияру. Сначала из Баку, где их поселили в общежитии спортивного общества, потом, с началом войны, письма их стали приходить со штампом полевой почты. Потом писем вообще не стало…
Две вещи в доме особенно остро напоминали Исфендияру о сыновьях: железный брус, который они согнули тогда на площади, и дорогой, разукрашенный перламутром саз, из-за которого Исфендияру пришлось продать корову.
Бахман, для которого куплен был этот саз, не был, конечно, ни певцом, ни ашугом, но у парнишки оказался приятный, мягкий голос, и, когда ему исполнилось пятнадцать, Исфендияр продал корову и купил сыну саз: что уж греха таить – кузнец всегда отличал меньшого.
На свадьбах и других празднествах Бахман внимательно приглядывался к исполнению ашугов, многое перенял от них и, как говорили сведущие люди, немало преуспел в этом искусстве.
Перед домом Исфендияра высился над колодцем неведомо кем и когда посаженный тополь; его могучий, корявый ствол весь испещрен был надписями – немало потрудились неизвестные люди, вырезая на коре узорчатые арабские буквы. Играл Бахман только здесь. Он пристраивался на одной из мощных нижних ветвей и, прислонившись спиной к стволу, принимался подбирать какую-нибудь незамысловатую мелодию. Голос его разносился по всей деревне.
Позднее, когда Бахман влюбился в Тубу, младшую сестру путевого обходчика Махара, ему пришлось взбираться повыше и петь куда громче – Махар с семьей жил возле железной дороги, примерно в полукилометре от деревни.
Зато, обручившись с Тубу, Бахман вообще перестал лазить на дерево. Парень уже не бренчал что есть силы, а сидел под деревом и, полузакрыв глаза, тихонько касался струн, извлекая из саза негромкую грустную мелодию. Знатоки утверждали, что именно в это время Бахман достиг наибольших успехов. Теперь и Исфендияру нравилось слушать Бахмана, не то что раньше, когда он «кричал петухом», одну за другой ломая о струны косточки.
Кузнец и сам пытался наигрывать что-нибудь немудреное, а когда сыновья ушли, все чаще стал снимать саз со стены. Достанет из футляра, сядет возле тополя, облюбованного Бахманом, прислоняясь спиной к его шершавому стволу, и тихонько перебирает струны… Песня звучит грустно, да и неудивительно – старик поет песню так, как она звучит сейчас в его сердце…
* * *
В деревне был фельдшер Хаджи, Хромой Хаджи, как его называли многие. Фельдшер действительно хромал на левую ногу – она у него от рождения была намного короче правой. Парень он был одинокий, бесприютный – ни жены, ни отца с матерью, ни дома; ютился в амбулатории – единственной комнатушке, которую выделило правление под медицину; там же за ситцевой занавеской стояла и его кровать. По утрам, перекинув через плечо видавшую виды санитарную сумку, зашитую разноцветными нитками, а кое-где даже скрепленную проволокой, фельдшер начинал обход. Прежде всего он спешил к чабану Абдулле – делать перевязку его сыну. Потом, припадая на короткую левую ногу, ковылял из бригады в бригаду, из звена в звено, из одного полевого стана в другой. Бинтовал руки, пораненные во время работы, мазал йодом ссадины, раздавал больным малярией хину, причем никогда не забывал помечать все это в тетради учета, которую всегда носил при себе в брезентовой сумке.
Вечером, когда садилось солнце, Хаджи отправлялся к болоту и надолго исчезал в зарослях камыша. Раздвинув густые камыши, можно было увидеть, как он, стоя по пояс в воде, посыпал известью листву. Известь в борьбе против комаров – это было открытием Хаджи, во всех других деревнях болота обрабатывались мазутом.
Еще в самом начале войны, отправившись зачем-то на станцию, Хаджи приметил груду мешков с известью. Брошенная в поле, под открытым небом, известь не раз уже, видимо, намокала, мешки прогорели, порвались, и куски слипшегося белого порошка рассыпались по земле. Трава, припудренная известью, почернела, и Хаджи сразу сообразил: раз известь так действует на растительность, ею можно обрабатывать болото – камыши засохнут и негде будет гнездиться комарам…
Фельдшер попытался узнать, кому принадлежат мешки с известью, но это ему не удалось. Вдоль железнодорожного полотна немало было свалено всякого добра: мешки со жмыхом, химические удобрения, какие-то ящики… Лежали они здесь с начала войны, и никто даже понятия не имел, чьи это грузы и есть ли у них хозяева.
Хаджи переговорил с начальником станции и огрызком карандаша, которым делал пометки в тетради учета, написал следующую расписку:
«Мной, Хаджи Дашдемир-оглы, жителем деревни Курбанлы, получено тринадцатого февраля 1942 года сто шестьдесят мешков извести для использования вышеуказанной в целях противомалярийной профилактики».
Хаджи отдал начальнику станции расписку, привел из деревни трактор с прицепом и перевез мешки поближе к болоту. Потом он собрал по домам старые, облезлые паласы и накрыл ими мешки, чтобы известь не промокла под дождем. С тех пор Хаджи каждый вечер приходил к болоту и посыпал известью камыши. Ему не только никто ни разу не предложил помощи, но ни один человек даже не полюбопытствовал, чем это он там занимается на болоте. Ну а в самом деле, кому это нужно – лезть в трясину, где тучами ходят комары, чтобы взглянуть на хромого чудака, который часами топчется в камышах, занимаясь каким-то непонятным делом.
Один только Исфендияр не мог оставаться равнодушным, глядя, как мучается фельдшер. Надо сказать, он даже чувствовал себя немного виноватым перед ним. Причина, по которой возникло это ощущение, на первый взгляд могла показаться забавной, хотя, если смотреть глубже, обстоятельства, сблизившие Исфендияра и фельдшера, были вовсе не такими уж веселыми.
Года за четыре до войны Хаджи пришел как-то в кузницу и, смущенно улыбаясь, попросил старика высватать за него Пери, сестру обходчика Махара: ты, мол, аксакал, уважаемый человек, тебе не откажут. Бедняга был бесконечно далек от мирских дел и понятия не имел, что девушка, которую он просил Исфендияра высватать ему, давно уже обручена со старшим сыном этого самого Исфендияра.
Год спустя, на свадьбе Пери и Рахмана, Хаджи, захмелев с непривычки, обнял Исфендияра и сказал ему с отчаянной храбростью: «Ладно, старшую сестру ты за сына отдал, высватай мне тогда младшую! Будь отцом родным, дядя Исфендияр. По гроб жизни должником твоим буду!» Несчастный и на этот раз промахнулся: Тубу, младшая сестра обходчика, тоже была просватана – она давно уже была невестой Бахмана, младшего сына Исфендияра!
С тех пор, встречая старого кузнеца, Хаджи всякий раз смущенно опускал голову и мялся, не зная, что сказать. Всеми способами старался он избежать этих встреч, но что можно поделать, если ты единственный фельдшер в деревне, – не станешь же обегать дом кузнеца и отказывать в медицинской помощи из-за своих личных отношений.
Что касается Исфендияра, он, напротив, искал встреч с фельдшером; завидев его, останавливал и подолгу расспрашивал о жизни. Побеседовав о том о сем, старик, прежде чем попрощаться, каждый раз как-то неопределенно вздыхал, переминался с ноги на ногу, и вид у него был такой, будто он все надеется услышать от Хаджи нечто важное.
Фельдшер молчал.
Шли годы. Все оставалось по-прежнему, а Пери одну за другой родила двух девочек, Тубу подарила мужу близнецов. Фельдшеру было уже под сорок, и он, видимо, оставил мысль о женитьбе, во всяком случае, ни к Исфендияру, ни к какому другому аксакалу с просьбой о сватовстве не обращался. Теперь Хаджи казался еще более одиноким и бесприютным, и, встречая его, Исфендияр всякий раз невольно вздыхал.
Когда сыновья ушли на фронт, старику и вовсе невмоготу стало видеть Хаджи таким обездоленным, и он старался хоть чем-нибудь помочь фельдшеру. По вечерам он нередко шел вместе с ним к болоту, жег сухую траву, дымом отгонял от Хаджи комариные тучи, а заметив, что мешок в руках у фельдшера опустел, подносил ему следующий, чтобы парень не месил попусту трясину. Все чаще Исфендияр стал звать Хаджи к себе в гости.
Едва фельдшер успевал разжечь примус, чтобы сготовить нехитрый холостяцкий ужин, как появлялся дядя Исфендияр и, не говоря ни слова, гасил примус. Это означало, что сегодня Хаджи ужинает у кузнеца. Фельдшер краснел, потел, извинялся, уверял, что идти он никуда не может, что у него гудят ноги, и если он сейчас же не ляжет, то завтра не сможет подняться. Однако не было случая, чтобы Исфендияр принял во внимание хоть какую-нибудь из его отговорок. Чаще всего он, не вступая в споры, брал парня за руку и вел к себе. Они ужинали на расстеленном под тополем паласе, потом старик поднимался, приносил из дома саз и, достав его из футляра, начинал тихонько перебирать струны…
…Был прекрасный июньский вечер. Легкий прохладный ветерок тихонько теребил листву. Невестки стелили кровати. Старый Исфендияр сидел под тополем, прикрывавшим своей плотной листвой почти весь широкий, ровный двор; догорал кизяк, зажженный в нескольких местах, едкий дым, расстилаясь под раскидистыми ветвями тополя, прогонял комаров, тучами вившихся над головой Исфендияра. В комнате горела семилинейная лампа, и балконные столбы широкими полосами темнели на фоне окон; вверху, под крышей, сонно посвистывали ласточки. На вершине тополя пощелкивал одинокий аист. Каждый год прилетал он в свое гнездо, и, такой же одинокий, улетал осенью в теплые края…
За долгие годы жизни Исфендияр привык к этим мирным звукам, он даже уже не слышал и не замечал их; грустный, усталый, сидел он на своем обычном месте и, как всегда, думал о сыновьях. Словно живые, стояли они перед его глазами; вот они с пехлеваном – тот обнимает их, прижимает к могучей груди и что-то взволнованно говорит; вот они уезжают – Рахман целует сначала племянников, потом своих дочурок, Бахман – сначала девочек брата, а потом уж своих близнецов.
О сыновьях Исфендияр мог думать бесконечно, он видел их в самых различных местах, за самыми разными занятиями. То они представлялись отцу дома за столом, то в кузнице, у наковальни, то возле колодца: обнаженные до пояса, они поливают друг друга из ведра и хохочут; он даже слышал, как плещется вода…
Последнее время Исфендияр чаще всего вспоминал сыновей стоящими рядом с пехлеваном. Старику почему-то думалось, что если бы прошлой весной пехлеван не увез полюбившихся ему парней в Баку, они не оказались бы мобилизованными в первый же день войны. Не попали бы они в неразбериху летних месяцев сорок первого года, а, кто знает, может быть, от них, как и от других деревенских парней, до сих пор приходили бы весточки…
Конечно, все могло выйти иначе: и пехлеван мог бы не заехать в деревню, и Рахман с Бахманом могли остаться в толпе, а не хвататься за ту проклятую железку – тут уж случай, судьба, от которой не уйдешь, но Исфендияр не хотел, не мог примириться с такой судьбой. Он сидел под старым тополем, касаясь лопатками его жесткой коры, и смотрел на деревню; редкие огоньки ее мерцали сквозь плотные кольца кизячного дыма, далекие поля уже погрузились во мглу…
Тревожно что-то у него последние дни на душе…
К чему бы это? Случится что или известие какое будет? Вот и в деревне стали замечать – не тот стал Исфендияр. Жалеют… Перешептываются за его спиной…
Остался, бедняга, со снохами… Он и глядеть на них не может: совсем с лица спали… Как вечер – в правление идет, а домой явится – во дворе отсиживается, ждет, пока расстелют постель… С горя старик пропадает…
Что ж, они по-своему правы, так оно и есть… Слаб ты стал, Исфендияр!.. Сердце болеть начало – уж куда дальше! Что ж делать-то? Бросить кузню? Отпустят, конечно. Тогда все правление на дыбы поднялось – не хотели, чтобы он опять к наковальне становился. Срамишь, мол, нас перед людьми: где это видано, на седьмом десятке за молот браться! Хотели даже из другой деревни кузнеца звать… Но старик настоял на своем.
– Ничего, послужу еще людям, сила в руках есть, да и голове легче – работа, она отвлекает…
Сказал и пошел открывать дверь кузни. Вот так… Что же все-таки придумать? Нельзя же часами сидеть под старым тополем и глотать кизячный дым!.. С тоски пропадешь! Работать? Стоять всю ночь у наковальни? А силы где взять? Может, сходить к Гурбану, попросить, чтоб написал в часть? А может, поехать в район к военкому Талыбову – пусть сам напишет… Он знает, куда обращаться…
Углубившись в невеселые мысли, старик не заметил, как, припадая на левую ногу, к колодцу подошел человек. Он появился незаметно, почти неразличимый в густом сумраке. Подошел, остановился в нерешительности, молча, поклонился и тихонько присел на край колодца. И только когда он слабым, хрипловатым голосом смущенно произнес: «Добрый вечер!», старик заметил гостя.
– Ты, Хаджи? Давно сидишь? Иди сюда!
– Да нет, дядя Исфендияр, я так, на минутку… Скучно чего-то стало. Думал, может, играете – послушать… Спокойной ночи, дядя Исфендияр… Я пойду…
– Сыграл бы я тебе, сынок, да не могу… Третий день как зарок дал. Пока Бахман не вернется… Ты уж прости…
Хаджи ушел. Ах, как нехорошо получилось! Как бы не обиделся… Ведь первый раз вот так пришел, сам, а это – хороший признак. Очень хороший. Значит, затягивается его рана. А может, и вовсе зажила… Окликнуть разве? Взять за руку: идем, дескать, посидим, чаю попьем?
Исфендияр стоял у колодца, глядел на темный силуэт человека, который, резко хромая, уходил по широкой, сероватой в сумерках дороге. Стоял и думал. Все из-за этого сна. Вернее, это даже и не сон, только голос он слышал, голос Бахмана. Он задремал тогда в кузне, сидя на табуретке. И вдруг услышал: «Если вечером, возвращаясь из правления, услышишь дома саз, значит, я вернулся».
Он вздрогнул, очнулся и стал думать, к чему бы это, есть ли какой смысл в этих словах. И снова задремал, и снова послышался ему голос Бахмана: «Знай, отец, если струны ослабнут – не миновать беды».







