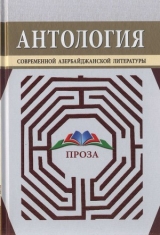
Текст книги "Антология современной азербайджанской литературы. Проза"
Автор книги: Максуд Ибрагимбеков
Соавторы: Натиг Расулзаде,Этимад Башкечид,Афаг Масуд,Камал Абдулла,Исмаил Шихлы,Шериф Агаяр,Мовлуд Сулейманлы,Юсиф Самедоглу,Мамед Орудж,Иси Меликзаде
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 32 страниц)
– Много на себя берешь, – взъелся детина.
– Ладно, тогда я схожу за бутылкой, выпьем здесь.
Он торопливо вышел из купе, прошел по вагонам, купейным, плацкартным, общим в надежде увидеть хоть какое родное лицо. Увы, никого из своего села, из окрестных мест, ни одного азербайджанца, ни знакомых-земляков армян, и блюстители порядка – как в воду канули. Пытался было растолковать ситуацию русским пограничникам с автоматами, стоявшим у дверей вагонов, но те никак не реагировали. Его охватил панический страх. На миг показалось, что поезд везет их не в родной край, а куда-то в тартарары, в пропасть, откуда нет возврата. Он боялся, что распоясавшиеся молодчики, обнаглев еще больше, начнут задевать его жену, напугают дочурку.
Возвращаясь, купил в ресторане водку и колбасу. Войдя в свой вагон, увидел мегринскую знакомую, снимавшую узелки с верхней полки в первом купе.
– Дайте я, тетя Аганик.
– Где ты застрял? – вскинулась женщина. – Скорей беги к себе, скорей!
У входа в свое купе он столкнулся в дверях с женой – в глазах слезы, на лице отчаяние.
– Отца выволокли… Затолкали по коридору… Туда… Трость вышвырнули в окно…
Агали, оставив колбасу и прихватив бутылку, помчался по коридору в противоположный конец вагона. Вдруг поезд резко убавил скорость. Агали качнуло назад, вагон огласился шипением. Тамбур был битком набит. Поднявшись на цыпочках, Агали увидел отца у выходной двери вагона.
– Гамарлуна! Гамарлуна! – заорал молодчик из кодлы.
– Чего телишься, старик? – торопил детина, стоявший сбоку у двери.
– Вот же, Гамарли! Сходи!
– Пусть остановится… – выдавил из себя старик, вцепившийся в поручни.
– Отойдите-ка, – высунулся русоволосый. – Вы не мужчины!
– Спихни и скинь, я его породу…
Поезд стал. Агали закричал:
– Отец, не сходи! Врут они! Гамарли давно проехали! Здесь – пустошь! Да где же ваша совесть?!
– Сходи, сходи, – понукала кодла.
– Товарищ капитан, сюда, сюда! – закричал Агали и оттащил за рубаху парня, рвавшегося к отцу. Молодчики на миг осеклись. Один метнул взгляд в коридор.
– Ара, этот сукин сын опять нас морочит! Никакого милиционера нету!
– Он у нас в купе! Сейчас ответите за все! – твердил свое Агали.
Коротышка, прошмыгнув мимо, кинулся в сторону купе. Агали пытался прорваться к отцу, но тщетно, и тут вернувшийся назад коротышка пнул его сзади:
– В жизни не видел такого плутоватого турка! За нос водит нас, ишачий сын! Никакой милиции нету! Ара, скиньте и его!
– Не хочу сходить… Не надо… – бормотал старик, не отрывая рук от поручней.
– А ну-ка отойдите, – растолкал дружков взбешенный русоволосый здоровяк. – С одним стариком не можете управиться.
Коротышка сбил со старика папаху. Агали шарахнул поллитровкой об дверь, ведущую в вагон, поднял осколок бутылки с острыми зубцами и завопил как безумный:
– Всем брюхо распорю! Только троньте!
Молодчики вновь на мгновение смешались. Детина, нависший над стариком, вынул финский нож, во тьме блеснуло лезвие.
– Брось! – приказал он Агали.
Тут подбежала мегринская армянка:
– Поезд подъезжает к Нахичевани! Теперь-то как отвертитесь?
Агали воспрянул духом:
– Да теперь я покажу вам!..
Кто-то из кодлы выглянул из тамбура:
– Да, и впрямь Нахичевань.
Другой ухватился было за стоп-кран, но раздумал.
– Ладно, ребята, пошли.
Открыв дверь в другой вагон, слиняли.
Старик, отняв руку от поручня, прислонился к стенке тамбура. Сын подошел, взял его за другую руку, легонечко потянул, попытался разжать пальцы… Старик зло уставился на него:
– Где ты пропадал? Столько гадостей наслушался… Собачье отродье… Я нарочно вышел, чтобы отвлечь их внимание…
Поезд прибыл на станцию Нахичевань. Ни выходящих, ни садящихся не оказалось. Агали отвел отца в купе и торопливо запер дверь. Дочурка, усевшись на подушке, утирая мокрыми кулачками глаза, всхлипывала.
Агали, отодвинув шторку, окинул взглядом вокзал.
Прозвучал гудок. Агали подсел к дочурке, приобнял.
– Что с ней?
Жена жестами дала понять, малышка промочила постель.
– Ну и пусть, ну и ладно! – сказал он, свернул мокрое белье, закинул в багажную нишу, раскрыл свежее. На другой нижней полке постелил отцу.
– Сядь, – потянул старика за руку.
Старик не сдвинулся с места.
– Силен, – он переглянулся с женой. – Как ни тужились дыга, не смогли его скинуть с поезда…
Старик смерил его колючим взглядом.
– Что, разве умер Абдулла, чтоб с ними не управиться? Не хотел связываться со шпаной…
В дверь купе громко постучали. Девочка прижалась к маме, испуганно таращась. Агали потянулся к двери…
– Ты что, спятил? – одернула жена.
Стук повторился.
– Что надо? – спросил Агали.
– Открой. Там вещь осталась…
– Здесь ничего вашего нет.
– Ладно, сейчас скажу…
Чуть погодя в скважине замка звякнул ключ. Агали быстро выдвинул защелку-ограничитель. Снаружи толкнули дверь вбок. Створка чуть сместилась.
– Не откроешь, в Мегри не выпустим…
Жена в страхе прижала палец к губам: «Молчи». Старик сказал:
– Погляди, чего хотят…
И подался к двери.
– Твои приятели, – усмехнулся Агали, осаживая отца. Снова донеслись голоса:
– Всех повезем в Кафан… Будете моими гостями…
– Сукин сын, думает, нам надоест, и мы отстанем. Ара, меня зло берет… Чтоб турки с комфортом в купе ехали, а мы всю ночь на ногах валандались…
– Если я им дам уснуть, тогда я не армянин, а турок…
В дверь несколько раз ударили ногами. Агали лежал на верхней полке. Брань, ругань продолжалась. Он отмалчивался, не сводя взгляда с отца.
На одном из полустанков кодла сошла, напоследок постучали в окно, пошвыряли камушки, отвратительно матерясь. В пять утра поезд по расписанию проходил через Мегри. В такую рань вокзал зачастую бывал безлюден.
«Вдруг еще не дадут сойти», – Агали вспомнил блеск ножа в тамбуре. Вдруг он услышал: «Ордубад». И ему вдруг пришло на ум: не сойти ли там. Подняв кожаную шторку, всмотрелся в густую темень, но не смог ничего углядеть. «В случае чего пролезу через окно, сообщу дежурному по станции».
Опустив раму окна, высунул голову. Впереди мерцали огни.
– Подъезжаем к Ордубаду.
Агали узнал вокзал: как-никак три года проучился в ордубадском интернате.
Девятый вагон остановился у почтового помещения, напротив четы тополей. Никого, кроме двух патрулирующих солдат с автоматами. Услышав родную речь, Агали окликнул их:
– Ай гардаш… амиоглу!..[5]5
Братец, племянник.
[Закрыть]
Солдаты, задержав шаг, вскинули головы.
– Армяне хотят нас избить. Заперли купе… Не дают сойти… Помогите…
– Давай-ка сюда… – крикнул один из патрульных напарнику и подбежал к дверям вагона.
– Перейму печали твои, брат, их много… Человек восемь…
Солдат повернулся к товарищу:
– Скажи дежурному, пусть задержит состав. – И побежал к вокзальному зданию.
…Сойдя с поезда, они стали на обочине шоссе.
Старик, сидевший на чемодане, недовольно покачал головой.
– Бестолковая затея… Теперь до вечера жди поезда… – Опершись на чемодан, медленно поднялся.
– Отец, отсюда до Мегри полтора, от силы два часа пути, – бодро отозвался Агали. – Зачем же ждать до вечера? Хоть дрезина, хоть паровоз – на чем угодно доберемся. Или легковушку найду, не разорюсь, прямехонько до ворот и довезет.
Старик неспешно засеменил к гурту репчатого лука на обочине, возле которого разлегся селянин на раскладушке. Старик что-то сказал селянину, тот, не отозвавшись, лениво повернулся на другой бок.
– Гляди-ка, благодать какая, – Агали подошел к отцу. – Точь-в-точь как нашенский лук…
Старик, не ответив, закружил вокруг гурта, носком ботинка перекатывая отставшие луковки. Казалось, с прибывающим светом начавшегося дня из гурта исходило желтое шелестение. Понемногу таяла с лица старика и сходила на нет хмурь.
– Помнишь ли, отец, тот год, когда мы все, и школьники и учителя, собирали урожай, выдергивали лук? И была у нас учительница из пришлых, не знаю, из каких краев, красивая такая… куда потом она уехала?
– Умыкнули ее… в Гамарли…
Агали, подняв руку, остановил голубой «Жигули», наклонившись к дверце, переговорил с водителем и, выпрямившись, весело сказал:
– Едем, отец! Ты садись впереди.
Открыв дверцу, побежал к жене и дочке, поджидавших их возле поклажи.
«Жигули» мчался вдоль Аракса в сторону Мегри. У Агали отлегло от сердца. Опустив руку на плечо отцу, он сказал:
– Вот вернусь, закажу тебе папаху получше прежней.
В ту осень уродился небывалый урожай репчатого лука. Гурты золотисто-желтых луковиц, сложенные на бровках полей, привлекали взоры проезжавших в автобусах и поездах людей, и долго еще отзывался в ушах их струящийся приветный шелест…
Март, 1993 г.
Эльчин (1943)
СУДЬБА КАЩЕЯ
(маленькая повесть)
© Перевод А. Мустафазаде
1
…Затем, только-только заалел лучами горизонт, и на сей раз еще до того, как вступило в свои права утро – было ближе к пяти, – мужчина, еще находясь в полусне, в тревоге, инстинктивно стал ждать отвратительного крика петуха. И на самом деле, через десять-пятнадцать секунд – во сне эти секунды тянулись очень долго – кукареканье матерого петуха переполошило ближние дворы и дома, в том числе и застекленную веранду муллы Зейдуллы.
Это кукареканье столь ранним утром так вывело из себя мужчину, что, ворча, не сдержавшись, он прошелся парой крепких слов по адресу и петуха, и его хозяина.
Правда, мужчина произнес эти слова сквозь зубы, едва слышно, но Хейранса – его жена, как всегда, была чутка, как гусь, она услышала сквернословие и, не поднимая век, все еще сонная, пробормотала:
– И не стыдно тебе? А еще мулла…
Затем отвернулась на бок и снова погрузилась в свой чуткий и сладостный сон.
Не выспавшийся мулла Зейдулла, приподнявшись, сел в постели, потирая черными волосатыми пальцами лоб, подумал в смущении: как же достал его этот петух, если, отнюдь не будучи матерщинником, он произнес подобные слова, причем в присутствии жены… Затем глянул на Хейрансу, что лежала спиной к нему, и нашел утешение в том, что крик петуха не прервал сон жены и хотя бы Хейранса может выспаться досыта. Это ненавистное петушиное кукареканье и в самом деле никак не повлияло на Хейрансу, она видела продолжение того же, что и до крика петуха, сна, и мулла Зейдулла, огорченно потягиваясь, широко, от всей души зевнул.
Уже которое время, особенно в эти знойные, душные летние дни, мулла Зейдулла поистине жил в атмосфере этой напасти: из-за крика треклятой птицы не мог как прежде наслаждаться прелестью предрассветной поры.
В советское время Зейдулла более тридцати лет проработал учителем физкультуры, вышел на пенсию, после развала Советского Союза переквалифицировался в муллы, но в глубине души не был ни физруком, ни муллой – он был поэтом. Не только в том смысле, что создавал стихи, а просто считал себя поэтической натурой, и в этом его убеждении была определенная истина. Всю свою долгую жизнь он просыпался поутру, не под кукареканье соседского петуха – хозяин петуха Зарбала был соседом через забор, – а по собственной воле. Еще лежа в постели, в полудреме вслушивался в щебет птиц, рокот моря, завыванье ветра в ненастные дни – и это были самые любимые минуты повседневной жизни этого ширококостного человека с проседью в бороде и с всегда плаксивым выражением лица.
Окончив еще в пятидесятые годы техникум физкультуры, Зейдулла, как уже было сказано, работал учителем физкультуры в одной из городских школ, каждое утро он садился в электричку на станции в конце села и ехал в Баку, а вечером возвращался домой. Но истинным его увлечением было не преподавание физкультуры, а классическая поэзия, мир образов этой поэзии, история и философия ислама, которые он немного знал, изучив самостоятельно арабский язык и фарси.
Расстояние между этим апшеронским селом и городом на электричке занимало тридцать пять минут, и Зейдулла все тридцать пять минут пути до Баку и столько же обратно думал не о будущих спортивных достижениях своих воспитанников и даже не об их физическом здоровье, а о строках Физули, таинстве рубаи Хайяма – и, как человек совестливый, порой испытывал чувство, подобное смущению, что столь равнодушен к своей педагогической деятельности.
Но что можно было поделать? Всемогущий наделяет интересами каждого по своему разумению, и, наверное, потому после развала советской власти сельский люд воспринял вполне естественно, что он стал муллой; не только в родном селе, но и в ближних селах Апшерона Зейдулла считался авторитетной личностью, почитался как уважаемое духовное лицо.
Хотя лет ему было немало, выглядел Зейдулла не по годам моложаво, многие объясняли это тем, что он не употреблял спиртного, не курил, а на поминальных церемониях, которые вел, демонстративно не налегал на еду. Были и те, что связывали это с занятиями спортом. Но мулла Зейдулла никогда не делал по утрам гимнастику, в других же версиях, несомненно, была какая-то доля правды, но почему он выглядел столь справно, лучше всех знал сам: мулла Зейдулла считал себя человеком, чистым душой, в нем не было и намека на зависть, он умел наслаждаться природой, был всем сердцем привязан к религии, Богу, в его голове часто звучали мудрые строки Низами, Хафиза, Руми, и он считал, что именно в этом истинная причина его физического здоровья.
У муллы Зейдуллы имелась замечательная тайна. О ней, об этой тайне, никто, кроме Аллаха на небе, Хейрансы и доктора Джафарова, на свете не знал, ибо мулла Зейдулла не желал обнародовать свою тайну. Чего он стыдился? Это была истинно поэтическая застенчивость, и выразить это чувство словами было невозможно.
Дело в том, что последние три-четыре года вдруг на него будто с неба снисходило поэтическое откровение. Мулла Зейдулла брался за перо и переносил на бумагу строки, дарованные небесным покровителем, и как бы независимо от него самого эти строки складывались в прекрасные образцы классической газели. Этот нежданный творческий процесс держать в тайне от Хейрансы было невозможно, она знала, что мулла Зейдулла пишет стихи, но что написано в этих стихах – не знала, ибо муж не читал ей свои стихи, да и сама Хейранса не ощущала в этом внутренней потребности.
Стряпня Хейрансы, ее дюшбере и кутабы, ее кюфта – суп с крупными фрикадельками, разнообразные пловы, что готовила она, были известны всему селу, и когда мулла Зейдулла с удовольствием приступал к обеду, казалось, это доставляло больше наслаждения самой Хейрансе, нежели мулле Зейдулле. Словом, Хейранса знала одно: Зейдулла пишет стихи, и этого само по себе было достаточно, чтобы Хейранса гордилась, что ее муж к тому же еще и поэт.
Из посторонних людей об этих газелях ведал только доктор Джафаров – как-никак они были приятелями с детства, к тому же доктор Джафаров был известен на селе как человек сдержанный, неболтливый и образованный, оттого Зейдулла доверял свою душевную тайну только ему, иногда читал свои газели. Правда, доктор Джафаров долго жил в России и был несколько обрусевшим человеком, большинство фарсидских и арабских слов в газелях он не понимал, но мулла Зейдулла разъяснял их значение, причем делал это с большой увлеченностью – громкое чтение газелей, терпеливое разъяснение смысла отдельных строк возбуждали его вдвойне…
…И это грубое, гортанное кукареканье петуха Зарбалы внесло в последнее время серьезный диссонанс в спокойную и внутренне богатую из-за любви к классической поэзии жизнь муллы Зейдуллы: вечерами по приглашению уважаемых людей он допоздна вел как священнослужитель поминальные церемонии не только в родном, но и в соседних селах, а по утрам из-за крика этого подлого петуха не высыпался досыта, весь день ходил сам не свой, и это по-настоящему нарушало его привычную повседневную жизнь и распорядок. Особенно досаждал ему петух в эти летние месяцы, когда в спальне бывало душно, отчего Хейранса стелила им постель на веранде. Это была традиция их более чем полувековой совместной жизни, но петух, казалось, кричал истошным криком не в соседнем дворе, а прямо над его ухом. И тогда мулла Зейдулла просыпался и больше не мог сомкнуть глаз.
Хейранса, как и сейчас, ненадолго просыпалась, а затем вновь погружалась в глубокий сон, а мулла Зейдулла, как ни старался, не мог уснуть, поднявшись с постели не под прекрасные трели птиц или рокот моря, а из-за неурочного петушиного кукареканья. Вместо того чтобы, как всегда, вспоминать мудрые высказывания прославленных мыслителей прошлого, чарующие строки поэтов Востока, он непроизвольно думал о том, что и в следующее утро проснется ни свет, ни заря от петушиного крика, и у него уже не было никакого желания, как прежде, еще до завтрака спустившись во двор, прохаживаясь среди деревьев и кустарников, рассуждать про себя о прекрасном. Нынче, сидя, перебирая четки на веранде, он ждал, когда проснется Хейранса и приготовит завтрак.
И, будто всего этого было недостаточно, отчего-то на ум муллы Зейдуллы приходили всяческие пессимистические мысли о бренности бытия, загробном мире, и то, что, благодаря этому презренному петуху, а он в этом был уверен, погружался поутру в столь тягостные размышления, еще больше портило ему кровь.
Был еще и другой момент: после утреннего крика петуха его уже не посещало вдохновение…
2
В течение нескольких месяцев петух Зарбалы обрел известность, прославился не только в своем селе, но и во всех окрестных селах. Благодаря петуху прославился и сам Зарбала, ибо иного повода у Зарбалы обрести известность, кроме как тот, что он являлся хозяином этого петуха, разумеется, не было.
Все цвета, оттенки радуги можно было найти в крылышках, в стоящем торчком оперении хвоста Кащея – петуха Зарбалы, и эти здоровые перья особенно сияли, переливались красками под лучами солнца. Петух так высоко нес свою длинную шею, словно был не птицей, а племянником самого Аллаха, глядел сверху вниз на все сущее, а темно-серый его клюв напоминал орлиный. У него были широкая грудка и крупные когти, словом, Кащей был не просто петухом, а восьмым чудом света.
Кто-то из сельчан однажды восторженно выпалил в адрес петуха:
– Ей-богу, это Кащей… Кащей! – и с тех пор петух Зарбалы навсегда стал прозываться Кащеем.
Одним из страстных поклонников Кащея был прибывший из Стамбула и работавший стоматологом в недавно открытой прибрежной зоне отдыха «Райский уголок» Фейзи-бек. Впервые увидев Кащея на арене, он спросил:
– Что есть Кащей? – и сельская молодежь, всегда старательно отвечающая на его вопросы, и на сей раз, пытаясь подстроиться под анатолийский диалект турецкого языка стоматолога, объяснила, что Кащей – сказочное существо из русских сказок, о нем снят отличный фильм. Русские прозвали его Кащеем Бессмертным, то есть не поддающимся смерти, так как сердце Кащея находится на острие иголки, игла – внутри яйца, яйцо – в животе утки, утка – в животе зайца, заяц – внутри сундука, а сундук висит на ветке могучего дуба, местонахождение этого здоровенного дуба знает только Кащей и охраняет его как зеницу ока.
Фейзи-бек остался доволен ответом, ему доставило удовольствие, что сердце Кащея хранится в столь надежном месте, ибо этот петух, прозванный Кащеем, на самом деле являлся каким-то мифическим существом, одолеть которого невозможно, и Фейзи-бек был на сто процентов уверен, что, окажись Кащей в Стамбуле, ни одному петуху из знаменитого района Таксим не сравниться с ним.
Дело в том, что петух Зарбалы, то есть Кащей, был героем номер один петушиных боев приморских сел этой части Апшерона, и на его бои с другими петухами собиралось столько народа, что страстный любитель петушиных боев мясник Мирза-ага как-то воскликнул:
– Эй, кореш, Зарбала, ты уж цени Кащея!.. Чтоб мне провалиться на этом месте, я за всю свою жизнь не видел, чтобы прибегало столько народу поглазеть на бой петухов!..
Служивший в советское время милиционером заика Сафар, разгонявший прежде сельскую публику, собиравшуюся на петушиные бои, не позволяя заключать на деньги пари, уводивший зрителей в милицейское отделение (впрочем, освобождая их после короткой профилактической беседы) и превратившийся после развала Советского Союза в полицейского, стал в одночасье ярым болельщиком петушиных боев, приняв позу умудренного жизнью человека, тоже подхватывал:
– Б… бра… тан говорит правду! Ты уж цени К… К… Кащея!..
Всякий раз, когда Кащей, бросившись вперед, наносил сопернику очередной разящий удар, окружавшие площадку сельчане кричали:
– Молодец!..
– Ей-богу, это не петух, а Тайсон, Тайсон!..
– Провалиться мне на этом месте, он вылупился не из куриного, а орлиного яйца!
Заведующий эпидемиологической станцией на селе Музаффар, три раза подряд выдвигавший свою кандидатуру в депутаты Азербайджанского национального меджлиса, он, так и не избранный, но до сих пор не павший духом, в 1971 году занял четвертое место на чемпионате СССР по тяжелой атлетике. Не сдержавшись, и он подхватывал:
– Спасибо, Зарбала!.. Слава тебе! – словно на арене бился не Кащей, а сам Зарбала.
Разумеется, эти восклицания приносили Зарбале удовлетворение и почет, но и без того в его сердце была большая, величиной в Кащея гордость, мало того, что он ценил Кащея, этот петух, после сына Гюльбалы, для него был самым дорогим, самым любимым, самым достойным существом на свете.
Четырехлетний Гюльбала был единственным и, понятно, последним ребенком, родившимся после семилетнего брака Зарбалы и Амины. В лице Кащея судьба улыбнулась и Гюльбале, в том смысле, что его родители – Зарбала и Амина – теперь не испытывали трудности с приобретением для сына высококачественных импортных продуктов.
Держащие пари на петушиных боях болельщики доверяли деньги дяде Ибаду, поначалу выполнявшему обязанности кассира. Тот из них, кто выигрывал, довольный, совал деньги в карман, проигравшие же, глядя на Кащея, говорили:
– Все – честь по чести!
Когда бился Кащей, призовые у победителей были небольшие. Как правило, болельщики ставили на Кащея, но при всем при том Зарбала зарабатывал столько, что в те времена, когда он, обходя дом за домом, предлагал различные препараты против муравьев, мух, комаров, крыс, такое ему не могло даже присниться, и, отлично сознавая, кому он обязан этими деньгами, отправлялся на базар, приобретал для Кащея отборную пшеницу, ячмень, крупу, а порой, когда заработок был особенно весом, даже полкило кишмиша, и только после совершал покупки по дому. Денег, что приносил Кащей, хватало до конца недели, до следующей субботы. Еще же одна победа Кащея в очередную неделю обеспечивала последующие расходы. Именно с Кащеем семья Зарбалы наконец-то стала жить по-человечески.
После каждого боя гребень и клюв Кащея часто бывали в крови, и Зарбала, держа его под мышкой, прижигая йодом раны петуха, с откровенной гордостью приговаривал:
– Паря, да за всю жизнь меня никто так аккуратно не прижигал йодом.
А Кащей своим благодарным клекотом словно подтверждал сказанное хозяином. До сих пор он ни разу не терпел неудачу, и не только Зарбала, но и все любители петушиного боя в этой части Апшерона были на все сто процентов убеждены, что Кащей никогда не будет побежден.
В боях участвовали и другие породистые бойцовские петухи, их яйца привозили из Турции, Грузии, Ирана, с Украины, клали под куриц-наседок, и, как только вылупливались цыплята, растили их по специальной методике. Но на селе, видимо, считая Фиделя Кастро одним из самых сильных людей планеты, поговаривали, что яйцо, из которого вылупился Кащей, было привезено аж с самой Кубы.
И когда Зарбалу спрашивали, верно ли, что Кащей родом с Кубы, Зарбала недоуменно глядел на задавшего вопрос и, протягивая обе руки, указывал на Кащея:
– Эй, кореш, разве сам не видишь?
То есть то, что Кащей прибыл с Кубы, ясно как солнечный день. Казалось, даже сам Зарбала тоже начинал искренне верить, что Кащей по происхождению с Кубы.
Кащей же, ясное дело, не имел никакого отношения к Кубе. Однажды Амина – жена Зарбалы – как-то сказала ему:
– Наша курица клохчет, пойди на базар, купи пяток яиц, подложим под нее.
И он купил на базаре пять штук свежих яиц, Амина подложила их под наседку, которая сама не несла яиц, и именно из одного из них пожаловал на божий свет Кащей.
Но об этой истории появления на свет Кащея никто, кроме Зарбалы и Амины, разумеется, не знал. И, наверное, никогда не узнает, ибо насколько всей душой Зарбала был привязан к Кащею, так и Амина была столь же благодарна Кащею. И не только потому, что Кащей приносил в дом существенные средства (это само собой, и если говорить словами Нисы – тетки Амины по матери, жены дяди Ибада, «Да хранит Аллах жизнь Кащея!») – оттого, и это было для Амины самым главным: как только явился Кащей, произошло непостижимое ничьим разумом событие – внезапно, в одночасье Зарбала бросил пить.
До появления Кащея иногда бывали вечера, когда не было смертей и потерь, а следовательно, и поминок, и в их селе, да и в соседних селах не устраивались поминальные церемонии, на которых должен был присутствовать священнослужитель. Тогда мулла Зейдулла брал из составленной за долгие годы личной библиотеки какую-нибудь книгу, еще раз перелистывал, перечитывал газели классических поэтов Востока, комментарии к ним, или же мудрые высказывания, изречения просветителей прошлого, затем, спустившись, прохаживался по двору. В его сердце рождалось желание поделиться с кем-нибудь своим отношением к этой гениальной поэзии, к этим мудрым фразам и комментариям к ним, затем садился на лавочку у входа в дом, пил в одиночестве чай, и, как всегда, перебирая четки, пробурчал про себя:
– У всех соседи как соседи, можно вместе попить чаю, вести беседы, а мой сосед, пожалуйте, – пьяница.
И на самом деле, до Кащея Зарбала именовался «пьянчугой Зарбалой», и Амина от смущения и стыда из-за непутевого мужа не только редко ходила в магазин, даже купалась, согревая воду в доме, так как когда она решалась отправиться в сельскую баню, местные кумушки, глядя на ее прекрасное тело, сожалеюще бросали: «Эй, милая, разве не знаешь, не задалось с начала – не сложится никогда, отчего не прихватишь ребенка и не вернешься в отцовский дом? Разве этот пьянчуга ровня тебе?..». И мать Амины, нечасто захаживая к дочери, не умея сдержать себя, качала головой: «Люди, выдав дочь замуж, обретают зятя. Мы же, выдав дочь, обрели только одну маету!»
В те времена Амина и без того была в обиде на жизнь, и у нее не было никакого желания объяснять что-то не только болтавшим бог знает, что сельским кумушкам, но даже родной матери. Во-первых, потому что Зарбала – отец ее единственного сына, света ее очей. Во-вторых, откуда им знать, что за человек Зарбала, какое сокровенное у него сердце, и разве видели вы, как посреди ночи, осторожно поднявшись с постели, он проходит на кухню и, не будучи накануне выпившим, плачет в одиночестве? А Амина видела, причем не раз и не два, а бог знает, сколько раз. Правда, Зарбала об этом не знал, не ведал того, что, когда, проснувшись среди ночи, стараясь не шуметь, он проходит на кухню и там, сидя на деревянной табуретке, покуривая сигарету, плачет, Амина тоже просыпается, прислонившись в темноте к косяку кухонной двери, незаметно глядит на него, и в такие минуты горечь душит и ее.
Горечь комом подступала к горлу, прямо душила Амину, и когда она, выкупав Гюльбалу, переодевала его в чистое выглаженное белье, и когда вдруг до нее доносился запах треклятых дезинфицирующих средств в мешке на веранде, и Амина сама не могла понять, отчего ей хочется разрыдаться, отчего горечь подступает к горлу, душит ее.
И однажды, в один из прекрасных дней, когда этот бойкий цыпленок, родословная которого была неизвестна, подрос, превратился в Кащея, тогда же произошло нежданное событие – Зарбала расстался с пагубной страстью к водке, что, камнем повиснув на шее, затягивала его на самое дно жизни, выбросил к чертям тот презренный мешок с дезинфицирующими средствами и стал хозяином Кащея – петуха, известного во всех ближних селах этой части Апшерона.
До Кащея, в летние месяцы, раз или два в неделю, все зависело от спроса, рано утром он садился в электричку, приезжал, закупал в оптовых магазинах Баку различные препараты, уничтожающие комаров, мух, муравьев, крыс, а также лекарственные средства против болезней деревьев, кустарников, цветов, собрав их в тот самый ненавистный мешок, возвращался назад, сначала зайдя в кафе мясника Мирзааги, выпивал 150 грамм водки – свою дневную норму, и только после этого в поисках клиентов обходил садовые участки, подступающие к селу, а также недавно возведенные бакинскими богатеями виллы; все, что происходило позже, помнилось ему смутно, так как, посетив вторично кафе Мирзааги, он выпивал еще 150 грамм.
В зимние же месяцы он в основном помогал торгующим рыбой перекупщикам, то есть, стоя на обочине магистральной дороги, ведущей в Баку и обратно, подняв над головой доверенных ему рыбин, предлагал их водителям и пассажирам легковушек и автобусов, получая небольшой барыш от этого незамысловатого посредничества.
И вдруг нежданно-негаданно на этом подлом свете объявился Кащей.
И разом все переменилось…
Все переменилось, но Зарбала никоим образом не воспринимал Кащея как источник дохода, он от всего сердца искренне любил петуха, и эта любовь была взаимной. Ясное дело, Кащей ничего не знал о предшествующей жизни Зарбалы, и когда хозяин держал его на своих коленях, то петух терся о его ладонь с такой нежностью и добротой, будто не он был грозой всех петухов Апшерона.
3
Вышедшего в отставку полковника медицинской службы Джафарова на селе все звали доктором; врачей было много, но когда произносили слово «доктор», все понимали, что речь идет именно о Джафарове. В последнее время он был недоволен состоянием своего здоровья, ломило суставы рук и ног, одолевала одышка, и он, хотя и занимался самолечением, часто повторял про себя по-русски: «Старость не радость». То есть старость – дурацкая штука, и на этом свете следует быть таким графоманом, как мулла Зейдулла, чтоб в его-то годы, вместо того чтобы заботиться о здоровье, есть насыщенную холестерином жирную баранину и в век космоса и Интернета кропать бессмысленные стишата о розах и соловьях, о Лейли и Меджнуне.
В советское время доктор Джафаров был (во всяком случае, так ему казалось) убежденным коммунистом, ежемесячно как член КПСС аккуратно платил членские взносы, искренне, трепетно относился к партийному билету. Но когда по приказу Михаила Горбачева 20 января 1990 года в Баку ввели войска для подавления якобы антисоветского мятежа и эти войска стали безжалостно расстреливать невинных людей, он в знак протеста выбросил партбилет.
Правда, через какое-то время он забрал партбилет обратно, но уже не являлся, как прежде, убежденным коммунистом. Затем развалился Советский Союз, и стало ясно, что КГБ, однопартийность, коммунистические идеалы – все это пустое, тлен и прах, и один человек – Горбачев – может разрушить столь могучее государство. Но с годами доктор Джафаров в этом свободном мире, сорвавшем оковы коммунизма, понемногу снова начинал как бы становиться убежденным коммунистом. И ему стало казаться, что подобно тому, как в далеком детстве его покойная бабушка делилась с внуками прекрасными воспоминаниями о николаевском времени, то есть об эпохе, предшествовавшей Советскому Союзу, так и он когда-нибудь, собрав вокруг себя внуков и правнуков, станет делиться с ними замечательными воспоминаниями о советском прошлом.







