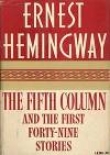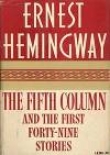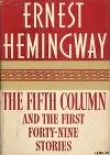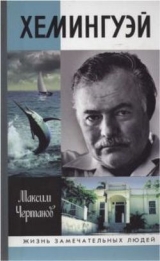
Текст книги "Хемингуэй"
Автор книги: Максим Чертанов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 45 страниц)
Глава четырнадцатая КРАСНАЯ ЖАРА
Европейские коммунисты в XX веке тратили значительно больше энергии на борьбу с попутчиками, нежели с врагами. Одни историки считают, что такова природа коммунизма, другие – что такова природа людей вообще, третьи – что это в каждой стране объяснялось своими причинами; так или иначе в Испании вместо двух противоборствующих сторон образовалось три. Руководство республики (не употребляем термин «правительство», ибо прокоммунистические и антикоммунистические историки сходятся на том, что все испанские правительства в период гражданской войны были в большей или меньшей степени марионеточными, а фактическую власть осуществляли КПИ, выросшая с 20 тысяч человек в 1936-м до 300 тысяч, представители Коминтерна и СССР) воевало теперь не только с Франко, но и со своими товарищами в Каталонии. Почему?
В 1936 году в Испании складывалась своеобразная модель государства с тенденцией к самоуправлению. Влиятельнейшей силой была НКТ (Национальная конфедерация труда) – анархо-синдикалистское движение, отстаивавшее идеи муниципального самоуправления и организацию профсоюзов «снизу». (Корень «анархо» не должен сбить нас с толку: представляйте не опереточных сумасшедших под черным флагом, а суровых мужиков из профсоюза какой-нибудь угольной шахты в Кемерове.) Не всем представителям Народного фронта подобная система была по душе. Если описать ситуацию упрощенно, то одна сила – НКТ, левые социалисты и ПОУМ – хотела «власти трудящихся», то есть развития профсоюзного самоуправления, другая – коммунисты, либералы-центристы и правые социалисты – такой власти боялись (профсоюзы – страшная сила: в СССР недаром сделали всё, чтобы превратить их в игрушку), а желали похожей на ту, что установилась в СССР в 1930-х – централизованной власти партийно-бюрократического аппарата и органов госбезопасности; первые стремились к коллективизации экономики, вторые – к ее огосударствлению. Получилась удивительная ситуация, о которой писал Оруэлл: «Коммунисты занимали в рядах правительства место не на крайне левом, а на крайне правом фланге. В действительности ничего удивительного в этом не было, ибо тактика коммунистических партий… показала, что официальный коммунизм следует рассматривать, во всяком случае в данный момент, как антиреволюционную силу». В Мадриде к весне 1937 года власть перешла в руки коммунистов и их «правых» союзников. В Барселоне все было иначе.
Каталония, одна из наиболее развитых промышленных областей, давно стремилась к автономии и получила ее 25 сентября 1932 года: парламент, государственный язык. Формально власть там находилась в руках многопартийного Женералитата, правительства во главе с каталонским националистом Компанисом, которого поддерживала правая ОСПК (Объединенная социалистическая партия Каталонии), но на деле самой влиятельной силой была НКТ: она установила контроль над национализированными ею же предприятиями и сельскохозяйственными кооперативами. После франкистского мятежа процесс перехода власти к профсоюзам и разным советам самоуправления в Барселоне пошел еще быстрее: в руках рабочих частично находились транспорт и связь, порядок поддерживали вооруженные дружины. Оруэлл: «У нас не было класса хозяев и класса рабов, не было нищих, проституток, адвокатов, священников, не было лизоблюдства и козыряния. Я дышал воздухом равенства и был достаточно наивен, чтобы верить, что таково положение во всей Испании. Мне и в голову не приходило, что по счастливому стечению обстоятельств я оказался изолированным вместе с наиболее революционной частью испанского рабочего класса».
Сторонникам централизации это было не по душе: в войну нельзя заниматься социальными преобразованиями, напротив, любая война – предлог для их свертывания. Коммунисты утверждали, что НКТ отвлекала население от борьбы с Франко, саботировала мобилизацию, а если ее сторонники все же оказывались на фронте, то вели себя как трусы, предатели и клинические идиоты, не мылись, не брились и день-деньской играли с противником в футбол. Последнее фактами не подтверждается, но мобилизации «самоуправляющиеся» трудящиеся действительно сопротивлялись, предпочитая организовывать партизанские отряды; впрочем, вся республиканская армия, за редким исключением, не отличалась дисциплиной.
Одним из предприятий, которое контролировали барселонские рабочие, была телефонная станция – это давало им возможность прослушивать переговоры между Мадридом и Москвой, что, по мнению отдельных историков, и послужило поводом расправиться с Барселоной. В конце апреля на заседании исполкома ЦК ОСП К было принято решение о захвате станции, и 3 мая подразделения Гражданской гвардии предприняли ее штурм. В тот же день НКТ и руководству правительства удалось достичь соглашения об отводе гвардейцев, но параллельно с этим Салас, начальник каталонской полиции и член ОСП К, приказал разоружать рабочие патрули. Требование НКТ об отставке Саласа власти отклонили. В ответ была объявлена забастовка, выросли баррикады, началась стрельба с обеих сторон. (Существуют мнения, что беспорядки были спровоцированы по приказу Орлова или, напротив, по приказу Франко.) Кабальеро отказался посылать в Барселону войска – разберутся сами, но коммунисты, в том числе советские, настаивали на силовом подавлении беспорядков.
Это было важно для них, возможно, не столько из-за НКТ, сколько из-за другой левой партии в Барселоне – ПОУМ (которую Оруэлл охарактеризовал как «одну из тех раскольничьих коммунистических партий, которые появились в последнее время во многих странах как оппозиция сталинизму»): она занимала непримиримые позиции в отношении КПИ и резко критиковала Сталина. ПОУМ называют «троцкистской» партией, и она когда-то была ею, но в 1933-м переменила платформу и вышла из так называемого «троцкистского» IV Интернационала. Тем не менее в 1935-м ее лидеры Андрес Нин и Хулиан Горкин ходатайствовали перед каталонскими властями, чтобы беглый Троцкий мог жить в Барселоне. В феврале 1936-го секретариат Коминтерна отдал распоряжение КПИ вести «борьбу против контрреволюционной троцкистской секты», а в декабре (то есть за полгода до майских событий) международную кампанию против ПОУМ развернула «Правда»: «В Каталонии началось уничтожение троцкистов и анархо-синдикалистов: их будут истреблять до победного конца с той же энергией, с какой их истребляли в СССР».
Лидеры ПОУМ считали, что нужно требовать роспуска правительства и брать власть, НКТ, организация более мирная, предлагала вести переговоры. В итоге никто не понимал, что надо делать, а меж тем правое (то есть коммунистическое) крыло в мадридском правительстве взяло верх над премьер-министром, и 7 мая в Барселону вошли войска, по дороге разоружавшие отряды ополчения НКТ и ПОУМ. В городских боях погибло около пятисот человек, более тысячи были ранены.
Официальная версия гласила, что «троцкисты и анархисты», «банда провокаторов на службе у международного фашизма», подняли мятеж, чтобы «всадить нож в спину республиканского правительства». В распространении этой дезинформации ведущая роль принадлежала Кольцову: в его «Испанском дневнике» утверждалось, будто в Барселоне действовала фашистская организация. Сталинское (по недоразумению продолжавшее называться советским, хотя от Советов там остались рожки да ножки) государство учило, как расправляться с врагом: сразу после подавления восстания Орлов приказал генеральному директору по вопросам безопасности коммунисту Ортеге подписать, минуя министра внутренних дел, ордера на арест профсоюзных активистов. Количество арестованных оценивается разными исследователями в 10–15 тысяч, ряд активистов, в том числе Нин, были бессудно казнены. 15 июня деятельность ПОУМ была запрещена. Далее КПИ потребовала от Кабальеро ликвидации всех антисталинских группировок и установления контроля над СМИ, тот отказался, после чего был вынужден уйти в отставку и его сменил Негрин, поддерживавший коммунистов. Это была полная и окончательная победа контрреволюции: представители НКТ арестовывались, исключались из муниципальных советов, профсоюзы были разогнаны, земли сельских коммун возвращены помещикам. (Проиграл и каталонский Женералитат: его сменило марионеточное правительство, управляемое из Мадрида.) Европейская интеллигенция, в начале войны относившаяся к республиканцам лояльно, стала от них отворачиваться; особенно много протестов вызвало убийство Нина.
«– Я думал, что вы против метода политических убийств.
– Мы против индивидуального террора, – улыбнулся Карков. – Конечно, мы против деятельности преступных террористических и контрреволюционных организаций. Ненависть и отвращение вызывает у нас двурушничество таких, как Зиновьев, Каменев, Рыков и их приспешники [35]35
В подлиннике: «Ненависть и отвращение вызывают у нас двурушничество и подлость кровавой банды бухаринских гиен и таких отбросов человечества, как Зиновьев, Каменев, Рыков и их приспешники».
[Закрыть]. Мы презираем и ненавидим этих людей. – Он снова улыбнулся. – Но все-таки можно считать, что метод политических убийств применяется довольно широко.
– Вы хотите сказать…
– Я ничего не хочу сказать. Но, конечно, мы казним и уничтожаем выродков, накипь человечества. Их мы ликвидируем. Но не убиваем. Вы понимаете разницу?
– Понимаю, – сказал Роберт Джордан».
Хемингуэй прибыл в Мадрид в конце августа (его сопровождала Марта, с которой он воссоединился в Париже), поселился в той же «Флориде», посещал тот же «Гэйлорд». Разумеется, знал о событиях в Барселоне. Он писал о таких событиях три года назад: «Пусть не говорят о революции те, кто пишет это слово, но сам никогда не стрелял и не был под пулями… кто никогда не голодал ради всеобщей стачки и не водил трамваи по заведомо минированным путям». Неизвестно, говорил ли он с Кольцовым о Барселоне, но в романе такой разговор есть:
«– Посмотрели бы вы, что делается в Барселоне! (реплика Каркова. – М. Ч).
– А что?
– Самая настоящая оперетта. Сначала это был рай для всяких психов и революционеров-романтиков. Теперь это рай для опереточных вояк. Из тех, что любят щеголять в форме, красоваться, и парадировать, и носить красные с черным шарфы. Любят все, что связано с войной, не любят только сражаться! От Валенсии становится тошно, а от Барселоны смешно.
– А что вы думаете о путче ПОУМ?
– Ну, это совершенно несерьезно. Бредовая затея всяких психов и сумасбродов, в сущности, просто ребячество. Было там несколько честных людей, которых сбили с толку. Была одна неглупая голова и немного фашистских денег. Очень мало, бедный ПОУМ. Дураки все-таки.
– Много народу погибло во время этого путча?
– Меньше, чем потом расстреляли или еще расстреляют. ПОУМ. Это все так же несерьезно, как само название. Уж назвали бы КРУП или ГРИПП. Хотя нет. ГРИПП гораздо опаснее. Он может дать серьезные осложнения. Кстати, вы знаете, они собирались убить меня, Вальтера, Модесто и Прието. Чувствуете, какая путаница у них в голове? Ведь все мы совершенно разные люди. Бедный ПОУМ. Они так никого и не убили. Ни на фронте, ни в тылу. Разве только нескольких человек в Барселоне.
– А вы были там?
– Да. Я послал оттуда телеграмму с описанием этой гнусной организации троцкистских убийц и их подлых фашистских махинаций, но, между нами говоря, это несерьезно, весь этот ПОУМ. Единственным деловым человеком там был Нин. Мы было захватили его, но он у нас ушел из-под рук.
– Где он теперь?
– В Париже. Мы говорим, что он в Париже. Он вообще очень неплохой малый, но подвержен пагубным политическим заблуждениям.
– Но это правда, что они были связаны с фашистами?
– А кто с ними не связан?
– Мы не связаны.
– Кто знает. Надеюсь, что нет. <…>
– Мне больше нравится на фронте, – сказал тогда Роберт Джордан. – Чем ближе к фронту, тем люди лучше».
В первых числах сентября Хемингуэй с Мартой и Гербертом Мэттьюзом выехал туда, где люди лучше, – на Арагонский фронт, где республиканцам удалось взять город Бельчите (но у них не хватило сил для нанесения удара противнику). Успешно действовал батальон Линкольна: «Заключительную атаку возглавил Роберт Мерримен, в прошлом профессор Калифорнийского университета, а теперь начальник штаба Пятнадцатой бригады. Давно не бритый, с черным от дыма лицом, он пробивал себе путь фанатами и, хотя был шесть раз ранен осколками в обе руки и в лицо, не ушел на перевязку, пока не взял собор».
Затем провели несколько недель там, где люди хуже – «Именно в те дни, думал он, ты испытывал глубокую, разумную и бескорыстную гордость, – каким скучным дураком ты показался бы со всем этим у Гэйлорда, подумал он вдруг» – а в начале октября побывали на фронте под Брунете, где республиканцы еще в июле ценой страшных потерь остановили наступление противника и отсрочили его прорыв на севере страны. Хемингуэй убеждал читателей, что дела республиканцев идут на лад: «Если так и будет продолжаться, Франко придется выделять все новые и новые воинские части, чтобы сдерживать малые наступления Республики. Чтобы повысить свой престиж за границей, а вместе с тем укрепить свой кредит, он будет, наверное, двигаться вдоль побережья, занимая города, не имеющие важного стратегического значения, но зато известные всем по названию; или ему придется вновь атаковать Мадрид и дорогу на Валенсию; с этим можно тянуть, но в конечном счете от этого ему не уйти. Мое личное мнение, что, войдя в Мадрид и не сумев его взять, Франко проиграл; он увяз в Мадриде».
Батальон Линкольна был ударной силой в большинстве боев лета – осени 1937-го; его будущий (и последний) командир, 21-летний Милтон Уолф, во время краткого отпуска в Мадриде познакомился с Хемингуэем. 38-летний писатель был в восторге от юноши, сравнивал его с Линкольном и Вашингтоном. Впечатления Уолфа противоречивы: он вспоминал, что собеседник «всех заражал оптимизмом», но и раздражал: «Хемингуэй пытался показать, что знает о сражении под Брунете больше, чем я, простой солдат». «Эрнест во многих отношениях как ребенок, – писал он другу. – Ему хочется быть мучеником… Таковы литераторы. Я предпочитаю читать их, а не общаться с ними».
Литераторы, к счастью, тоже иногда предпочитают не общаться, а писать: в октябре, когда в Штатах вышел и был раскритикован роман «Иметь и не иметь», его автор уже работал в Мадриде над пьесой «Пятая колонна» (The Fifth Column). Если не считать пьески «Сегодня пятница», это был его первый драматургический опыт. В предисловии к «Пятой колонне» говорится: «Каждый день нас обстреливали орудия, установленные за Леганес и по склонам горы Гарабитас, и пока я писал свою пьесу, в отель „Флорида“, где мы жили и работали, попало больше тридцати снарядов. Так что, если пьеса плохая, то, может быть, именно поэтому. А если пьеса хорошая, то, может быть, эти тридцать снарядов помогли мне написать ее». Вообще-то в Мадриде в тот период было затишье и в другом тексте Хемингуэй писал о тогдашних проблемах: «Пива не хватает, и виски почти нигде не найдешь. В витринах выставлены испанские подделки ликеров, виски и вермута. Для внутреннего употребления они не годятся, но я купил одну бутылку с этикеткой „Милорд“, чтобы обтирать щеки после бритья», но это непринципиально: если автор ощущает себя так, словно около него каждый день рвутся снаряды, и сумеет передать это ощущение читателю, значит, так оно и было.
Что такое «пятая колонна»? Осенью 1936 года, когда франкисты четырьмя колоннами наступали на Мадрид, генерал Мола заявил, что у него имеется «пятая колонна» – шпионская и диверсионная агентура в тылу республиканцев. Для борьбы с этой «пятой колонной» и для координации деятельности разведывательных служб 9 августа 1937 года по распоряжению министра обороны, правого социалиста Индалесио Прието, была создана Служба военной информации, СИМ (Servicio de Information Militar), орган, копировавший организационную структуру, политику и методы НКВД. Впоследствии Прието (5 апреля 1938-го выведенный из правительства) утверждал, что, вопреки его намерениям, СИМ прибрали к рукам коммунисты и фактически этим органом управлял Орлов. В пьесе Хемингуэя СИМ называется «Сегуридад» (безопасность): это хорошая и правильная организация, хотя ее руководитель Антонио – зловещий тип. Бейкер написал, что Антонио – «глава мадридского отделения СИМ Пепе Кинтанилья», и биографы повторяют эту ошибку, возможно, потому, что американцы принципиально не читают ничего; что написано не на английском языке, ибо из испанских и французских источников известно, что Кинтанилья такого поста не занимал. Главой СИМ был Анхель Диас Баса, потом на этом посту сменилось еще несколько человек, а первым начальником мадридского отделения был друг Хемингуэя Густаво Дуран.
Они познакомились в Париже в 1930-х – тогда Дуран был студентом консерватории, потом стал композитором и музыкальным критиком. С началом гражданской войны он вернулся на родину, вступил в республиканскую армию, дослужился до майора, руководил в составе 11-й Интербригады 69-м смешанным дивизионом, участвовал в нескольких значительных сражениях. Летом 1937 года, когда его часть отошла с фронта, Прието назначил его главой мадридского отделения СИМ: если верить Прието, Дуран набрал в штат одних коммунистов и министр уже через несколько недель его снял, заменив на правого социалиста Анхеля Педреро Гарсию. Орлов, по словам Прието, стоял за Дурана, так что они поссорились, а вскоре по настоянию Орлова был снят и сам Прието – но Педреро уже нашел с Орловым общий язык и оставался на посту до конца войны. Дуран же вернулся в армию, стал полковником, командовал 47-й дивизией, принимал участие в битве за Теруэль и обороне Валенсии. После войны бежал в Англию, затем перебрался в США, вернулся к мирной специальности, а в 1950-х предстал перед комиссией сенатора Маккарти, которая, как считает абсолютное большинство изыскателей, несправедливо заподозрила его в службе в СИМ. Однако факт этой службы подтверждают как Прието, так и сменщик Дурана, после войны осужденный правительством Франко. Но все для Дурана обошлось и он потом служил уже в американской разведке, а после Второй мировой работал в ООН. Так неужели Хемингуэй «списал» Антонио со своего друга? Вряд ли; скорее всего, зверский шеф контрразведки – образ собирательный…
Шпионские группы на республиканской территории, для борьбы с которыми была создана СИМ, реально существовали, хотя до сих пор неясно, велик ли был их вклад вдело Франко. Но СИМ боролась также с диссидентами. Термин «пятая колонна» использовался официальной пропагандой для обоснования террора. «Пятой колонной» были не только шпионы Франко, но и все, кто мешал мадридскому руководству – например «троцкисты». Хемингуэеведов почтение героя к СИМ, Кольцову и коммунистам смущает, и они, комментируя «Пятую колонну» и вообще деятельность Хемингуэя в Испании, пытаются создать впечатление, что он политикой не интересовался. Мейерс пишет, что ему «была скучна политика» и что, «подобно большинству художников, его занимало наблюдение за жизнью и использование этих наблюдений для своего творческого развития»; Майкл Рейнольдс утверждает, что он был «одним из наименее политизированных обозревателей того времени». Написание «Пятой колонны» объясняют тем, что Хемингуэю были нужны деньги (его последние книги продавались не очень хорошо, а для «Эсквайра» он писать бросил), что он мечтал о бродвейских подмостках и, наконец, что ему было нечем заняться. Но если это было так – почему он написал пьесу не о матадорах, а о СИМ?
Филип Роулингс, герой «Пятой колонны» – американский журналист, по совместительству работающий на «Сегуридад»: сам разоблачает шпионов, сам ловит. Биографы полагают, что Хемингуэй писал о себе, то есть о своей детской мечте быть «рыцарем плаща и кинжала», и воображал, как бы он развернулся, если бы глава СИМ предложил ему работу (впоследствии он рассказывал, что такое предложение было и что он выполнял некие секретные задания; ни один биограф в это не верит, ибо в СИМ сидели не идиоты); Филип – это «голливудизированный» Эрнест.
Пьеса начинается с того, что боец республиканской армии (американец) упустил шпиона, и Роулингс его отчитывает:
«1-й боец. Товарищ комиссар, пожалуйста, выслушайте меня. Я хочу сказать вам…
Филип. Вы дали уйти человеку, который мне был нужен. Вы дали уйти человеку, который мне был необходим. Вы дали уйти человеку, который пошел убивать.
1-й боец. Товарищ комиссар, пожалуйста…
Филип. Пожалуйста – неподходящее слово для солдата.
1-й боец. Я не настоящий солдат.
Филип. Раз на вас военная форма, значит, вы солдат.
1-й боец. Я приехал сюда, чтобы сражаться во имя идеала.
Филип. Все это очень мило. Но послушайте, что я вам скажу. Вы приезжаете сражаться во имя идеала, но при первой атаке вам становится страшно. Не нравится грохот или еще что-нибудь, а потом вокруг много убитых, – и на них неприятно смотреть, – и вы начинаете бояться смерти – и рады прострелить себе руку или ногу, чтобы только выбраться, потому что выдержать не можете. Так вот – за это полагается расстрел, и ваш идеал не спасет вас, друг мой».
Потом выясняется, что боец – не предатель, он заснул от усталости, и Роулингс заступается за него на допросе в «Сегуридад», куда сам его и приволок:
«Антонио. Я хотел бы задать несколько вопросов.
Филип. Слушайте, mi coronet [36]36
Мой полковник (исп.).
[Закрыть]. Если бы вы считали меня непригодным к этим делам, вы бы мне их больше не поручали. Этот парень совершенно чист. Вы сами знаете, никого из нас нельзя назвать чистым в полном смысле слова. Но этот парень чист. Он просто заснул, а я ведь, знаете, не судья. Я просто работаю у вас ради идеи и ради Республики и тому подобное. А у нас в Америке был президент по имени Линкольн, который смягчал приговоры часовым, заснувшим на посту и присужденным за это к расстрелу. Так вот, если вы не возражаете, давайте, так сказать, смягчим и этому приговор. Он, видите ли, из батальона Линкольна – а это очень хороший батальон… <…> Теперь вот что, товарищ… (Оборачиваясь к арестованному.) Если вы еще когда-нибудь заснете на посту, выполняя мое задание, я сам пристрелю вас, понятно?»
Боец спасен, ведь Роулингс такой уважаемый человек, что шеф «Сегуридад» слушается его, как овечка. Правда, это только в русском переводе так: в подлиннике Антонио, когда Роулингс ушел, снова приказал привести бойца и пытать его…
Далее шпион вторгается в номер Роулингса и убивает человека, приняв его за хозяина (тот чувствует вину); потом немец-коммунист Макс дает Роулингсу наводку на гнездо диверсантов; параллельно происходят сцены из личной жизни героя. Его любят брюнетка Анита и блондинка Дороти (похожая на Марту и на Полину): «Она ленива, избалована, даже глупа и страшная эгоистка. Но она очень красивая, очень милая, очень привлекательная и даже честная – и, безусловно, храбрая». Дороти уговаривает Роулингса бросить войну: «Филип, неужели тебе не хотелось бы поселиться в каком-нибудь местечке вроде Сен-Тропе, – то есть вроде прежнего Сен-Тропе, – и жить там долго-долго мирной счастливой жизнью, – много гулять, и купаться, и иметь детей, и наслаждаться счастьем, и все такое? Я серьезно говорю. Неужели тебе не хочется, чтобы все это кончилось? Война, и революция, и все прочее?»
Роулингс не железный, он страдает. «Я устал, и я вконец измучен. Знаете, чего бы мне хотелось? Мне бы хотелось никогда, во всю свою жизнь, не убивать больше ни одного человека, все равно кого и за что. Мне бы хотелось никогда не лгать». Но Макс, положительный герой-резонер, приводит его в чувство:
«Филип. Мне все опротивело. Знаешь, где бы я хотел очутиться? В каком-нибудь славном местечке вроде Сен-Тропе на Ривьере, проснуться утром, и чтобы не было войны, и чтобы принесли на подносе кофе с настоящим молоком… и бриоши со свежим клубничным вареньем, и яичницу с ветчиной. <…>
Макс. Ты работаешь, чтобы у всех был такой хороший завтрак. Ты работаешь, чтобы никто не голодал. Ты работаешь, чтобы люди не боялись болезней и старости; чтобы они жили и трудились с достоинством, а не как рабы.
Филип. Да. Конечно. Я знаю».
Потом диверсанты производят взрыв, Роулингс берет одного из них живым – это некий «штатский», подозрительно напоминающий Дос Пассоса.
«Штатский (истерически). Вы его убили!
Филип (презрительно). А ну-ка, помолчите, вы».
Штатского уводят на допрос в «Сегуридад» – эту сцену в русском переводе сократили, потому что выглядела она не слишком гуманно, оставили только конец:
«Макс. Как он держался?
Филип. Подло. Но вначале выкладывал не сразу, понемногу».
Цель достигнута: «штатский» выдал 300 шпионов и «пятая колонна» ослабела. Дороти опять просит уехать с ней, но Роулингс ее отвергает – ведь «впереди пятьдесят лет необъявленных войн, и я подписал договор на весь срок». Для серьезного художника, как Хемингуэй, «Пятая колонна» – вещь чудовищная: не из-за политики, она просто ужасно написана. Ходульный герой, которого домогаются красавицы, картонные коммунисты, диалоги как в плохих голливудских фильмах об СССР: «Товарищч!!! – Что тебе, товарищч?!!»; коммунист Милтон Уолф презрительно назвал ее «историей рыцаря плаща и кинжала», в которой «нет ничего похожего на подлинную войну», другие военные охарактеризовали как «слюнтяйство». Коммунист Майкл Голд, однако, хвалил: пьеса «доказывает, что мадридский опыт перевоспитал Хемингуэя». Перкинс заявил, что пьеса «растрогала» его и подтвердила, что автор «движется к новым горизонтам». Сам автор предчувствовал, что его работа не произведет впечатления, и по его настоянию она была издана не отдельно, а в составе сборника вместе с рассказами: рассказы хвалили, мнения о пьесе разошлись. Ее хвалил Каули, восторгавшийся всем, что выходило из-под пера Хемингуэя. Уилсон, открывший Хемингуэя миру, назвал ее «наихудшим образцом мифотворчества». Лайонел Триллинг писал, что она выражает иезуитский лозунг «цель оправдывает средства», Джон Рейберн нашел в ней «макиавеллиевское презрение к морали», Стивен Коч назвал «низшей точкой морального падения Хемингуэя, служившего Сталину и сталинскому террору», а Стэнли Пейн охарактеризовал Роулингса как «омерзительнейший образ американца в мировой литературе».
Пьеса была куплена нью-йоркской Театральной гильдией, но из-за финансовых трудностей поставлена только в 1940 году; голливудский сценарист Бенджамин Глейзер, которого его шурин Морис Спейсер «сосватал» Хемингуэю, ее переделал (доход они с Хемингуэем делили пополам), и она стала еще более глупой: упоминания о коммунистах выкинули по политическим причинам, по «моральным» – заставили Роулингса изнасиловать героиню (в пьесе она сперва приехала в Испанию с другим мужчиной и, если бы отдалась герою добровольно, то была бы нехорошей женщиной, а вот если женщина полюбила насильника, то она нормальная). Шла пьеса всего два месяца и, как впоследствии признался автор, не доставила ему ничего, кроме неприятностей. В 1952 году он писал о ней критику Бернарду Беренсону: «В то время она мне казалась хорошей, но, очевидно, это не так. Я тогда читал странную книжку какого-то англичанина, написанную необыкновенно плохим и в то же время эффектным языком, и, подобно жалкому хамелеону, я стал подражать ему».
Но почему Хемингуэй, зная о Барселоне, все же принял сторону СИМ? Он объяснял это тем, что коммунисты виделись ему единственной силой, способной победить Франко, а ради победы все средства допустимы. Но, думается, это был не столько осознанный выбор, сколько результат обстоятельств. В Барселоне он почти не был, деятелей НКТ и ПОУМ не знал, уличных боев не видел; окажись он волею случая с барселонскими рабочими, возможно, занял бы их сторону. Коммунисты же попадались на каждом шагу: Кольцов и его окружение, немцы из 11-й Интербригады, Реглер, Залка, Хейльбрун, Эррера, Дюран, подрывники, батальон Линкольна, режиссер Ивенс; он также познакомился с кубинскими коммунистами Хуаном Маринельо (будущим генсеком компартии Кубы), и Роландо Масферрером (будущим врагом коммунистов). Самым близким его другом-коммунистом стал Эдвин Рольф, поэт и журналист, выходец из рабочей семьи: его подлинная фамилия была Фишман и он не хотел знакомиться с Хемингуэем, будучи наслышан о его антисемитизме, но их же свел другой американский коммунист, Джо Норт, и завязалась дружба, которая продлится много лет. «Хемингуэй – своего рода мальчишка-переросток, очень симпатичный, – вспоминал Рольф. – Я загрузил их (с Мартой. – М. Ч.) пропагандой». «Загружали пропагандой» и другие – Ивенс, к примеру, утверждал, что Хемингуэй к концу 1937-го «полностью созрел для вступления в партию».
Закончив «Пятую колонну» в ноябре, Хемингуэй собрался уезжать домой, но задержался, потому что приехал Шипмен (он переправлял добровольцев в батальон Линкольна). В Мадриде делать было нечего: Кольцова отозвали в Москву, Дурана сняли с должности, секреты узнать не у кого. Он съездил на день в Барселону (уже управляемую коммунистами), оттуда в Валенсию, там узнал, что началось контрнаступление республиканцев под Теруэлем. После того как в сентябре – октябре франкисты заняли Астурию и таким образом полностью овладели севером страны, Теруэль стал важнейшим участком фронта. От него, расположенного между Мадридом и Валенсией, мог зависеть исход войны: если франкистам удастся наступление, они прорвутся к морю, отрежут Каталонию и выйдут в тыл защитникам Мадрида. Ликвидация же Теруэльского выступа позволяла республиканским войскам обезопасить Валенсию, сократить линию фронта и лишить противника выгодного плацдарма. (Между прочим, теруэльский фронт держали в основном недобитые троцкисты и анархо-синдикалисты.)
В Барселоне он встретил Эренбурга: «Проснулся я оттого, что кто-то меня тряс: надо мной стоял Хемингуэй. „Ну что, возьмут Теруэль? – спросил он. – Я туда еду с Капой“. В дверях стоял мой друг фотограф Капа (он погиб во время войны в Индокитае). Я ответил: „Не знаю. Началось хорошо… Но говорят, что фашисты подтягивают резервы“. Я окончательно проснулся и в ужасе посмотрел на Хемингуэя – он был одет по-летнему. „Ты сошел с ума – там собачий холод!“ Он засмеялся: „Топливо со мной“, – и начал вытаскивать из разных карманов фляги с виски. Он был бодрым, улыбался: „Конечно, трудно… Но их все-таки расколотят…“ Я дал ему имена испанских командиров, сказал, чтобы он нашел Григоровича: „Он тебе поможет“. Мы распрощались на испанский лад – похлопали друг друга по спине».
На 18 декабря было назначено наступление франкистов на Гвадалахару и Мадрид, но в ночь с 14-го на 15-е подразделения республиканской армии под командованием Листера начали контрнаступление; 18-тысячная группировка войск Франко была окружена. 17-го Хемингуэй, Мэттьюз и Капа выехали на линию фронта, а 19-го вошли в Теруэль с первыми республиканскими частями. (Там сражался и Милтон Уолф.) Потом съездили в Мадрид и вернулись, прихватив с собой еще Делмера. О Теруэле Хемингуэй написал три корреспонденции для НАНА, был в восторге: «На фоне ландшафта, ледяного, как гравюра на стали, неистового, как снежная буря в Вайоминге или ураган на открытом горном плато, шло это, быть может, решающее в ходе войны сражение».