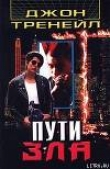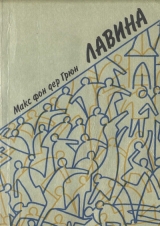
Текст книги "Лавина"
Автор книги: Макс фон дер Грюн
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
Позднее он сказал прокуристу Гебхардту:
– Этот человек – гений, но никто не должен об этом знать, и меньше всего он сам, иначе сгодится лишь на роль чернорабочего.
К тому времени Манфред Шнайдер уже женился на соседской девушке, которая была на три года его моложе. Когда ей исполнилось шестнадцать лет, он в садовом домике ее родителей лишил свою подружку невинности, и она забеременела. Родители девушки не захотели смириться с таким позором, поэтому пришлось узаконить отношения свадьбой. Жена Шнайдера уволилась из магазина спортивных принадлежностей, где числилась ученицей, и радовалась замужеству. С тех пор всю свою энергию она отдавала строительству семейного гнездышка, а поскольку Шнайдер в это время зарабатывал еще не слишком много, «строительство» шло туго. Позже, когда он стал пользоваться покровительством Бёмера и получать намного больше тарифной ставки, обустройство гнездышка сделалось для его жены легче. Она покупала все, что было дорого и безвкусно. Девочка, которую супруги назвали Матильдой, стала центром внимания в их квартире площадью девяносто квадратных метров. Семейная жизнь отвечала привычным канонам: муж зарабатывает деньги, жена ведет хозяйство.
Все шло хорошо до тех пор, пока Шнайдер не начал интересоваться политикой и не вступил в СДПГ. Его вечера и субботние дни стали все больше и больше принадлежать партии и профсоюзу, в который он вступил еще раньше. Прежде чем возникла необходимость, а во многих местах просто мода, он возглавил движение в защиту зеленых насаждений. Плакаты: «Срубить дерево – нет, благодарим покорно!» – оказали столь сильное давление на муниципалитет, что городским функционерам пришлось свернуть операцию по вырубке деревьев. В партии ему этого никогда не забывали. Большинство в ней выступали за рубку и за расширение двухполосной улицы до четырех полос. Кто же протестовал против городских властей, тот неизбежно выступал и против решений поддерживавшей эти власти партии.
Исключить Шнайдера не рискнули. Он завоевал слишком много симпатий. Но все сильнее и сильнее его оттесняли в сторону и клеймили как неисправимого склочника.
Его жена Герлинда, обладавшая соблазнительными формами, но не слишком далекая, скоро почувствовала себя в доме одинокой. Даже телевизионная программа не могла надолго заменить ей мужа. И поскольку ребенок был всем обеспечен, она начала погуливать. Иногда исчезала лишь на день, а как-то раз ушла на несколько недель к другому мужчине, пока наконец ей не встретился «зеленый мундир». Хозяин мундира был шофером начальника полиции в соседнем городе. Хотя в финансовом отношении он не мог дать ей того, что давал Шнайдер, однако он щедро компенсировал этот недостаток тем, чего лишал ее муж. И Герлинда была ослеплена важностью этого человека в мундире, который держал себя так, словно возил не начальника полиции, а себя самого.
Разумеется, это не осталось для Шнайдера секретом. Один раз он даже отлупил жену, потом смирился и сказал себе: или я буду исполнять роль мужа и уделять внимание жене, или займусь тем, что считаю правильным. И он сделал выбор в пользу своей профессии и партии, и чем больше распадалась семейная жизнь, тем успешнее шли у него дела на заводе, и наоборот: чем успешнее шли дела на заводе, тем быстрее рушилась семейная жизнь.
Даже имевшие ученую степень инженеры, даже сам главный инженер Адам шли к Шнайдеру за советом, и через несколько лет весь коллектив завода стоял за него горой, хотя он никогда к этому не стремился. Просто он был со всеми честен и защищал их права, не требуя для себя никаких привилегий. Но все шло бы не так гладко, если бы Бёмер благосклонно не расчищал ему путь, хотя открыто и не выделял среди других. Для Бёмера Шнайдер был на заводе джокером: всегда готов действовать, всегда на все пригоден, всегда надежен, всегда горит идеями.
Последовательность Шнайдера, а порой и его непреклонность в кадровых вопросах никоим образом не мешали Бёмеру. Напротив, он всегда заранее знал, как Шнайдер, будучи главой производственного совета, станет реагировать и аргументировать. Его требования можно было предугадать; он боролся за интересы коллектива и за авторитет завода. И то и другое способствовало тому, что на предприятии Бёмера, особенно за последнее десятилетие, когда экономический застой перестал быть тайной даже для легковеров и профессиональных оптимистов, не возникало серьезных конфликтов. В этом была заслуга Шнайдера. Каждый подчинялся ему, кое-кто неохотно, однако достаточно хорошо понимая, что без направляющей руки Шнайдера дело не пойдет.
Когда Шнайдера единогласно, что случается редко, выбрали председателем производственного совета, никто не обвинил его, как обычно бывает на других предприятиях, в приятельстве с заводским руководством. В свое время каждый убедился в том, что переговоры, которые вел Шнайдер, были на пользу всем. И все-таки его самоотверженность вводила в заблуждение немало людей. Всегда помогать другим – это задача врачей и священников, а не председателя производственного совета.
О связи своей дочери с Бёмером Шнайдер узнал случайно.
Шнайдер участвовал в конференции председателей производственных советов с профсоюзными функционерами в Доме профсоюзов в Бохуме; после конференции он с коллегами с других предприятий зашел выпить пива в закусочную, которая находилась напротив известной картинной галереи. В ту минуту, когда он хотел войти в закусочную следом за всеми, из двери в галерею вышли Бёмер с Матильдой, которая, смеясь, взяла его под руку. Оба они подошли к стоявшему рядом «мерседесу», Бёмер открыл машину, поднял Матильду, как ребенка, и посадил ее на переднее сиденье. Он закрыл дверцу, а когда выпрямился, то взгляд его уперся прямо в Шнайдера, который замер как остолбенелый. Несколько секунд мужчины смущенно смотрели друг на друга, потом Бёмер сел в машину и уехал.
Шнайдер не чувствовал ни гнева, ни ярости. Его охватила мучительная усталость и грусть. Не попрощавшись с коллегами, он поехал домой.
Весь вечер и всю ночь он провел в раздумьях за бутылкой водки. Первое, что пришло ему в голову, – немедленно уволиться, рассказать всем об этой порочной связи, поднять коллектив против Бёмера. Но, что бы он ни сделал, Матильду он окончательно потерял.
После этой бессонной ночи он пошел днем на прием к Бёмеру. Серьезный и спокойный вошел в кабинет и, проигнорировав жест Бёмера, предлагавшего ему сесть, сказал:
– Я прошу вас, господин доктор Бёмер, не разговаривать впредь со мной ни на заводе, ни вне его с глазу на глаз. Я настаиваю, чтобы на наших с вами беседах всегда присутствовал кто-нибудь третий.
После этих слов он повернулся и вышел.
На заводе о связи между богом-отцом, как все называли Бёмера, и дочерью Шнайдера никто не знал. Уже одна мысль об этом показалась бы нелепой. Если кто-нибудь из коллег спрашивал Шнайдера, что теперь делает его дочь, он вскользь отвечал, что она работает на компьютере в большой страховой компании и живет вместе с коллегой-ровесницей. Дескать, это хорошо, когда взрослые дети уходят из дома, тогда они быстрее становятся самостоятельными и достаточно рано начинают понимать, насколько дорога жизнь.
О крахе его супружества не догадывались.
Много позже описанных здесь событий, за три дня до смерти Бёмера, между ним и Шнайдером состоялся все-таки еще один разговор с глазу на глаз. Был один из тех вечеров, когда зной липнет к стенам, а у людей возникает искушение прыгнуть в первую попавшуюся лужу, тогда-то Бёмер и позвонил Шнайдеру в производственный совет, точно зная, что в это время на другом конце провода не будет посторонних. Он попросил Шнайдера зайти к нему в кабинет, а когда тот резко осадил его за нарушение принципа, который до сих пор строго соблюдался, Бёмер сказал: «Господин Шнайдер, дело чрезвычайной срочности и секретности. Прошу вас. Речь идет о судьбе завода. Вам этого достаточно?»
После некоторых колебаний Шнайдер согласился.
Дверь в приемную была открыта, обитые двери в святая святых лишь притворены. Заслышав шаги, Бёмер крикнул:
– Входите и закройте за собой дверь!
Он указал Шнайдеру на кресло в углу, а сам остался сидеть за письменным столом, не предложив ни напитков, ни сигарет. Шнайдера удивило смущение шефа: он сжимал руки под столом и, не глядя на него, смотрел в окно.
– Рабочий день давно закончился, – начал Шнайдер. – Что вам от меня нужно?
Бёмер распрямился за письменным столом и снова стал таким, каким его знал каждый.
– Можете снять пиджак, вы видите, я тоже в одной рубашке. Такую жару невозможно выдержать. А служащие заводоуправления еще ходят в галстуках.
– Вы хотите поговорить со мной о галстуках?
Шнайдер бросил свой пиджак на спинку соседнего кресла.
– Я позвал вас потому, что я уже в том возрасте, когда надо привести в порядок свои дела.
– А что должен делать при этом я? Может быть, выносить мусор?
– Вы хорошо знаете, что я не пригласил бы вас сюда, если бы этого не потребовали необычные обстоятельства. Слушайте меня внимательно и не перебивайте… Меня волнует дальнейшая судьба завода, об этом идет речь. Конечно, у меня есть наследники – два сына, они интеллигентны, но нерешительны. Мне нужен здесь человек, который бы все держал в руках, не был фантазером, рассуждал здраво и реалистично. Я хочу, заручившись вашим согласием, назначить вас директором завода со всеми полномочиями. Я предоставлю вам также права по отношению к моим наследникам, прежде всего сыновьям. Я должен принять это решение на тот случай, если меня не станет. Я должен принять это решение, поскольку пришел к убеждению, что мои сыновья продадут завод, и не потому, что они корыстолюбивы, а потому, что окажутся беспомощными, не выдержат конкуренции и суровых законов рынка. Они не имеют никакого понятия о руководстве людьми, поскольку ими самими надо еще руководить… Моя жена, разумеется, основная наследница и исполнительница завещания. Но она, насколько я ее знаю, передаст все дела нотариусу. Она, так сказать, «тихая» наследница и проводит свои дни в стране, где я никогда не чувствовал себя уютно, хотя и люблю французскую литературу… Вы здесь мой доверенный человек, который все возглавит. В общем, я решил так: после моей смерти пятьдесят процентов прибыли достанутся рабочим и служащим, пятьдесят процентов – моим наследникам. Это всегда будет больше той суммы, которую они могут истратить. Вы, господин Шнайдер, будете гарантом того, чтобы предприятие приносило прибыль и чтобы ее справедливо распределяли. Если вы согласитесь, я тут же извещу моих адвокатов и нотариусов, а потом поставлю свою подпись под уже подготовленными договорами и под моим личным завещанием. Если расшифровать, то это значит: не только пятьдесят процентов прибыли пойдет рабочим и служащим, но и пятьдесят процентов средств производства будут принадлежать им, то есть половина завода. Разумеется, все это будет подробно определено в договорах.
– Я должен все-таки вас перебить, господин Бёмер, по-моему, вы сумасшедший.
Бёмер усмехнулся.
– Поначалу я тоже так думал, когда вынашивал этот план. Но я знаю вас уже больше двадцати лет и поэтому подчеркиваю: вы единственный, кто может гарантировать, что плод всей моей жизни не будет после моей смерти продан какому-нибудь крупному концерну, который, ради приличия, позволит заводу года два функционировать, а потом под флагом концентрации производства прикроет его. Поверьте мне, это уж точно, как бог свят. Я не вертопрах, обо всем этом серьезно думал много лет, уже несколько месяцев обсуждаю это с моими адвокатами и с советником по экономическим вопросам. Вам нужно только сказать «да». Освоить это дело вам не составит труда. Хоть я и хочу прожить еще лет сорок, хочу дотянуть до ста, но, может быть, проживу недели три. Если сейчас все не уладить, то я оставлю после себя груду обломков, которую бросят на мою могилу. Решайтесь. Это не принуждение, это просьба человека, который не видит другого выхода, чтобы спасти дело всей своей жизни.
Вентилятор на курительном столике поднимал ветер, но приносил мало прохлады. Шнайдер утонул в своем кресле; он чувствовал себя так, будто в эту минуту кто-то попросил его срыть гору Эверест.
Едва слышно он произнес:
– Мне никогда бы не пришло в голову, что вы с вашим трезвым умом можете еще и сказки рассказывать. Я всегда считал вас серьезным деловым хозяином, и если вы все обдумали, как пытаетесь мне внушить, то, надеюсь, поразмыслили также и о том, что ваш шаг…
– Модель. Назовем это моделью, господин Шнайдер.
– …что ваша модель, если ее действительно воплотить на практике, вызовет большую шумиху – не говоря уже о том, по плечу ли мне такая задача вообще. Ваша модель приведет к тому, что вся страна затаит дыхание. Я не настолько наивен, чтобы поверить, будто немецкие предприниматели станут рукоплескать.
– Перестаньте! Немецкие предприниматели, слушать о них не хочу! За исключением нескольких, все недальновидные, сплетники и копеечные души. А профсоюзы им еще подыгрывают, болтая о партнерстве. Вы об этом знаете не хуже меня. Нет, мы – вы и я – могли бы создать такую модель, которая, пожалуй, найдет немало последователей. Я предлагаю вам руководство и осуществление этой модели. Ваши же слова: «В этой стране лишь тогда что-то изменится, если изменятся имущественные отношения, отношения собственности». Так, пожалуйста, чего вы еще ждете? Договор подготовлен к подписи, скажите просто «да».
– Почему сейчас? Почему не завтра или послезавтра?
– Я не способен вам объяснить, почему не могу больше ждать, поскольку сам этого не знаю. Но в конце концов вы ведь выросли здесь, на моем заводе, и этот завод благодаря вам, вашему трудолюбию и вашей находчивости стал тем, чем он сейчас является.
– Имеет ли это какое-нибудь отношение к моей…
– Нет. Мы же условились. Об этом мы никогда прежде не говорили, не будем говорить и сейчас, – сказал Бёмер.
Шнайдер поднялся и встал спиной к вентилятору. При этом он поднял над головой руки; рубашка его взмокла от пота.
– Допустим, я скажу «да», но последствия все равно нельзя предугадать. Вы это знаете не хуже меня.
– Последствия всесторонне обдуманы и проиграны. Как уже сказано, я серьезно занимался этой моделью больше четырех лет.
– В отрасли будут бесноваться. Начнется грандиозный скандал.
– Кто вносит новые идеи, всегда выбивается из общего хора. Он становится врагом предпринимателей, наносит ущерб профсоюзам, вред партии, оказывается еретиком. Перестаньте твердить мне об этих духовных евнухах. Почему, например, вы в партийной иерархии не продвинулись вверх, почему все еще ходите в рядовых? У вас есть на это ответ?
– Самый простой: потому что я этого не хочу. Я чувствую себя на своем месте.
– Вы святой. Рассказывайте это пигмеям, а не мне! Почему вы вдруг заговорили вопреки вашему давнишнему опыту? Хотите себя обезопасить и прикрываетесь провозглашенной вашим профсоюзом солидарностью? Поймите же наконец: мы создаем модель, которая многим будет поперек горла. Зато некоторые смогут возликовать, вот им-то и надо предоставить это дело.
– Мне кажется, что я в сумасшедшем доме, господин Бёмер.
– Называйте это, как хотите. Но моя модель и лично вам даст шанс.
– Я ноль без палочки, даже если и поведу за собой пять сотен рабочих. И пуще всего я боюсь, поддержат ли меня эти пятьсот человек, если вы однажды прикажете долго жить. Прошу извинения за прямоту.
– Оставьте при себе свои извинения. С изменением понятия о собственности изменится и сознание людей. Об этом я как-то говорил со своими ребятами, не называя вас лично. Они вовсе не избалованные сынки фабриканта, если вы так думали, они включились в идиотское движение сторонников мира, которое я ни в грош не ставлю. Ходят повсюду с этим сине-белым голубем, лепят его на свои мотоциклы, но они не наивны. Они понимают, что предприниматель сможет в будущем заработать лишь тогда, когда те, кто создает ему прибыль, сами будут соразмерно ею пользоваться. Именно в этом суть моей модели.
– Вы мечтатель, господин Бёмер. Если бы я не знал вас два десятка лет, то мог бы подумать, что передо мной чокнутый левак. Или богач, который ради своего каприза хочет и за гробом торжествовать: смотрите, без меня дело не идет! А что касается меня: как буду выглядеть я в роли председателя производственного совета, если однажды выяснится, что моя дочь – ваша подруга? Если хоть один человек узнает об этом, то пропадут не только ваше доброе имя и репутация вашей семьи, тогда вы можете забыть о своем заводе, да и мне придется лезть в петлю.
Не успел Бёмер хоть словом возразить ему, как Шнайдер пулей вылетел из кабинета.
Шнайдер вдруг в изнеможении замолчал. Он сидел в углу грязного дивана совершенно пьяный.
– Вот теперь я с удовольствием выпил бы коньяку, – сказал я.
Шнайдер потянулся, посмотрел на меня мутным взглядом, потом ухмыльнулся и показал на бутылку.
– Не повезло, господин фотограф. От щедрот бога-отца ничего не осталось…
Я ушел, не попрощавшись.
Возвращаясь к своей машине, которую поставил на стоянке ресторанчика «Глюкауф», я понял смысл речи, произнесенной Шнайдером у могилы Бёмера.
В одном кёльнском издательстве я заключил договор на фотоальбом под названием «Островные замки Вестфалии», под который получил аванс три тысячи марок. Чек в моем бумажнике действовал на меня успокаивающе; на обратном пути я вдруг вспомнил о вилле Бёмера в долине Рура. У Шверте я свернул с автострады и поехал по крутому серпантину дороги до ответвления, которое ведет к вилле. Я поставил машину на одном из поворотов и вышел, хотя стоило бы спросить себя, что мне здесь, собственно, надо? От Кристы, которая иногда перезванивалась с близнецами, я знал о том, что происходило на заводе. Шнайдер был практически директором завода, Адам занимался технической стороной дела, прокурист Гебхардт – коммерческой, хотя гранд-дама назначила своего личного опекуна. Но Клаазен, так его звали, мало беспокоился о текущих делах. О вилле вообще не было речи.
Я повесил на себя фотокамеру, поскольку странствующий фотограф не вызывает подозрений. Шел снег, густо падали мелкие хлопья, автомашины на ближайшей автостраде в долине Рура казались огромными жуками с сияющими глазами. На дороге к вилле виднелись на снегу свежие следы шин.
Я прошел почти половину пути, как вдруг с головокружительной скоростью в подъездную аллею въехала автомашина. Мне пришлось прыгнуть в кювет, но меня все-таки обрызгало мокрым снегом. Перед самыми воротами к вилле машина резко затормозила, потом дала задний ход и остановилась рядом со мной. Водитель, лет тридцати, опустил оконное стекло и крикнул:
– Вам кого? Здесь частное владение.
– Не спорю, – подтвердил я, – но я не заметил запрещающего знака.
– Чужих мы не любим, – неприязненно сказал водитель.
– Разве в этом доме не живут студенты? – поинтересовался я.
– Когда-то жили. Это отребье мы выгнали, не прибегая к помощи полиции. Они улепетывали, как зайцы.
Не произнеся больше ни слова, он включил газ и как сумасшедший снова помчался дальше.
Створки железных ворот были широко распахнуты вовнутрь. На правом столбе блестела большая прямоугольная медная табличка, на которой черными буквами было выгравировано: «Консультации по экономическим и организационным вопросам. Оборудование. Недвижимости. Капиталовложения за границей. Цирер и К°, коммандитное товарищество».
Войти в запущенный сад я не отважился. Пошел обратно к шоссе и прислонился к своей машине. Островки деревьев и кустарника вокруг виллы, холм и долина покрылись белой пеленой, но вскоре снег почернеет от копоти и ядовитых веществ, которые ежедневно сыплются с неба.
Кратчайшим путем я поехал домой.
– Тебе звонили, – сказала Криста, не спросив, заключил ли я договор и получил ли аванс. – Какая-то девушка спрашивала, не готовы ли наконец увеличенные фотоснимки. Очень нетерпеливая особа.
– У меня в кармане договор и чек на три тысячи марок, – перевел я разговор.
– Рада за тебя.
Она больше ничего не сказала. Равнодушие Кристы огорчило меня. В последние недели она не проявляла заметного интереса к моей работе, почти не спрашивала о моих планах. А ведь мы должны были ежеквартально платить три тысячи марок в погашение ипотеки и процентов по ней, которые висели на нашем доме, а заработок мой упал из-за решений коммунальных и земельных властей об экономии в области культуры.
Телефонный звонок оторвал меня от размышлений.
– Наверное, опять эта девушка, – сказала Криста.
Я поднял трубку.
– Не могли бы мы поговорить сегодня? Могу я к вам приехать?
– Нет, – торопливо бросил я.
Криста, растянувшись на тахте, листала иллюстрированный журнал.
– Значит, нельзя? Тогда приезжайте ко мне с увеличенными фотографиями. Но, пожалуйста, поскорее, если это возможно.
– Я буду у вас через полчаса.
Пять из десяти фотографий «человека в колокольне», как я называл покойного Бёмера, я увеличил форматом A4 и спрятал в бракованные листы, что было излишне, так как Криста никогда не заходила без спросу в мою рабочую комнату в подвале. Она ею не интересовалась.
Устоять перед голосом Матильды было свыше моих сил.
– Мне нужно опять отлучиться, Криста, – сказал я. – Закрутился с делами и забыл отвезти заказанные на увеличение фотографии.
– Какие фотографии? Поздно вернешься? Я хочу пораньше лечь спать. Сегодня был трудный день, а завтра мне уже в семь надо быть на ногах. В отеле у нас две конференции. Можешь мне завтра дать машину?
Я принес из подвала увеличенные фотографии, связал их, положив между двумя картонками, потом поцеловал Кристу в лоб. Она лишь мельком взглянула на меня.
– Впусти, пожалуйста, кошку в дом, если вернешься поздно.
По дороге в центр города я задавался вопросом: что произошло в нашем доме? Никогда еще Криста не проявляла такого безразличия к моей работе, как сегодня. «Рада за тебя», «Какие фотографии?» – ее слова обдали меня холодом. С тем же успехом она могла спросить: снег еще идет?
Едва я нажал на кнопку звонка, в замке послышалось жужжание, как будто Матильда поджидала прямо у двери. Я толкнул дверь в подъезд, на лестнице зажегся свет; я не сразу спохватился, что взбегаю по лестнице через две ступеньки, и только последний пролет преодолел степенно, как и подобает мужчине солидного возраста.
Матильда все в том же бордовом платье стояла в дверях и ждала меня. По тому, как судорожно она сжала в ладонях мою руку, я почувствовал, что она взволнованна.
– Я проявила назойливость? Вам было неприятно, что я позвонила? – Она провела меня в комнату и указала на кресло, в котором я уже однажды сидел. – Пожалуйста, покажите мне фотографии.
– Это не видовые открытки, – сказал я.
– За меня можете не опасаться.
Я опустился на колени и разложил на полу одна к другой все пять фотографий. Матильда склонилась над ними, так что я мог украдкой за ней наблюдать. Никаких признаков волнения не было заметно на ее лице, лишь на мгновение в глазах загорелся злой огонек. Она брала в руки одну фотографию за другой и рассматривала их, как покупатель товар, который хочет приобрести.
– Это не его костюм, но на все сто я не уверена. Еще на тех фотографиях небольшого формата это бросилось мне в глаза. Но я забыла вам сказать.
Она села на пол, по-турецки скрестив ноги, и снова стала перебирать одну за другой фотографии и откладывать их в сторону. Сохраняя самообладание, смотрела она на повешенного, который многие годы был ее любовником, ее отцом и дедом, нежно и ласково разглаживала фотографии правой рукой.
Этот жест напугал меня.
– И ботинки не его, и вообще все вещи чужие. Вы должны отнести эти снимки в уголовную полицию. Может, там они будут полезны.
– Слишком поздно.
– Разве не ваш долг передать фотографии в полицию?
– Я не могу. Как вы себе это представляете? Я со спокойной душой фотографирую человека в колокольне, несколько недель молчу, а потом прибегаю, вываливаю фотографии на стол и говорю: «Эти фотографии, может быть, помогут вам в расследовании». Тут уж в это дело впутали бы меня, вас, возможно, даже мою жену – нет, таких неприятностей я не могу ей причинить.
– Если вы не желаете передать снимки в полицию, значит, будем действовать сообща – ради него, – сказала Матильда, показав на полуметровую фотографию с траурным крепом.
Ее решительность, необычно суровый тон не предвещали ничего хорошего, но она могла бы потребовать от меня что угодно, и я бы повиновался.
Наше предместье разделено магистральным шоссе на два поселка: на так называемую Старую деревню, где еще живут семеро крестьян, разводят свиней и содержат молочную ферму, и город-спутник «Новая родина» с торговой улицей, почтой и сберкассой, двумя супермаркетами, столовой и цветочной лавкой, магазином аптекарских товаров и магазином электротоваров. Разнообразие вносят дома, похожие на бунгало, и пятиэтажные коробки, а между ними – многочисленные скверы, с кустарниками и деревьями, просторными лужайками, на которых даже разрешено играть детям. Уютное и спокойное предместье, которое могло бы быть самостоятельным городком, а не частью полумиллионного города.
За последние два года в предместье стали заметны признаки подкрадывающегося обнищания. Особенно бросаются они в глаза в магазинах, прежде всего в супермаркетах: возрос ассортимент дешевых товаров, исчезли дорогие сорта кефира и свежие импортные овощи, потому что покупателям они не по карману. Уже закрылся один хозяйственный магазин, а также две из четырех бензоколонок; круг завсегдатаев, собиравшихся по вечерам у стойки в пивной, поредел, мужчины уже не заглядывают сюда каждый вечер, чтобы провести время среди знакомых и даже полюбившихся лиц, самое большее – один или два раза в неделю; парикмахеры поувольняли своих подмастерьев, потому что их клиенты, особенно женщины, уже не так часто приходят навести красоту – свои прически приводят в порядок дома с помощью подруг или соседок. В нашем предместье свыше двадцати процентов безработных. Большинство из этих «сокращенных» или «освобожденных» вынуждены сводить концы с концами, имея меньше двухсот марок в неделю, и есть немало семей, у которых не хватает денег даже на детский сад. Они отпускают детей без присмотра играть на улице или в скверах или же просто усаживают их перед телевизором, чтобы не выпускать из-под контроля.
Меня пугает, как меньше чем за два года изменило облик наше предместье, где живут преимущественно семьи работавших в угасающей отрасли промышленности – производстве угля и стали, как меняется отношение людей друг к другу, как недоброжелательство и зависть к благополучию тех, кто имеет работу, переходят во вражду. К огорчению священнослужителей обоих вероисповеданий, звон кошелей и церковных кружек для сбора пожертвований по воскресеньям уже не вселяет былых надежд. Булочнику за углом пришлось сократить выпечку хлеба, потому что покупатели предпочитают относительно дешевые сорта; директор сберкассы озабочен уменьшением вкладов, поскольку снимают со счетов вдвое больше, чем вносят. Как-то в разговоре со мной, уже в дверях, он сказал:
– Неминуемо придет конец, все накопления будут израсходованы. Что тогда? По изменениям текущих счетов я могу видеть, насколько хорошо или плохо живется сейчас людям.
Криста на все это закрывала глаза. Когда я рассказывал, что пивная пустеет, она ворчала:
– Ну и хорошо, и так пьют слишком много.
Когда я говорил, что в КООП качество товаров снижается, она отвечала:
– Ну и хорошо, люди и так уж не знают, чего бы им сожрать.
А когда я сообщал, что магазин одежды возле торговой улицы закрылся, то слышал в ответ злорадное:
– Ну и хорошо, разве надо дважды в год следовать этой сумасшедшей моде, а в конце года выбрасывать за дверь обноски, чтобы их подобрал Красный Крест?
Криста никогда не заходила в пивную, не вступала ни в какие местные объединения, не ходила в церковь и на встречи прихожанок. Она курсировала от дома до гостиницы, от гостиницы до дома на автобусе и трамвае или ездила в машине, если мне она не требовалась. В городском транспорте Криста молчала, отрешенно уставясь в окно. Всегда ли она была такой? Или эта ее отрешенность стала проявляться только в последнее время? Когда я заметил в ней перемены? Только после смерти Бёмера, которая заставила меня пристальнее взглянуть на людей и вещи? Может, ей придали суровости события и обстоятельства последних месяцев и та новая роль, которую пришлось взять на себя после смерти сводного брата? Что произошло с ней, со мной?
Я удивлялся также, что за последние недели Криста распространяла всякие вымыслы о дальнейшей судьбе завода, и был уверен, что она знает от близнецов больше, чем рассказывает мне.
Я уединился в подвале, который оборудовал с помощью Кристы. Никогда она ни словом не упрекнула меня за расточительность, напротив, сама настаивала на дорогих покупках, уговаривала: «Покупай то, что тебе надо. Аппаратура должна быть самой совершенной». Правда, это было еще в то время, когда меня терзали сомнения: «Смогу ли я существовать как внештатный фотограф?» Криста неизменно подбадривала меня, и это дало свои результаты: я поставлял точно в срок добротные и оригинальные снимки. Мы стали жить ровно и беззаботно, если не считать выплаты кредита за дом.
Я пытался составить план моего фотоальбома «Островные замки Вестфалии», но не мог начать работу, потому что опять стал думать о Матильде.
«Хочет перехитрить полицию? Что у нее на уме? Раскрыть преступление или отомстить?»
Криста постучала в дверь:
– Тебя срочно просят к телефону. Поторопись.
– Это обязательно? – крикнул я. – Я сейчас не могу оторваться.
– Звонит Саша. Он хочет поговорить с тобой, а не со мной.
– Твоя родня меня просто преследует, – буркнул я.
В комнате я снял трубку и назвался.
– Господин Вольф, не могли бы вы завтра в пятнадцать часов прийти на нашу городскую квартиру?
Это был вопрос, но прозвучал он как приказ. Когда Саша почувствовал, что я колеблюсь, он быстро добавил:
– Это очень важно. Для нас и для вас.
– Могу ли я узнать…
– Завтра вы все узнаете.
Когда я клал трубку, Криста выжидающе смотрела на меня. Я только пожал плечами и неопределенно махнул рукой.
– Он хочет поговорить со мной завтра после обеда на городской квартире.
– А в чем дело?
– Понятия не имею. Он сказал, что завтра я все узнаю.
Четверо одетых в темные костюмы мужчин сидели напротив меня, тесно прижавшись друг к другу, хотя многосекционный диван был достаточно длинным и занимал всю стену огромной комнаты.
Саша сдержанно и официально поздоровался со мной, подвел к креслу, а потом сам сел на диван рядом с четырьмя мужчинами. Из соседней комнаты вышел Ларс. Он тоже официально, как с чужим, поздоровался со мной и уселся в кресло.