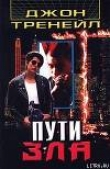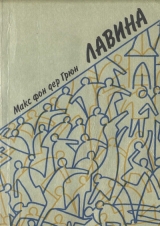
Текст книги "Лавина"
Автор книги: Макс фон дер Грюн
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 15 страниц)
Мы шли рядом по коридору к лестничной площадке. Немного не дойдя до стеклянной двери, Шнайдер на ходу заглянул в кабинет Гебхардта и вдруг остановился. Вошел в кабинет, сел на край письменного стола и огляделся, будто впервые увидел этот кабинет, отличавшийся от других только вдвое большим размером и более солидной обстановкой.
– Вам ничего не бросается в глаза? – спросил он.
– Нет, ничего. Все как обычно, в полном порядке.
– Да, в порядке. И все же чем-то этот порядок нарушен. Не знаю чем. Черт побери, не могу точно сказать. Может, мне все только мерещится и у меня уже начинаются галлюцинации?..
Он слез со стола и медленно повернулся вокруг себя, внимательно рассматривая каждую мелочь. И вдруг заметил то, что нарушало обычный порядок: из-под кожаного бювара высовывался белый треугольник. Шнайдер вытащил его, схватив двумя пальцами. Это был листок бумаги, вырванный из маленького блокнота. Шнайдер поднял бювар и нашел еще два листочка; держа их в руке, он снова уселся на стол.
– Подойдите и прочтите вместе со мной, – обронил он.
На всех листках были написаны от руки варианты письма, отправленного с курьером пятистам заводчанам.
– Почерк Гебхардта, – определил Шнайдер. – Мы гадаем, строим предположения, а эта гнида даже и не чешется. Гебхардт, просто поверить не могу! Но почерк, несомненно, его. Так что вы теперь скажете? Кого вы подозревали?
– Я не так удивлен, как вы, мои подозрения были вполне справедливы.
– А почему вы подумали именно на Гебхардта?
– По одной-единственной причине. В его письме сказано, что Манфред Шнайдер отлично замаскированный коммунист, хотя официально состоит в СДПГ. По смыслу это то же самое, что сказал мне о вас Гебхардт после первого заседания правления.
Шнайдер сунул листки в карман пиджака и сказал:
– Ну и кретин! Ведь он сам подписал себе смертный приговор. Гебхардт просто ослеплен ненавистью.
– Почему же он не написал это письмо дома?
– Очень просто: люди его склада чувствуют себя в форме только на работе. Дома у них головы нет, только шлепанцы на ногах.
Потом Шнайдер позвонил вахтеру.
– Проверьте в своем журнале, – потребовал он, – кто после окончания смены в страстной четверг приходил на завод и сколько времени здесь провел.
От вахтера, который обстоятельно зачитал записи, мы узнали, что, кроме охранников из караульной службы, господин Адам был здесь в страстную пятницу с одиннадцати до тринадцати часов, господин Гебхардт в страстную субботу с четырнадцати до девятнадцати часов, а в пасхальное воскресенье господин Хётгер провел полчаса в помещении производственного совета.
Шнайдер задумчиво положил трубку. Потом, не долго думая, снял со стены фотографию: на праздновании сорокалетия службы Гебхардта Бёмер вручает ему грамоту и золотые карманные часы.
Шнайдер вынул фотографию из рамки, вложил ее в целлофановый пакет, который нашел на столе для хранения документов, и вышел из кабинета. Будто одержимый, он помчался вниз по лестнице, а я за ним, не спрашивая, куда он так устремился. Во дворе он открыл свою машину и крикнул мне поверх крыши:
– Поезжайте со мной, господин Вольф, давайте сразу же установим истину. Нам надо выяснить, проделал ли все это Гебхардт один, или у него были помощники.
По дороге Шнайдер сказал:
– Согласно почтовому штемпелю, срочные письма были сданы вчера между двадцатью и двадцатью двумя часами. Есть служебный график, и можно легко выяснить, кто в это время дежурил в ночной смене.
– Почтовые служащие не обязаны давать справки посторонним, – сказал я.
– Предоставьте это мне. Я что-нибудь придумаю.
У окошка главпочтамта Шнайдер спросил у дежурного чиновника, бородатого мужчины лет сорока, кто дежурил вчера ночью. Чиновник холодно смерил его взглядом, но Шнайдер, смеясь, добавил:
– Знаете, я вчера вечером отправил с курьером кучу писем и заплатил пятисотмарковой купюрой. И только дома обнаружил, что ваш коллега переплатил мне сдачи на целую сотню. Хочу вернуть ему эти деньги, чтобы он спал спокойно.
– Ну, раз так, – ответил чиновник. – Конечно, я знаю этого коллегу. Подождите минутку, я напишу вам его адрес, он определенно сидит дома.
Минуты через две он вернулся и протянул Шнайдеру записку.
– Вот его адрес. Передайте ему от меня привет, пусть сегодня примет рюмочку, у него есть на то все основания.
Мы нашли почтового курьера в районе Дорстфельда, в своем саду за домом. Он удивленно посмотрел на нас, когда мы вошли через узкую садовую калитку. Шнайдер сунул ему прямо в лицо фотографию и спросил:
– Господин на фотографии, слева, вчера вечером сдал вам кипу срочных писем для отправки. Не припомните ли его?
– Да, – сказал почтовый курьер, бросив взгляд на фотографию. – Да, припоминаю. Такое количество срочных писем так скоро не забудешь. Разве что-нибудь не в порядке?
– Спасибо, – ответил Шнайдер, и мы ушли из сада так же стремительно, как и явились сюда. Почтовый курьер, ничего не понимая, смотрел нам вслед.
По дороге на завод Шнайдер тихо рассмеялся.
– Как видите, – сказал он, – нападение врасплох всегда ведет к успеху. Теперь у нас есть бесспорное доказательство, и остается только узнать, почему Гебхардт это сделал. Зиберт, кажется, к этому не причастен. Вы сегодня вечером дома?
– А что?
– Если вдруг я еще что-нибудь надумаю. Сегодня мы больше ничего не сможем сделать. По праздникам город вымирает.
Он остановился на заводском дворе рядом с моей машиной и, когда я выходил, добавил:
– Хорошо, что близнецы уехали во Францию на похороны гранд-дамы. О письме Гебхардта они узнают, но к тому времени, я надеюсь, страсти улягутся, а Гебхардту – каюк. А теперь пойду повешу фотографию на место.
Когда поздно вечером перед самым ужином я вернулся домой, Криста даже не спросила меня про демонстрацию, о которой я ей наврал. Она была так поглощена стряпней, что вся раскраснелась и приветливо поздоровалась со мной. Я уклончиво промолчал, прикинувшись усталым. Была приготовлена баранья нога с артишоками.
За ужином Криста спросила:
– Были неприятности?
– Нет. А почему ты спрашиваешь?
– Просто так. Потому что ты уж слишком неразговорчив.
– Разве?
– А как демонстрация?
– Ничего значительного.
– Почему ж тогда тебя так долго не было?
– Встретил знакомых. Ты ведь знаешь, как бывает, так скоро не отделаешься.
– Тебе нужна завтра машина?
– У нас, правда, завтра заседание правления, но можешь ее взять. Поеду на трамвае.
– Собственно говоря, за тобой должны бы прислать служебную машину, ведь ты не для собственного удовольствия поедешь на завод.
– Ты права. Попрошу Шнайдера.
– Попросишь? Нет, потребуешь. Ведь, в конце концов, ты представляешь интересы близнецов.
– Ты права. Но в любую роль надо еще вжиться.
– Когда ты подпишешь договор? Близнецы давно уже подписали.
– Завтра. Перед заседанием.
– Будет мало времени. Возьми такси, пусть его тебе оплатят.
Глупо было выдумывать эту демонстрацию, но я надеялся, что Криста не узнает о моей лжи. Продолжавшаяся уже несколько недель забастовка печатников могла бы мне помочь: ежедневные газеты, если они вообще выходили, печатались только на четырех страницах, давая лишь краткий обзор международных новостей, местная хроника почти начисто отсутствовала.
Во вторник еще сохранялась прекрасная погода. В десять утра я подписал у нотариуса Гроссера договор, уже подписанный Ларсом и Сашей. Все формальности заняли минут десять. Гроссер распрощался со словами:
– Желаю вам счастья и успеха, хотя у меня лично нет повода для веселья.
По дороге на завод я раздумывал над его странной фразой и нашел ее оскорбительной.
Я ожидал увидеть изменившийся, неспокойный, незнакомый завод, возбужденно дискутирующих людей, стихийное собрание коллектива. Ничего подобного. Внешний вид завода был самым обычным, производственный шум убеждал, что работа идет ритмично. Такая нормальная обстановка настолько сбила меня с панталыку, что я остановился перед административным корпусом, изумленный тем, что после письма Гебхардта все шло своим чередом, будто ничего и не случилось.
В приемной Шнайдера секретарша попросила меня минутку подождать. На ее письменном столе на самом виду лежало роковое письмо. Я сел и стал листать сокращенный выпуск газеты.
Потом вошел Гебхардт и вопреки своей привычке чуть ли не восторженно поздоровался со мной, спросил, как я провел праздники, заметил, что наконец-то погода меняется и теперь установится. Он взял письмо со стола, протянул его мне и спросил:
– Читали уже?
– Читал, – ответил я.
Наконец Шнайдер открыл свою дверь и сказал:
– Госпожа Кёрбер, пожалуйста, в течение часа ничем не беспокойте. Прошу пройти, господа.
Адам и Хётгер уже сидели в кабинете и кивнули нам, когда мы вошли.
– Прошу садиться, – сказал Шнайдер, – мы не задержимся дольше обычного, хотя повод не совсем радостный. Каждый из вас ознакомился с анонимным письмом, с начала смены я только и делал, что успокаивал рабочих и убеждал их в том, что это дело рук замаскировавшегося клеветника, за спиной которого, я уверен, стоят влиятельные круги, стремящиеся погубить нашу модель. Клеветник действует испытанным методом: того, кто мешает, легче всего дискредитировать с помощью какой-нибудь постельной истории. Такой метод насколько стар, настолько и подл. Слава богу, коллектив отреагировал на письмо так, как я и ожидал, а именно по принципу: кто пишет анонимки, у того у самого рыльце в пушку. Ну а теперь к делу.
Шнайдер взял в руки письмо и с кажущейся непринужденностью продолжил:
– В дни праздников, по данным вахтера, на завод приходили три человека. Господин Адам в страстную пятницу…
– Я забыл чертежи, и мне пришлось искать их в конструкторском бюро. Потом я взял работу домой.
– А коллега Хётгер? Чем ты занимался на заводе в течение получаса?
– Я писал дома доклад для очередного общего собрания, для этого мне понадобился последний протокол. Он лежал в шкафу, в комнате производственного совета.
– А вы, господин Гебхардт? Вы были здесь в страстную субботу. Что вы делали на заводе?
– Господин Шнайдер, хотел бы попросить, ведь это как допрос.
– Если угодно – да. В конце концов, это письмо не первоапрельская шутка. Причем речь идет не обо мне лично, речь идет по меньшей мере о судьбе фирмы, это, видимо, ясно каждому. И я уверен, что в случае с письмом, пусть это даже дело рук одного человека, без подстрекателей не обошлось. Нас хотят задушить и нашли кого-то, кто прекрасно осведомлен о наших внутренних делах. Недурно! Этот человек хорошо знает адресную картотеку. Он предусмотрел, чтобы членам правления письма не посылали. Или, может, вы получили письмо с курьером, господин Гебхардт?
– Я? Разумеется, нет. Почему вы спрашиваете?
– Ведь я спрашиваю не только вас, но вас особенно.
– Ничем не могу объяснить это письмо.
– В самом деле не можете, господин Гебхардт?
Шнайдер вынул из синей папки, лежавшей перед ним на письменном столе, три листка с рукописными набросками и поднял их над головой, будто мы не знали, в чем дело. Потом он встал и аккуратно положил листки на курительный столик, возле которого сидел Гебхардт.
Гебхардт побледнел и вдруг резко схватил и скомкал листки.
– Господин Гебхардт, это всего лишь фотокопии, – сказал Шнайдер. – Оригиналы я передал адвокату, который от моего имени привлечет вас к суду. Обычно вы сама осторожность. И вот впервые изменили своим привычкам. Зачем же вы оставили эти листки у себя на письменном столе? Почему не уничтожили их? Ваши покровители будут очень раздосадованы. Это господин Зиберт, господин Цирер, господин Вагенфур?
Гебхардт растерянно оглядывался по сторонам, потом сделал вид, будто хочет на кого-то наброситься. Хётгер и Адам смущенно уставились в пол. Все молчали, и вдруг Шнайдер расхохотался, пряча за смехом горечь разочарования и гнев.
– Господин Гебхардт, – наконец произнес он, – прошу вас немедленно покинуть территорию завода. В свой кабинет вы больше не войдете. Я велел его запереть, пока вы здесь сидели. Личные вещи вам отвезет курьер. А теперь отдайте мне ключи. Все остальное уладит потом полиция или суд.
– Только не полиция, прошу вас, – почти шепотом произнес Гебхардт.
– Слишком поздно, – сказал Шнайдер. – Вы дожили здесь до почтенных седин, господин Гебхардт, вы живой экспонат этой фирмы. Что же побудило вас швыряться теперь грязью? Со вчерашнего дня я пытаюсь найти логику в вашем поступке, в самом деле пытаюсь, но не нахожу никаких объяснений. Может быть, вы дадите их нам?
Шнайдер ходил взад-вперед по кабинету. Я видел, что в нем происходило. Потом его гнев прорвался наружу.
– Я не хочу больше никого щадить, меня уже тошнит. Я не хотел этой должности. Бог-отец навязал ее мне, а я принял ее потому, что видел в этом шанс для завода и для рабочих. А теперь раз уж я занимаю эту должность, то буду защищать ее клыками и когтями и не позволю погубить ее таким людям, как вы, господин Гебхардт, да и другим тоже, кем бы они ни были и каким бы влиянием ни пользовались в этой стране. Вы можете потом назвать полиции или суду ваших покровителей, я их и так знаю и знаю даже, где они находятся. После смерти Бёмера я должен был чувствовать, что вы не остановитесь и перед убийством.
– К этому я не имею никакого отношения! – воскликнул Гебхардт, чуть не плача.
– Я готов верить вам на слово, господин Гебхардт, но Хайнрих Бёмер не забрался бы сам на колокольню. Я верю также, что вы неподкупны, деньгами разумеется. Вы все делаете по убеждению, как те промышленники, которые жертвуют миллионы разным партиям и тем самым обеспечивают собственную власть. Вот что делает столь опасными таких типов, как вы. Разве не по убеждению вы пресмыкались перед «Уорлд электрик», с тех пор как поняли, что Бёмер не продаст завод? Потом вы надеялись на гранд-даму, но ее действия захватили вас врасплох и совершенно расстроили планы ваших покровителей. Конечно, гранд-даму не повесили, как ее мужа, все-таки леди, но, впрочем, и она у вас на совести, поскольку покойники не ездят на машинах. Ведь вы принимали в этом участие, не так ли?
– Нет-нет! – вскричал Гебхардт. – У нее отказало сердце, это было ужасно, ужасно!
После этого признания наступила гробовая тишина, вряд ли можно было смутить нас сильнее. Гебхардт попался в ловушку, которую, вероятно без умысла, подстроил ему Шнайдер. В этот момент Гебхардт мог спокойно уйти из кабинета, никто из нас не сумел бы его остановить. Хётгер вытаращил на него глаза, будто перед ним чудовище.
Тогда Гебхардт начал тихо плакать и вдруг зарыдал неудержимо.
Адам вопросительно уставился на Шнайдера, как будто тот мог что-то объяснить.
– Господин Гебхардт, – Шнайдер обрел наконец дар речи, – сейчас уходите, но мы с вами обязательно еще встретимся – в суде.
Гебхардт встал и покинул кабинет.
Немного помедлив, Шнайдер открыл окно и глубоко вздохнул.
– В нашем городе не очень чистый воздух, но все равно чище, чем здесь, в кабинете, – сказал он. – Господин Адам, мы потеряли много времени, позаботьтесь, пожалуйста, чтобы три автопоезда были загружены еще сегодня. Хётгер, ты вернешься на завод. Послушай, что говорят, и, если возникнет хоть малейшее волнение, за словом в карман не лезь. Теперь ты можешь прямо сказать людям, кто написал это письмо. Я все равно прикажу вывесить на доске объявление, чтобы с моей стороны все было официально, и не скрою также, что возбужу против Гебхардта дело за клевету, гнусные сплетни, нанесение производственного ущерба и поношение покойника. Адвокат найдет и того больше. На заводе же нам нужен порядок, порядок и еще раз порядок.
Хётгер и Адам ушли подавленные, не попрощавшись. Я хотел пойти за ними, но Шнайдер удержал меня.
– Мне нужно еще обсудить с вами один принципиальный вопрос, господин Вольф. Меня удручает не полуправда, которой исподтишка обстреливают меня, нашу модель и фирму, мне важно знать: кто вдохновители? Об этом нам слишком мало известно, и, конечно, Гебхардт на суде, если до этого дойдет, не назовет ни одного имени, потому что может и должен рассчитывать на заступничество этих людей. Но что меня больше всего беспокоит, так это условия, в которых наша модель должна функционировать и приносить прибыль. Хотя наше правительство всячески поддерживает предпринимателей, но с нашим заводом дело особое – пятьсот акционеров на одном предприятии, – тут мы в одиночестве. Гебхардт однажды сказал, что наша модель коммунистическая. Это, конечно, чепуха, но тем более опасная, что в этой стране миллионы людей верят и охотно будут верить в такие глупости… Вы не хуже меня знаете, что мы кто угодно, только не коммунисты. Наш эксперимент обещает лишь немного больше справедливости, а этого можно достичь и капиталистическими методами. Поэтому мне надо строже руководить предприятием, если мы не хотим потерпеть крах по своей вине. Я хочу по возможности предотвращать назревающие конфликты, короче говоря, я хочу с согласия правления выйти из Союза предпринимателей, а также из профсоюза металлистов. Причина одна. Если начнутся забастовки, а к тому идет, предприниматели призовут к локауту. Забастовку на нашем заводе я сумею предотвратить. О локауте не может быть и речи. Спасибо мне не скажет никто. В профсоюзе меня заклеймят как предателя, у предпринимателей тоже. Наша модель не укладывается ни в какие рамки. Поэтому мне наплевать и на тех, и на других. В мае я доведу до сведения коллектива, что уже к тридцатому июня мы подсчитаем прибыль, а потом приступим к ее распределению. Для бухгалтерии это не сложная проблема. И тогда каждому будет выплачена его часть прибыли за полгода вперед, это успокоит людей.
– Подкуп?
– Называйте это как угодно, не возражаю. Я бы назвал это укрощением огня. Зато на заводе будет порядок, ведь после этих писем в коллективе происходит брожение. А когда начинается брожение, то недалеко и до взрыва. Но вы могли бы помочь мне предотвратить его.
– Но как?
– Мне бы хотелось, чтобы вы были здесь целый день. Повесьте свои камеры на гвоздик, фотографов у нас хватает. А здесь речь идет о нашей модели…
– Я не смогу заменить Гебхардта, если вы на это намекаете, но я могу представить себе жизнь без фотокамер, если мои обязанности на заводе будут четко определены.
– Господин Вольф, откровенность за откровенность: у меня сейчас и в личной жизни большие неприятности. Обычно говорят: тот, кто не может решить свои личные проблемы, тем более не справится со служебными. В этом есть доля правды. Не знаю, как все получилось. Неожиданно от меня ускользнула дочь и переехала к человеку, который годился бы ей в деды. Он баловал ее, как голливудскую кинозвезду. Но есть кое-что еще, что угнетает меня и о чем я не могу молчать. С тех пор как я стал директором завода, мне время от времени звонит моя жена. Требует денег, думает, что я купаюсь в деньгах. Если я ей что-нибудь дам, то никогда от нее не избавлюсь, если ничего не дам, то она станет мстить, подтвердит, например, под присягой все, что сказано в письме Гебхардта. А оно когда-нибудь наверняка попадет ей в руки. Тогда на мне можно будет поставить крест, а вместе со мной, что весьма вероятно, погибнет и дело. Во сне я отчетливо слышу смех наших противников и грохот разрушающейся модели.
– Может, адвокат сумеет договориться с вашей женой?
– Когда люди не знают, что делать, они бегут или к адвокату, или к священнику. Я хочу уладить все без адвокатов. Для этого мне нужна моя дочь. Прошу вас, поговорите с ней. Она должна засвидетельствовать правду, если в этом будет нужда. И вы бы сослужили заводу хорошую службу. Поговорите с моей дочерью. Она не только красива, но и умна. Теперь мне нужен ум, который вложил в нее Хайнрих Бёмер.
– А как насчет моих обязанностей в правлении?
– Они определены.
– Какие же?
– Пожарная охрана и аварийная служба.
– Не самое худшее.
«Привет, Вольфик! Может быть, ты пытался отыскать меня, я вот только спряталась и нахожусь сейчас в квартире Хайнриха в Дюссельдорфе-Оберкасселе. Если сможешь, приезжай, пожалуйста, ко мне первого мая. Привет! Матильда».
Ниже стояли название улицы и номер дома в Оберкасселе.
Я несколько раз перечитал это коротенькое письмо; кошка мурлыкала у моих ног, уже проявляя нетерпение оттого, что я не сразу наполнил едой ее миску.
Указанный Матильдой адрес я нашел с трудом; на табличке рядом со звонком стояла фамилия Бёмера. Квартира, обставленная без всякой роскоши, состояла из одной большой комнаты, ванной и кухонной ниши. Она напоминала скорее стандартное жилище, которое за большие деньги сдают одиноким людям.
– Я уже столько дней волнуюсь за тебя, а ты сидишь здесь и наслаждаешься прекрасным видом на Рейн, – сказал я.
– Вид – это не главное. Здесь жил Хайнрих, когда приезжал в Дюссельдорф в театр или в оперу. Он не жаловал гостиниц, останавливался в них только, если было необходимо по деловым соображениям… Не сверли глазами стены, садись наконец. И если ты думаешь, что Хайнрих снял это для меня, то ошибаешься. Я, правда, была здесь с ним несколько раз, и у меня есть свой ключ, но квартира нужна была Хайнриху главным образом для себя. Он не любил ездить после театра домой.
Я не мог удержаться, чтобы не заметить:
– Когда есть деньги, можно оплатить любую прихоть.
– Уже известно, кто написал письмо?
– Твой отец случайно это открыл. В моем присутствии. Это был – держись! – Гебхардт.
Но Матильда лишь утвердительно кивнула, как будто давно об этом знала.
– Так я и думала. Круг неумолимо смыкается, – тихо сказала она. И, помолчав, добавила: – Теперь я вернусь к отцу. Надеюсь, он еще хочет этого… Что предпринял он в отношении Гебхардта?
– Решил с помощью своего адвоката заявить об оскорблении, подлых сплетнях, клевете и многом другом, но особенно о поношении покойника.
– Хайнриха все это уже не обидит. Он, если бы узнал обо всем, пожалел бы только меня. А я спрашиваю себя: что происходит с таким человеком, как Гебхардт? Он служил еще у отца Хайнриха и считался верхом скрытности. Иногда он обделывал личные дела Хайнриха так, будто они были производственными, или, наоборот, в зависимости от обстоятельств. Главное, охмурить финансовое управление. Два года назад Хайнрих отобрал у него все свои личные дела. Что-то тогда произошло. Хайнрих не распространялся об этом, хотя рассказывал мне обо всем, не таясь, но, по-моему, я тебе уже говорила об этом… Ты знаешь новый адрес моего отца?
– Да. И номер его домашнего телефона, ведь члены правления фирмы должны быть досягаемы в любое время. Позвонить ему?
– Вольфик, давай поедем. Может быть, я ему сейчас нужна и смогу помочь. Конечно же, если дело дойдет до судебного процесса против Гебхардта, то мои показания будут иметь вес. Я дам такие показания, которые помогут отцу. Вообще было глупо уезжать. Хайнрих всегда мне говорил: «Киска, прежде чем что-то предпринять, подумай, чем это может кончиться». А я сбежала, не подумав. Сейчас уже не могу объяснить себе этой паники, а ты в тот момент оказался плохим помощником. Ты, Вольф, весь был во власти жалкого страха, которым заразил и меня.
– Близнецы поручили мне представлять их интересы в правлении фирмы. Я, выходит, стал преемником гранд-дамы, сижу теперь вместо нее в правлении. Я принял предложение, оформил, как полагается, у нотариуса, а твой отец не протестовал.
Садясь в машину, она сказала:
– Ты теперь представитель близнецов? Кто мог бы подумать! Хайнрих все прекрасно предусмотрел, но такого, ей-богу, не мог предвидеть.
Целый час по пути из Дюссельдорфа в Дортмунд мы почти не разговаривали. Матильда, пристегнутая ремнем, сидела неподвижно. Она ни разу не повернула головы, тупо уставясь через ветровое стекло на стремительно бросавшуюся под колеса автостраду. На какой-то миг мне показалось, что она постарела.
Когда мы возле Вестфаленхалле сворачивали на Крюкенвег, она прошептала:
– Мой отец фанатик, может, даже сектант, а такие плохо кончают. Ему обязательно надо завести себе подругу, несколько другую, чем мать, умную, с которой он мог бы поговорить. Моя мать всегда считала отца чокнутым. Боже мой, если бы я не попала в руки к Хайнриху, то мыкалась бы сейчас по свету, как копия матери, только помоложе.
– Твоя мать начинает шантажировать отца. Об этом он сам мне рассказал и очень этим обеспокоен.
– Стоило ожидать. Когда она чует деньги, у нее отказывают все тормоза, даже если при этом она сама падает в пропасть. Она такая. Ее уже не исправишь. Но разве это удивительно? Каждому человеку нужны в жизни деньги. Ее полицейский сидит за укрывательство краденого, а когда выйдет, то подыщет себе женщину помоложе или просто другую, главное – с деньгами… А поскольку мать умом не блещет, то воображает, будто отцу принадлежит теперь весь завод. Ее можно пожалеть, однако я бы не хотела с ней встречаться, не потому, что она злая, нет, она не злая, она просто глупая. Раньше мать часто била меня, и теперь я понимаю, почему она так делала – у нее не хватало слов.
Я остановил машину в районе Шёнау в тени университета перед импозантным, чистеньким домом на одну семью.
– Приехали. Выходи, он дома.
Матильда открыла дверцу, но продолжала сидеть.
– Я боюсь.
– Не бойся. Он тебя ждет.
– Ждет меня?
– Говорю же.
– Спасибо, Вольфик.
Я не хотел присутствовать при их встрече: это было бы неприятно мне, да, пожалуй, и ему. Я подождал, пока она позвонила и пока открылась входная дверь, а потом уехал.
Май обрушился на нас прохладой и холодным дождем. В сокращенных выпусках газет можно было прочесть, что у нас самый холодный май за последние пятьдесят лет. Сомнений не возникало, ведь ежедневно у меня перед глазами был наш сад, имевший жалкий вид.
Я заметил, что с некоторых пор соседи по-другому стали на меня смотреть, здороваться, по-другому разговаривали со мной. Раньше я был для них человеком свободной профессии, теперь же стал одним из руководителей на предприятии, которое казалось им, вероятно, подозрительным. Я не мог даже упрекнуть их за это, поскольку то немногое, что писали о нашей модели, было полно недомолвок.
Уважение соседей, особенно старожилов, мы с Кристой заслужили не в последнюю очередь тем, что оригинально разбили свой сад, ухаживали за ним и вкладывали в него кучу денег. Это их восхищало. Летом люди останавливались перед нашим садом и почтительно покачивали головами.
Когда я, напевая себе что-то под нос, смотрел на наш мрачный сад, ко мне подошла Криста и молча положила на подоконник свернутый листок бумаги. Я вопросительно взглянул на нее, и меня изумило ее застывшее лицо. Я осторожно поднял листок и, уже разворачивая, узнал письмо Гебхардта заводскому коллективу.
– Откуда оно у тебя? – спросил я.
– И это все, что ты можешь сказать? Конечно, ты давно обо всем знал, но скрывал от меня.
– Откуда оно у тебя? – снова спросил я.
– Мне подсунули его в отеле. Теперь угадай, кто – доброжелатель или недоброжелатель? Во всяком случае, я обнаружила письмо в кармане пальто.
– Я не счел этот инцидент столь важным, чтобы непременно рассказать тебе. Анонимки смердят, все равно, кто их написал.
Криста гневно взглянула на меня, и вдруг ее как прорвало:
– Не важным? Эдмунд, ты впутываешься в высшей степени скандальную историю. Нет, ты уже по уши погряз в ней. И я должна спокойно смотреть, как моего собственного мужа засасывает трясина? То, о чем сказано в письме, я давно знала или могла догадываться. С самого начала это было болото. И я, как твоя жена, имею, наверное, право знать, чем занимается мой муж, с какими людьми поддерживает знакомство. Согласна, что написавший и отправивший это письмо – гнусная свинья, согласна, но то, о чем он пишет, все точно, тютелька в тютельку.
– Послушай, Криста. Шнайдер…
– Дай мне договорить. Мне хотелось провалиться от стыда, когда я читала письмо. Эдмунд, ты должен уйти оттуда. Эта вертихвостка может и до тебя добриться, ведь она извращена и предпочитает иметь дело только с мужиками, которые на тридцать или сорок лет ее старше. Уходи!
– Но я подписал договор. Взял на себя обязательство перед близнецами… Автор письма Гебхардт, если тебя это интересует. Шнайдер случайно это обнаружил. Он подал на него в суд и сразу же уволил.
– Прокурист Гебхардт? – переспросила Криста.
– Кажется невероятным, но факт остается фактом. К сожалению. Дожил в почете и уважении до седин.
– Я его знаю. Он часто бывал у бога-отца на переговорах на вилле. Ведь ему сейчас под шестьдесят. Почему же он так сделал? Неужели этот бедолага не подумал о том, что он подло клевещет на всю семью Бёмеров, на покойников и на сыновей?
– Клевещет? Но ведь ты только что сказала, что все написанное в письме правда.
– Не переиначивай мои слова… Да, ты подписал договор. Но ведь его можно и расторгнуть.
– Нет, Криста, этого я не сделаю.
– Хочешь остаться в этом гадюшнике? Может, я ослышалась? Очевидно, ты крепко там застрял, если уже не можешь вылезти.
– Мочь-то я могу, но не хочу. Пойми же наконец: я принял обязательства.
– Ты еще пожалеешь об этом, – сказала Криста. – Я тебя предупредила. Потом не приходи ко мне со слезами.
На следующий день я поехал в центр развлечься. После разговора с Кристой хотел расслабиться. В музыкальном магазине Шлютера купил долгоиграющую пластинку с этюдами Шопена. И у выхода прямо столкнулся с Матильдой. С тех пор, как я высадил ее у отцовского дома, она не давала о себе знать.
– Вот ты, оказывается, где, – сказала она недовольным тоном. – А я все утро ловлю тебя по телефону.
– Зачем?
– Затем, что ты мне нужен. Я хочу кое-кого посетить, но для этого визита мне нужен свидетель.
Пока мы шли по городу к ее дому, она рассказывала:
– Хорошо, что ты тогда не зашел со мной в дом. Отец вел себя так, будто он мой начальник. Устроил мне, что называется, разнос. Я полчаса слушала его проповедь, не возражая ни словом. Он бросал мне в лицо бог знает какие упреки, еще чуть-чуть – и упрекнул бы меня в отношениях с Хайнрихом. Потом мне это надоело, я встала и пошла к двери. Увидев, что я собираюсь уйти, он смягчился и показал мне комнату на втором этаже. Не комната, а убожество.
– Не у всех такие роскошные дворцы, вроде твоего, – заметил я.
– Я опять живу в своей квартире. Не хочу оставаться с отцом, у него мне тоже будет одиноко. Он просто влюблен в свой завод, такого самозабвения я никогда не замечала даже у Хайнриха… Конечно, у меня нет ни малейшего желания играть при отце роль прислуги, прачки и уж тем более кухарки. Но теперь мы хотя бы снова стали разговаривать друг с другом. Отец сказал, что мне надо заняться наконец чем-нибудь полезным. Так вот я сразу и начну, хотя он строго-настрого запретил мне вмешиваться во все, что имеет отношение к заводу. Но я вмешаюсь, тем более теперь. Если мой отец не сдвинет все с места, то это сделаю я, это мой долг перед Хайнрихом. А теперь мы начнем. Ты поедешь со мной.