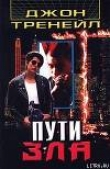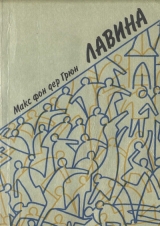
Текст книги "Лавина"
Автор книги: Макс фон дер Грюн
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 15 страниц)
Макс Фон дер Грюн
Лавина

Это случилось жарким летом восемьдесят третьего года, которое в памяти людей так и осталось «летом века», хотя старожилы утверждали, что такая жарища в наших краях была уже не раз. Жители нашего предместья, где все перемешалось: сельское хозяйство и промышленность, индивидуальные дома и стандартные застройки, – часто после работы засиживались в своих садах, на террасах или балконах далеко за полночь, потому что в домах застаивалась духота, и даже самые усталые просыпались в поту после короткого забвения. Соседи приглашали друг друга на гриль или просто на кружку пива; Криста и я старались никого не приглашать и не принимать приглашений. Нам нравилось сидеть одним на террасе, а кто по ночам долго бывает на воздухе, тот в ночной тишине улавливает звуки, которым днем среди множества шумов не придает никакого значения.
Была среда, десятое августа. Комары и мухи так одолевали меня, что я спасался от них только с помощью мухобойки. Я собирался налить себе стакан вина из стеклянного графина, в котором плавал наполненный кубиками льда цилиндрический вкладыш – вино сохраняло постоянную температуру, хотя и не смешивалось со льдом, – как вдруг услышал странный звук. Он напоминал крик смертельно напуганной кошки и заставил меня на миг затаить дыхание. Криста тоже подняла голову и снова опустила ее, погрузившись в свое вязание, а я продолжал напряженно вслушиваться в ночь. Криста вязала свитер, который мне предстояло носить осенью. Она, бывало, распускала части сложного узора: то сбивалась со счета, то петли казались ей слишком плотными или слишком слабыми. Все это она проделывала с удивительным терпением, не раздражаясь. Мне иногда казалось, что ей даже нравилось по многу раз переделывать одно и то же.
– Такое впечатление, будто кошка где-то застряла, – сказал я и сел рядом с женой на мягкую садовую скамейку.
Криста только заметила:
– Не пей так много, подумай о своей печени, нельзя каждый вечер выпивать по литру вина. И во всяком случае, это не наша кошка.
Потом мы долго молча сидели рядом. Духота и однообразное позвякиванье спиц наводили сон, меня разморило, в точности как нашу кошку, которая разлеглась возле нас на скамейке. Только мухи, которых я порой бил, не давали уснуть.
И вот он послышался снова, этот жалобный звук. Кошка вскочила, спрыгнула со скамейки и растянулась на красных клинкерных кирпичах, которыми была выложена терраса.
– Это кошка, где-то там, на улице, – внушительно произнес я.
Был уже час ночи, а термометр за окном все еще показывал тридцать градусов жары. Криста прервала свое вязание и бросила на колени спицы и клубок шерсти.
– Ты прав, это кошка. Ловцы кошек снова при деле, я читала об этом вчера в газете. Хвала науке!
Утром я проснулся весь взмокший. Поднял жалюзи в гостиной: за окном – тишина и покой, ласточки не летали, солнце еще не взошло, а небо опять предвещало знойный денек. Я вышел на террасу прямо в пижаме. Наша кошка, гулявшая по ночам на улице, с громким мяуканьем прыгнула мне навстречу. Подняв хвост и мурлыча, она потерлась о мои ноги и потом через гостиную побежала в кухню, где ее ожидала миска с едой.
Я уже собрался было вернуться в дом, как вдруг заметил на колокольне католической церкви, метрах в двухстах от нас, какое-то светлое пятно. В колокольне два узких, выше человеческого роста незастекленных окошка, которые обычно закрыты коричневыми деревянными ставнями; но сегодня правая ставня была открыта, и в проеме висела большая, в человеческий рост, кукла. На ней была синяя рубашка, синие штаны, а на шее – петля.
Мне захотелось разглядеть ее получше, и я достал из шкафа в гостиной бинокль.
То, что висело в сводчатом окне колокольни, не было куклой. Там, наверху, висел человек, мужчина. Это был фабрикант Хайнрих Бёмер, мой шурин, брат моей жены.
Неожиданно для всех Хайнрих Бёмер решил съехать со своей феодальной виллы. Эта мысль возникла у него после того, как за три месяца ему трижды разбивали окна на первом этаже. Вилла, построенная в конце прошлого века и купленная его дедом во время инфляции в 1923 году, так сказать, за бесценок, расположена к югу от нашего города, в северной части долины Рура, она одиноко прячется среди столетних вязов, дубов и высоченных сосен; все это больше походит на дикие заросли, не тронутые рукой человека, нежели на парк. Девизом Хайнриха Бёмера было не вмешиваться. Пусть все разрастается. Природа сама себе поможет.
Полицейские расследования не дали тогда никаких существенных результатов. Обнаружили только камни, ничего не значащие для следствия отпечатки автомобильных шин и подошв на окрестных проселочных дорогах, следы ног на лужайке и на почве между густых кустарников, окружавших виллу, как заколдованный замок, оборонительным валом.
Когда июньской ночью восемьдесят второго при проливном дожде и шквальном ветре почти все окна и дорогие стекла в высоких дверях террасы в третий раз – меньше чем за пять минут – были разбиты вдребезги и жена Бёмера в паническом страхе бежала в котельную, Бёмер принял решение подыскать квартиру в городе, желательно в высотном доме, что дало бы ему возможность жить уединенно и все-таки как бы под защитой соседей.
Хайнрих Бёмер чувствовал, что ему грозит опасность.
Его сыновей-близнецов, Ларса и Саши, в ту бурную ночь не было дома. Когда на другой день после вечеринки у друзей они вернулись на виллу, то пришли в ужас и ярость от новых разрушений, но, узнав о намерении отца, стали упрашивать его еще раз пересмотреть свое решение. Переезд, как они считали, был бы бегством от насилия, от которого непозволительно убегать, с ним надо вступать в борьбу. Бёмер возразил, что одолеть можно только того противника, которого знаешь. А кроме того, расстаться с виллой – практично, ведь она стала слишком необитаема и велика для него и их матери с тех пор, как оба сына поступили в университет и уехали из дома. К тому же госпожа Бёмер довольно редко бывает здесь, шесть месяцев из двенадцати проводит в Южной Франции и свое пребывание там увеличивает с каждым годом. Ему одному просто жутковато в этом похожем на дворец доме, где даже кухарка и прислуга излишни, поскольку, весь день предоставленные сами себе, они едва ли нужны для каких-либо поручений.
Благодаря своим связям и деньгам Бёмер вскоре нашел большую, перешедшую в его собственность квартиру с круглым балконом, роскошную квартиру на четвертом этаже только что возведенного дома неподалеку от центра города. Виллу он собирался продать. Нашлось много желающих, но Бёмер вдруг передумал. Оказалось, что он сильнее привязан к этому дому, чем хотел себе признаться: здесь он родился и вырос, прожил счастливые годы.
В начале зимнего семестра в октябре восемьдесят второго в пустовавшую виллу самовольно вселились двадцать студентов из расположенного поблизости Дортмундского университета. Они кое-как залатали дыры, привели дом в порядок; спали они прямо на полу, поскольку всю мебель Бёмер перевез в город или отправил на склад.
Когда он узнал о произволе студентов, то хотел вызвать полицию и выгнать этих юнцов. Пусть этот сброд, как он их называл, получит хорошую взбучку. Сыновья его отговорили: надо сначала подождать, как будут себя вести студенты, может быть, они станут даже полезны, ведь незаселенный дом быстрее разрушается, чем заселенный.
Бёмер согласился неохотно. Он презирал, он ненавидел людей, которые обращались с чужой собственностью так, будто это снег, бесплатно падающий с неба на всех без разбора. Он был убежден, что люди подобного сорта лишь до той поры ополчаются против собственности и собственников, пока сами не становятся ими, а уж когда станут, то будут защищать свою собственность самыми жесткими методами. Уж он-то за последние двадцать лет приобрел кое-какой опыт!
Вторжение на виллу вызвало также недовольство тех, кто жил неподалеку в окруженных заборами особняках и чувствовал себя спокойно только среди равных, вдали от прокопченной реальности большого города. Вот туда-то и бежал Хайнрих Бёмер, единственный владелец электрозавода Бёмера с пятьюстами рабочих и служащих, бежал от неведомой ему опасности. Его завод, порой почти на девяносто процентов зависимый от экспорта, со времени основания давал неплохую прибыль. Экономического застоя предприятие пока еще не знало, к удивлению и зависти конкурентов, с которыми Бёмеру приходилось встречаться на конференциях Союза предпринимателей. Завистники приписывали ему неблаговидные методы; он даже стал политически подозрительным, потому что – и это не было секретом – большая часть его продукции шла в страны восточного блока. Самого Бёмера мало трогали все эти злостные измышления. Он слишком хорошо знал, что во все времена менее удачливые ищут прибежище в злословии, поскольку им не хватает ума и фантазии, и с презрением говорил: «Если бы продавались ум и фантазия, эти люди не купили бы ни того, ни другого, потому что скупость давно замуровала их мозговые извилины и только алчность – основа их жизни».
Сам Бёмер никогда не был ни в одной социалистической стране. Он приглашал к себе специалистов оттуда или посылал туда эксперта по экономическим вопросам д-ра Паульса, прокуриста, доверенного фирмы, Гебхардта, главного инженера Адама.
Особые политические опасения в Союзе предпринимателей, у коллег и конкурентов вызывало то, что Бёмер держал у себя на заводе одного левого социал-демократа, которого коллектив единогласно избрал в производственный совет, а производственный совет – единогласно своим председателем. На заводе и за его воротами этот человек, по имени Манфред Шнайдер, заявлял, что его политическое кредо таково: «В нашей стране только тогда что-нибудь изменится, когда в корне другими станут принципы владения недвижимостью и вопрос о праве собственности займет центральное место во всех партийных программах».
Этому человеку Бёмер предоставлял свободу действий. На все упреки он невозмутимо отвечал: «Мне бы хотелось иметь побольше таких квалифицированных сотрудников, тогда марка „Made in Germany“ снова обрела бы прежний блеск».
Таков был Хайнрих Бёмер, сводный брат моей жены, незаконнорожденной дочери его отца, Клеменса. Клеменс Бёмер всегда упорно отрицал свою любовную интрижку и не платил матери Кристы ни алиментов, ни отступного. «Платить, – говорил он, – значит во всем признаться».
Хайнрих Бёмер привел Кристу в свой дом, после того как его отец скончался в результате автокатастрофы неподалеку от Дюссельдорфа. Сын хотел загладить вину отца. И Криста стала жить в доме Бёмера, но не как сводная сестра богатого человека – она стала няней близнецов Ларса и Саши. Она помогла вырастить обоих мальчиков, может быть, даже оказала на них какое-то влияние.
Позднее, когда мы познакомились – в трамвае, я помог ей собрать апельсины, рассыпавшиеся из лопнувшего пластикового пакета, – она предложила мне сходить на завод к ее сводному брату и попросить у него подходящую работу. Я ведь двадцать лет проработал экономистом по сбыту и снабжению на промышленном предприятии, прежде чем стать фотографом; профессия свободного фотографа – я делал снимки для газет и журналов – казалась моей будущей жене слишком ненадежной. Я попал на прием к Бёмеру, но этот богатырского сложения мужчина любезно, но решительно отказал мне: «Я не беру на работу людей, которые намерены в недалеком будущем породниться со мной, в какой бы то ни было форме».
Получив от ворот поворот, я снова очутился на улице.
Я даже не разозлился, мне было стыдно. «Никогда не иметь больше никаких дел с Бёмером», – сказал я себе.
Это мое поражение чуть не привело к разрыву с Кристой. Она считала, что я вел себя не лучшим образом, держался не умно, но через несколько дней обида забылась, и Криста пошла на примирение: «Прости меня, Эдмунд, мне надо было все это предвидеть. Глупо было с моей стороны заваривать эту кашу, глупо было ставить тебя в ложное положение. Опять подтверждается старое правило: с родственниками нельзя вступать в деловые отношения».
Через восемь недель мы поженились, а поскольку у нас никогда не было детей, хотя мы очень их хотели, то Саша и Ларс, как бы само собой, стали для Кристы детьми. Они регулярно навещали нас, и от них мы узнавали о том, что происходило на вилле: о чем там говорили, какие строили планы, – ведь со дня нашей свадьбы Криста больше туда не заходила.
Я никогда особенно не интересовался Хайнрихом Бёмером и его миром. Но Криста оставалась для близнецов няней: они могли делиться с нами всеми малыми и большими заботами, признаваться в том, в чем не хотели открыться родителям: Ларс изучал производственную экономику в Боннском университете, Саша учился на юридическом факультете в Мюнстере. Насколько я знал, у них были сносные отношения с родителями уже потому, что отец редко вмешивался в дела сыновей и неизменно держал их подальше от своего завода. Госпожа Бёмер, урожденная Хорземан, каждый год проводила несколько недель и даже месяцев в Южной Франции, в Авиньоне, в небольшом, но комфортабельном домике, унаследованном ею от отца. Старик Хорземан немало способствовал процветанию завода Бёмера. Он дал своей дочери к свадьбе полмиллиона марок приданого наличными, которые госпожа Бёмер без малейших колебаний отдала мужу, а тот вложил этот капитал в свой завод. Хайнрих Бёмер смог приобрести самое современное технологическое оборудование, что позволило ему несколько лет быть вне конкуренции. Пока коллеги по отрасли поняли, что происходит на его заводе, Бёмер уже завоевал некоторое монопольное положение.
Хайнрих Бёмер был удачливым заводчиком. Не прибегая к грубости, он твердо отстаивал свои интересы, но при этом всегда оставался в рамках существующих законов: не больше, не меньше.
И вот он висел на колокольне католической церкви, омерзительно потемневшей от копоти и грязи последних девяноста лет, возвышавшейся, как заточенный с четырех сторон карандаш, над поселком «Новая родина».
Я положил бинокль на садовый столик, затянул потуже пояс купального халата и прямо в домашних туфлях побежал вниз, к церкви.
Несмотря на ранний час, на площади перед церковью уже стояло с десяток людей, которые пристально смотрели наверх. Старик пенсионер, с которым я часто встречался в пивной, подошел ко мне и сказал:
– Надо же, повесился. Прямо в церкви. Ничего святого у людей нет, штрафовать за это надо.
На какой-то миг меня заняла мысль, как можно оштрафовать покойника, но я тут же откликнулся:
– Надо известить полицию.
– Уже известили. Я первый обнаружил покойника. С четырех утра не мог больше уснуть.
Старик выжидающе огляделся. Одна молодая женщина плакала, закрыв лицо руками, на ближайшем магистральном шоссе взвизгивали автомобильные шины. Церковную колокольню хорошо было видно с автострады, по утрам и вечерам мимо без конца проезжали жители загородных поселков.
На холме, возле водонапорной башни, которая снизу казалась огромным яйцом на ходулях, я заметил синие вспышки, которые то появлялись, то исчезали; через несколько минут на площади перед церковью остановилась полицейская машина. Из нее вышли два сотрудника и как бы в испуге огляделись по сторонам; к ним поспешно подбежал пенсионер и взволнованно показал наверх, на колокольню.
Полицейский помоложе, лет двадцати с небольшим, тихо сказал:
– Что только не приходит людям в голову. Если так и дальше пойдет, уволюсь со службы. Каждый день покойники, этого ни один человек не выдержит.
Я тихо ушел. Мне вдруг стало стыдно, что я опустился до уровня зевак, хотя мне было известно больше, чем всем остальным.
Дома я достал из шкафа свой фотоаппарат, прикрепил к нему телеобъектив, уселся на террасе в плетеное кресло и несколько раз сфотографировал человека на колокольне. Я не заметил, как рядом оказалась Криста.
– Что это ты фотографируешь в такую рань? Не хочешь ли приготовить завтрак? – спросила она.
Я услышал, как она прошаркала по клинкеру по направлению к дому, остановилась и повернула обратно. Потом подошла сзади и положила руки мне на плечи.
Я сидел, будто окаменев, боялся даже вздохнуть. Криста нерешительно взяла со столика бинокль, поднесла его к глазам и посмотрела вверх, на колокольню. И тут же бинокль грохнулся на клинкер и разбился у моих ног.
– Как ты можешь так безучастно сидеть здесь и фотографировать? – простонала она. – Что же ты за человек!
– Может, мне надо пойти, подняться на колокольню и срезать его с петли? Но это сделают пожарники, полиция уже прибыла.
Я умолчал о том, что уже был там, внизу. Мне страшно было признаться ей в этом, но я не понимал почему.
Потом я наблюдал за тем, как из пожарной машины поднялась вверх длинная лестница, как двое пожарных полезли по ней и срезали или отвязали покойника. Я только удивился, что они приставили лестницу снаружи, а не поднялись по колокольне изнутри.
Я испытывал страх и не знал отчего.
На другой день местные газеты были полны материалов о добровольном уходе из жизни – слово «самоубийство» не употреблялось – предпринимателя Хайнриха Бёмера. Его, как писали газеты, любили и ценили, он был выдающейся личностью, его знали как благородного мецената культурных и социальных учреждений нашего города, хотя сам он редко принимал участие в общественной жизни. Он успешно вел свое образцовое предприятие через все экономические мели и рифы, поэтому его добровольный уход из жизни более чем загадочен: во-первых, сама его смерть, во-вторых, необычное ее место. Предприятие процветает, сам шестидесятилетний владелец духовно и физически был в прекрасной форме, что единодушно подтвердили все опрошенные, в первую очередь те, кто повседневно имел с ним дело. В этой связи вспомнились также не выясненные до сих пор происшествия на его вилле в прошлом году, которые вынудили Бёмера покорно покинуть свой прекрасный особняк в долине Рура. Его жену, которая по обыкновению находилась в Авиньоне, в Южной Франции, уже известили, обоих его сыновей, как заявил прокурист Гебхардт, давнее доверенное лицо Хайнриха Бёмера, еще не разыскали. Оба они находятся в туристской поездке по Северной Америке. Гебхардт отправил по маршруту телеграммы на их имена, однако ответа еще не поступало.
На другой день, когда я доставал утром из почтового ящика газеты, мне бросился в глаза напечатанный жирным шрифтом и подчеркнутый красной чертой заголовок: «Хайнрих Бёмер – жертва преступления». Чуть пониже мелкими буквами было набрано: «Есть ли связь с прошлогодними событиями на его вилле?»
Далее сообщалось, что судебная экспертиза установила, что Хайнрих Бёмер был уже мертв, когда его повесили на колокольне. Сильный удар тяжелым предметом в затылок вызвал мгновенную смерть.
– Этого он не заслужил, – сказала Криста. – Он был глубоко порядочным человеком и за мое появление на свет не несет никакой ответственности. А что будет теперь с его заводом?
– Прежде всего надо найти близнецов, – ответил я. – Они унаследуют все – разумеется, вместе с матерью. Боюсь только, что им не по плечу бремя такого наследства. Ларс играет Моцарта, а Саша – в теннис. Этого недостаточно, чтобы управлять предприятием, ведь даже лучший прокурист стоит не больше, чем его шеф. Пока близнецы закончат университет, пройдут годы. А чужаки предпочитают хозяйничать в свой карман.
– Не всегда, – недовольно возразила Криста и взглянула на меня чуть ли не со злостью.
– Не кипятись, – сказал я. – Пойду схожу в магазин.
Я прошел мимо церкви и остановился на церковной площади. Деревянные ставни на правом окне были опять закрыты, как будто ничего, абсолютно ничего не случилось. Колокольня, покрытая вековой копотью, будто краской, показалась мне еще более мрачной, чем раньше.
Лишь однажды я виделся и разговаривал с Хайнрихом Бёмером, с этим великаном. Он довольно вежливо, но твердо меня отшил, за что потом мне следовало быть ему даже благодарным, ведь его отказ взять меня на работу на свой завод стал для меня началом скромной, хотя и небезуспешной карьеры фотографа. И вот он мертв. Несмотря на родство, несмотря на регулярные визиты его сыновей, которые называли мою жену тетей Кристой, для меня он все эти десять лет оставался чужим человеком.
Мать Кристы была кухаркой в доме Бёмера, старик Бёмер сделал ей ребенка, в этом нет ничего необычного. Слуги в его доме были одновременно его подданными и, если речь шла о женщинах, – объектами удовлетворения его похоти. Когда мать Кристы забеременела, Клеменс Бёмер выпроводил ее из своего дома. Это было в 1943 году, в самый разгар бомбежек. Она потом так никогда и не вышла замуж, перебивалась с ребенком на черной работе в войну и послевоенные голодные годы, и только в 1963 году, когда Саше и Ларсу только что исполнилось два года, Хайнрих Бёмер привел свою сводную сестру в особняк на холмах Рура. Отец на смертном одре – после автокатастрофы он прожил еще три дня – признался ему в своем грехе и просил сына привести в дом Кристу, возместив ей все, в чем он отказал ее матери.
Клеменса Бёмера похоронили со всеми почестями. Федеральный крест первой степени за выдающиеся заслуги в восстановлении страны нес за гробом на черной бархатной подушечке господин в белых перчатках. Ничто так быстро не изглаживается из памяти, как нужда и голод.
Кто-то рядом со мной показал на колокольню и сказал:
– Вон там наверху он висел. Бесславная смерть для такого преуспевающего предпринимателя. Почему его повесили именно здесь, а не в другой церкви?
Произнося эти слова, незнакомец задыхался – наверно, был астматиком. Он был на полголовы ниже меня, стрижен ежиком, в белых кроссовках и брюках цвета хаки. За толстыми стеклами очков поблескивали юркие глазки; может быть, стекла искажали его взгляд. Жирное лицо было мокрым, и весь он источал кислый запах пота.
– Об этом вам следовало бы спросить тех, кто его туда затащил, – ответил я.
Я был уверен, что никогда раньше не видел этого человека. И в то же время он был мне чем-то знаком.
Конечно же, в магазинах люди говорили о происшествии, которое взбудоражило все наше предместье. Но я узнал немногим больше того, что мне было уже известно. Высказывались всякие предположения, ходили толки; выяснилось, что замок церковного портала вскрыли отмычкой. Но следы, которые могли бы повести дальше, пока не обнаружены – так по крайней мере компетентно заявил на пресс-конференции начальник полиции. Удалось установить лишь то, что преступников было несколько, ибо один человек был бы не в состоянии втащить на колокольню такого грузного мужчину, как Бёмер. Местные жители были огорчены тем, что именно нашу церковь избрали местом преступления, многие воспринимали это как личное оскорбление.
Мужчина, стриженный ежиком, еще стоял перед церковью, когда я возвращался с полной хозяйственной сумкой. Он фамильярно усмехнулся, вытер носовым платком лицо и затылок и шагнул мне навстречу.
– Странно, – обратился он ко мне, – почему именно в таком отдаленном районе преступники избавились от своей ноши. Здесь все так умиротворенно, так спокойно, так по-деревенски. Может быть, это и послужило причиной?
– Вам надо бы спросить об этом преступника, – сказал я. – Я вам ничем не могу помочь.
Пока я медленно поднимался по холму к нашему дому, я явственно чувствовал, как он сверлил меня колким взглядом.
Криста сидела в плетеном кресле на террасе.
– Мы должны пойти на похороны, – сказала она. – Думаю, этого требует элементарное приличие. Ведь я была его сводной сестрой. И он всегда был добр ко мне. Не могу на него пожаловаться.
– Для меня он посторонний человек, – ответил я.
– Для тебя – возможно. А я десять лет жила в его доме.
– Но уже больше десяти лет не разговаривала с ним. Он – Бёмер, мы – Вольфы, а ты урожденная Клаазен, хотя твой родитель тоже был Бёмером.
– К этому мой сводный брат не имеет никакого отношения. Если бы моя мать не захотела, меня и на свете не было бы.
– Я вовсе не упрекаю твоего отца в том, что он тебя зачал. Я упрекаю его в том, что он выгнал из дома твою мать, как собаку. Этот господин Клеменс Бёмер ни разу тобой не поинтересовался, ты была для него лишь досадной неприятностью.
– Может быть, моя мать мечтала о лучшей жизни, если уступила домогательствам хозяина. Я никогда ее об этом не расспрашивала, а сама она никогда ничего не рассказывала. Не исключено, что она и впрямь надеялась на лучший удел, нежели на жизнь простой кухарки. И не забывай, что она была молода, красива и неопытна, а он был боссом с большими деньгами. Ведь бывает так, что одна любезность влечет за собой другую.
– А, брось! Просто в нем взыграла похоть, и он скомандовал: марш сюда! Он спал с твоей матерью не потому, что любил ее, просто хотел удовлетворить свою страсть. А сейчас оставь меня, пожалуйста, в покое с этими похоронами. Если тебе так уж хочется, можем пойти вместе.
Саше и Ларсу было двенадцать лет, когда Криста покинула дом Бёмера. Оба они потом регулярно бывали у нас, но Криста никогда не навещала близнецов на вилле. Она упорно избегала посещать этот дом, да и господин Бёмер с женой никогда не заходили к нам. Никто из соседей не знал о наших родственных отношениях. Для любопытных Криста была раньше няней у Бёмеров, не более того.
И вдруг мне опять вспомнился мужчина, стриженный ежиком.
Я хотел было рассказать Кристе об этой встрече, но промолчал, сам не зная почему.
У моей жены до конца августа еще был отпуск, мы оставались дома. Не поехали, как бывало прежде, в маленький пансионат на юге Германии или Австрии, а решили насладиться в то «лето века» своим садом, да и растрачивать сбережения было жаль в такое время, когда неимущие разорялись, а обеспеченные обогащались еще больше. Мой сосед однажды сказал: «Да, экономика защищена законом, а рабочий объявлен вне закона».
Похороны Хайнриха Бёмера на Восточном кладбище были во всех отношениях необычны. Необычным было пекло, термометр уже в десять утра показывал двадцать четыре градуса в тени, необычным было такое множество участников траурной церемонии, необычным было такое множество знатных лиц во главе с обер-бургомистром, необычным было такое множество речей. Представитель Союза предпринимателей, лет сорока пяти, спортивного вида, весьма импозантный мужчина, патетически назвал покойного своим другом, представитель профсоюза воздал Бёмеру хвалу как безупречному партнеру, представители местных властей и земельного правительства уныло повторяли заученные, хотя и необходимые, фразы и поминали умершего как щедрого мецената, который великодушно поддерживал в этой земле культурные устремления. Кроме того, у открытой могилы собрались посланцы разных объединений, духовой оркестр в синей униформе и струнный квартет музыкантов в смокингах. Все это больше напоминало празднество, чем похороны.
Саша и Ларс с обеих сторон поддерживали свою мать под руки. Длинная черная вуаль почти по грудь закрывала лицо госпожи Бёмер; близнецы, темно-коричневые от загара, стояли с вытянувшимися лицами у могилы. У меня создалось впечатление, что они вообще не слушали речей, лишь отбывали повинность.
Но оба они вскинули головы, когда председатель производственного совета Шнайдер подошел к могиле и от имени коллектива возложил на гроб большой венок из красных гвоздик, а потом обратился к собравшимся. Он говорил медленно и взволнованно:
– Многоуважаемая семья Бёмер, уважаемые господа, я постараюсь быть кратким после такого множества надгробных речей. Сейчас здесь хоронят человека, утрата которого останется для нас, рабочих и служащих завода Бёмера, невосполнимой. Пусть другие выясняют причину его смерти, мы ничего не станем ворошить. Мы глубоко скорбим об этом человеке. Мне бы только хотелось, чтобы когда-нибудь были опубликованы и стали достоянием общественности его мысли, взгляды и выводы, которыми он делился со мной, имевшим честь в течение семи лет представлять интересы нашего коллектива. Он не был упрямцем и не стремился к наживе любой ценой, он был партнером, ценившим мнение собеседника. Со своими рабочими и служащими он всегда обращался по-человечески.
Потом Шнайдер возвысил голос:
– Хайнрих Бёмер, простирай и из могилы свою руку в защиту трудового люда твоего завода!
Дальше произошло неожиданное: пятьсот рабочих и служащих зааплодировали Шнайдеру. Такого, вероятно, еще никогда не случалось на немецких кладбищах.
Стоявшие у могилы вздрогнули. В воздухе запахло скандалом, я прочел это по многим лицам. В такую жару возмущение просто вскипало над головами. Близнецы же опять опустили головы и сделали вид, что все идет нормально. Они напряженно слушали, как духовой оркестр исполнял песню «О добром товарище».
Примерно в это время я заметил девушку, которая, как и мы, стоя немного в стороне, смотрела на похороны из-за кустов. Она была в черном брючном костюме и черных туфлях на высоком каблуке; она была изящна и на редкость красива. Девушка безудержно плакала. Ее нежный облик вызывал жалость и участие; содрогание плеч выдавало, что плакала она от боли и ничего не чувствовала, кроме этой боли. Это было впечатляющее зрелище, такое не мог бы придумать ни один театральный декоратор: в том, как стояла эта девушка за толпой людей в черном, было что-то вызывающее.
Когда стихло ларго, жалобное, но вместе с тем очищающее, и черные фигуры снова встрепенулись, девушка вытерла рукой глаза и подбородок и на какой-то миг беспомощно воздела над головой руки. Потом она убежала прочь, напрямик через кладбище. Лишь немногие из присутствовавших заметили ее: председатель производственного совета Шнайдер на секунду протянул руки, как будто хотел ее остановить или вернуть обратно.
Шестеро мужчин в белых перчатках опускали гроб в могилу. Толстые веревки равномерно скользили в их руках; когда гроб оказался внизу, а веревки снова лежали сверху, могильщики сняли перчатки и бросили их на гроб.
Кто была эта девушка? Сначала я подумал, не профессиональная ли плакальщица, но потом меня осенила мысль, что она могла быть незаконной дочерью Хайнриха Бёмера, как моя жена была незаконной дочерью его отца.
Криста схватила меня за руку и увела прочь. Мы покидали кладбище, ни разу не оглянувшись на участников похорон. Солнце палило немилосердно, раскаляло мостовую и асфальт.
У выхода нам встретился человек, в котором я сразу же узнал того типа с площади, стриженного ежиком. Он прятался от солнца под зонтиком и все-таки весь обливался потом. Пот стекал по его лицу и капал с подбородка.
Я растерялся, испытывая невольное отвращение. Человек слегка подобострастно поклонился Кристе; она непонимающе посмотрела на его мокрое лицо.
– Я работаю в одном иллюстрированном издании, – представился он. – Мы с вами уже как-то раз виделись, господин Вольф, перед церковью. Не могли бы вы что-нибудь сказать по поводу смерти вашего, э-э, в некотором роде шурина? В газетах напечатаны только предположения, а ситуация довольно загадочна. Моя газета в высшей степени заинтересована в разъяснении этой истории. Разумеется, я имею в виду раскрытие этого преступления. Вы понимаете, что я хочу сказать. Вы ведь тоже работаете для газет, правда в качестве фотографа.