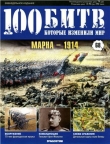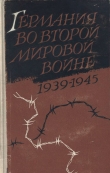Текст книги "Война"
Автор книги: Людвиг Ренн
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 18 страниц)
Ночью я обходил свои позиции. Мои люди стали невнимательны. Казалось, за эти три дня отдыха они снова почувствовали, что существует еще и другая жизнь и что можно не только стоять на посту в воронке.
Среди ночи меня стал мучить голод. Но есть было нечего, и я все ходил кругом, не зная, чем бы заняться. Взошла луна. Позади в низине висел туман. Белая гора призрачным пятном вырисовывалась во мраке. Вблизи же все предметы были необычайно отчетливо видны. Я пошел к могиле Израеля, на которой теперь стоял деревянный крест. Утренний холод дрожью пробегал по телу.
Когда принесли пищу, я не мог есть. Еле-еле, с отвращением проглотил одну ложку. А теперь нужно было еще два часа нести караул!
Я закурил сигарету. Но курить тоже не мог… «Верно, – подумал я, – у меня просто расстройство желудка». Мы получили шнапс. Я налил себе немножко в кружку и выпил. К горлу стала подкатываться тошнота, и я бросился к выходу, боясь, что меня вырвет.
– Зяблик сегодня не прилетел, – сказал Хартенштейн, – только черный дрозд.
Наконец я улегся спать. Но сон был неспокоен: я слышал все происходящее вокруг, и это мучительно переплеталось с разными сновидениями.
Во второй половине дня сверху крикнули:
– Французы наступают на Белой горе!
Я бросился к выходу. И увидел, как по французскому склону карабкались вверх фигурки и исчезали в углублениях. Там уже нельзя было отличить окопы от воронок… На нашем склоне облака разрывов вырастали, словно кусты из-под земли. В воздух взвились красные ракеты. Забрехала наша артиллерия, и издали донеслись глухие разрывы снарядов. Наш заградительный огонь был необычайно мощным. На вершинах горы показывались на миг фигуры людей и снова исчезали… И нельзя было определить – наши это или французы.
Справа появились колонны пехоты; они беглым шагом поднимались в гору. На фоне светлого неба четко вырисовывались их темные фигуры. Идущий отдельно от строя человек, по-видимому, отдавал распоряжения. Он казался крупнее и внушительнее остальных. Колонны рассыпались и залегли. Я видел только оставшегося стоять офицера. Неожиданно на правой вершине появился человек и слева другой – оба, похоже, с винтовками наперевес. И оба двигались в нашу сторону.
– Ты видел? – спросил Хартенштейн.
– Да, это был ближний бой. Я представлял его себе, правда, иначе. Этот вроде был не очень тяжелый.
Некоторые убегали справа по правой вершине. Все как будто возвращалось на свои места… Для чего это все-таки нужно – постоянно колебать чаши весов? Только для ослабления?
Эту ночь я снова кружил по своим расположениям. Пришел посыльный: меня требует к себе Ламм.
Он сидел за узким столом у стены и что-то писал при свете свечи.
– Садись рядом на скамейку. Я хочу обсудить с тобой, кого следует представить к награждению. Рота стала для меня настолько чужой, что я почти никого не знаю. Теперь, когда немного поутихло, прибавилось работы с составлением донесений, так что прошлой ночью я сумел всего лишь раз выбраться к Лангенолю. Мне ничего не остается, как просто доверять командирам взводов – надеяться, что они выполняют свои обязанности.
Голос его звучал устало.
К утру, когда принесли пищу, я почувствовал себя совсем худо. Но все же постарался что-то проглотить. Обедать в три часа утра, когда у тебя температура! И потом еще два часа нести караул… Мне казалось – я не выдержу.
Я подсел к Хартенштейну на лесенку. Мы молча сидели рядом. Он уже не бросал крошек: птиц не было, смолкли их голоса.
Я слышал только его дыхание. Он сидел неподвижно. Мы молчали, и молчание это создавало чудовищную пустоту. Что можно было сказать? Нечего.
Хартенштейн встал.
– Ну, теперь всё, – сказал он и спустился вниз. Я посмотрел на часы. Нам оставался еще час до конца караула. Но я поднялся и пошёл спать. А ведь я – командир; я должен был подавать пример.
Спал я беспокойно. Начался обстрел, снаряды рвались совсем близко. Я все слышал – и меня это не трогало. Блиндаж качнуло. Сквозь потолок посыпался песок. Функе говорил с кем-то, тот сообщал, что слева ранило часового.
Потом пришел Хартенштейн:
– Теперь обстреливают Ламма. В небе французский корректировщик.
Ру-румм! Снова разрыв.
Кра-рамм!
Я скатился с нар.
Что-то царапнуло по мундиру.
Я направился к выходу.
В блиндаже кто-то возился…
Хартенштейн смотрел на меня с ужасом. Он уже выскочил.
Кто-то кинулся вниз, в овраг.
Функе бросился было за ним и вернулся.
– Он же рехнулся, – сказал Хартенштейн.
Я снова спустился в блиндаж. Сам не знаю зачем. Я шел совсем медленно, взял свой противогаз, ружье и каску. Потолок в глубине обвалился. Из обломков на меня смотрела голова. Человек был мертв. На одеяле валялся опрокинутый котелок с остатками еды.
Я вышел.
Ра-рамм! – слева.
Хартенштейна и Функе здесь уже не было.
Кремм!
В лицо мне угодил ком земли; я бросился бежать по крутому склону.
Могила Израеля превратилась в воронку; на краю ее, – полузасыпанные, лежали куски деревянного креста.
Я ускорил шаг. Что-то я упустил из виду – я это чувствовал, но не мог вспомнить что.
Бегом спустился по лестнице к Ламму. Я старался глядеть только на его сапоги на нарах и на шерстяное одеяло, накинутое поверх.
– Что произошло? – спросил он.
Я присел на деревянную скамью.
– Господин лейтенант, – сказал я, – нас завалило.
– Ты ранен?
Об этом я еще не успел подумать.
– Нет.
Он поднялся. Я не решался взглянуть ему в лицо. Он стоял передо мной.
– Какие у вас потери?
– Я не знаю.
– Ты не знаешь? – переспросил он резко.
Я сам понимал, что не выполнил своих обязанностей.
– Так этого оставить нельзя, – сказал он спокойно. – Я пойду с тобой.
Мы вышли. Он остановился.
– Посмотри на меня.
Я чувствовал, что глаза у меня бегают по сторонам, избегая его взгляда.
– Пошли, – сказал он совершенно спокойно, – мы вместе отдадим необходимые распоряжения. – Ты не знаешь, кто мог убежать?
– Знаю, убежал Бильмофский. Он и до этого был дурак, а тут, должно быть, совсем потерял рассудок.
Ламм продолжал расспрашивать меня. Стрельба прекратилась, и воздух мало-помалу снова очистился.
– Так, теперь отдавай распоряжения! – сказал Ламм весело. – Я останусь у тебя.
Я был растерян, но все же отдал распоряжения и выяснил потери. Двоих засыпало в блиндаже, одного ранило, Бильмофский спятил и убежал, пятеро ни к чему не были пригодны.
– Я пошел, – сказал Ламм. – Позабочусь, чтобы вас сменили.
У меня было очень странное состояние: словно я все время теряю способность соображать и должен овладевать ею заново. Я мучительно ощущал свою вялость, несобранность, меня терзало сознание неисполненного долга. И при этом я чувствовал себя жалким, и меня одолевала тоска. Глядя на лес, я тосковал по лесу. Думая о товарищах, я тосковал по ним. Вечером пришел посыльный:
– Господин лейтенант передает, что к утру прибудет смена и вся рота отойдет назад в лагерь.
XVI
Вечером того дня, когда нас сменили, ко мне пришел Ламм:
– Давай пройдемся немножко.
Мы зашагали вдоль соснового лесочка.
– Послушай, – сказал я, – меня страшно мучает совесть.
– Это почему?
– Когда снаряд угодил в наш блиндаж, я не сумел взять себя в руки. Я считал себя бесчестным, потому что лег перед этим поспать, хотя не имел на это права.
Он молча смотрел в землю.
– А мог ли ты взять себя в руки?
– Я должен был это сделать.
– Я спрашиваю: мог ли ты?
– Не знаю, но думаю, что мог.
– Ты когда-нибудь задумывался над тем, что такое, собственно, нервный шок?
– Ну… потрясение.
– Этого мало. При испуге в сознании всегда возникает какое-нибудь представление. Оно целиком поглощает человека, он не может от него избавиться. Но как раз оно-то и не существенно. Тот, кто обладает достаточной душевной силой, чтобы при неожиданном событии спокойно осмотреться, – тот не испугается. Тебя мучает какое-то предчувствие. Но оно совсем не важно. А вот чего ты можешь стесняться, – так это твоего нежелания осмотреться. Видишь вишню в цвету? Я поэтому и привел тебя сюда…
Посмотри на нее. Видишь ты там что-нибудь? – Он улыбался.
– Ну… она цветет. – Больше я ничего в ней не находил особенного. Я вовсе смутился оттого, что не мог в ней ничего больше увидеть.
– Так ничего же больше и нет, – рассмеялся он.
Я совершенно не понимал, чего он добивается.
– Скажи теперь, куда девался твой нервный шок со всеми его представлениями?
– Прошел… – Все вдруг стало мне понятно. – Слушай! Но что-то все-таки есть в этой вишне. Она и вправду хороша! – И я рассмеялся тоже.
– Браво! Браво! – воскликнул он и сразу стал серьезен. – Но знаешь что? Ты вконец измотан. Здесь у тебя нет никаких обязанностей, а когда снова пойдем на передовую, майор направит нас в спокойное место. Он очень любезно поговорил со мной и сказал, что такого долго выдержать не может никто.
– Меня уже давно удивляет, что люди столько продержались в этих воронках, – сказал я.
– А меня удивляет, что никто даже не пожаловался ни разу. Для этого нужно обладать либо величайшим добродушием, либо чудовищным тупоумием.
XVII
Мы снова шли вперед к передовой и в лесу – в спокойном месте – сменили другую роту. Взводы Трепте и Лангеноля расположились впереди. Мой взвод вместе с Ламмом – в четырехстах метрах позади в минной галерее с девятью входами. Вниз вели бесконечные лестницы. Там, в совершенно непроглядной тьме, был проход, по обе стороны от которого располагались небольшие жилые помещения. В них стоял запах сырой одежды, гнилого дерева и плесени. В качестве стола мы использовали минную тару; да и как нары тоже – спать на сырой земле было очень неприятно. Минная галерея пустовала уже несколько месяцев.
Когда я спустился туда, мне стало жутко. Мы засветили гинденбургскую горелку. Она горела тускло. Функе, как всегда, курил сигару. Но удовольствия, казалось, не получал. Остальные тоже курили; а мне опять и курить не хотелось. Очень скоро воздух стал удушлив, словно они курили сушеные грибы. Мы легли спать. Время от времени в пустом проходе с потолка со звоном капала вода. До чего же уныло-пусто было здесь! Через один отвод от нас разместился Ламм со своими людьми, все остальные помещения – справа и слева – были свободны. Вообще-то мне было безразлично – есть тут рядом кто или нет, и вместе с тем – сам не знаю почему – было все же как-то жутковато.
Недолго поспали, и всем захотелось наружу.
– Это запрещается, – сказал я. – Однажды уже обстреляли все девять входов – три еще до сих пор завалены. Поэтому никому не разрешается появляться наверху.
– Но могли бы мы по крайней мере посидеть на лестнице?
Лестницы выходили на север. Ни один луч солнца не проникал внутрь. Мы видели перед собой только ослепительно-белую, освещенную солнцем известковую стену.
В минной галерее мне почти ничего не надо было делать, но читать не хотелось. Да и света маловато. Большую часть времени я лежал в полудреме. На второй день мне стало ясно: у меня жар – особенно по утрам, как раз когда приносили еду. Я полагал, что спокойная обстановка здесь – лучшее средство от болезни, и никому ничего не сказал. Но на следующую ночь, когда принесли еду, у меня так закружилась голова и так мне стало худо, что я решил сказать об этом Ламму. Тот как раз находился вместе с майором у нас в расположении. Я лег, укрылся и тем не менее меня трясло от холода. Но через некоторое время будто полегчало, и я решил не докладывать. Очень уж это представлялось мне жалким, что я – командир взвода – доложу о своей болезни здесь, на передовой.
К обеду я почувствовал сильный голод и с аппетитом поел. Я решил, что пошел на поправку. Но на следующее утро мне стало совсем невмоготу. Функе хотел заставить меня что-нибудь съесть. Однако я не мог. И при этом почему-то испытывал сильный страх, и меня трясло от холода. И все же я решил переждать еще один день.
На следующий день я пошел к Ламму. Он отправился со мной в санитарный блиндаж и посовещался с врачом.
Старший лейтенант санитарной службы велел мне снять рубашку и долго простукивал и выслушивал мою грудь.
– Его следует отправить в тыл. Но вы можете оставить его и при роте. Это тоже можно. Используйте хорошую погоду и прекрасный воздух лесного лагеря – это же настоящий санаторий, – а когда я там у вас появлюсь, покажитесь мне еще раз… Это кто еще идет?
Один из наших санитаров вел Бранда. Он выглядел ужасно – из темных глазниц боязливо смотрели на врача глубоко запавшие глаза.
– Это мне уже знакомо, – сказал врач и быстро обследовал его. – Легкие в порядке. Младший фельдфебель может взять вас с собой. Побольше лежите на солнце. Это не так опасно, как кажется. – Теперь у нас уже много подобных случаев, – обратился он к Ламму, – особенно в вашей роте.
– Могут они одни идти в тыл? – спросил Ламм.
– Да, будьте спокойны.
Ламм проводил нас до выхода и сердечно пожал мне руку:
– Отдохнешь в лагере немного, а там посмотрим. Ранцы я вам вышлю этой ночью с вещевой повозкой.
Солнце только что взошло. Идти было приятно.
Я хотел взять Бранда под руку, но он сказал:
– Сам справлюсь.
Так, тихонько, брели мы вдоль окопов, потом – через зеленый луг вышли на дорогу.
Скоро мы устали и присели у обочины. Я был не прочь чего-нибудь поесть. Но мой ранец остался на передовой.
Мы пошли дальше. У ручья стояла заброшенная мельница, утопая в цветущей сирени. Зеленые водоросли шевелились в воде, словцо змеи. Потом мы вошли в лес и побрели вдоль подъездного узкоколейного пути; на насыпи между зелеными листочками проглядывали красные ягоды земляники. Мы опустились на траву, усталые, но счастливые. Потом снова шли и снова садились, и только к обеду пришли в лесной лагерь – прямо как дети с прогулки.
Позиционная война 1917/1918I
Я имел полное право дать себе волю расслабиться. Но вскоре сам не мог этого сделать. Я читал «Симплиция Симплициссимуса».
Каждое утро мы с Брандом, захватив одеяла, ходили на южный склон, где мягкая трава и молодые сосны. Там мы раздевались. Я заворачивался в одеяло и ложился на солнце. И потел так, что пот капал у меня с кончика носа. Затем я одевался – но не полностью – и забирался в тень. И через некоторое время обычно начинал чувствовать себя очень бодро.
В другое время дня мы лежали среди земляники. Ягод было так много, что мы собирали их вокруг себя, не вставая.
Накануне возвращения роты с передовой мы пошли набрать земляники для Ламма, Хартенштейна и Функе.
Через неделю я совершенно оправился и даже заскучал от бездействия. Старший лейтенант санитарной службы, которому я об этом сказал, покачал головой:
– Наберитесь терпения!
Но я уже больше не считал, что я болен.
II
Бранд вместе с ротой снова ушел на передовую. Но тут неожиданно поднялась температура у Вейкерта, Яуэра и многих других, и их отправили в тыл. То же самое стало отмечаться и в других ротах: вдруг – температура сорок градусов.
А потом наш полк сняли с фронта, и он длительным маршем был отправлен далеко в тыл, в нетронутые войной деревни, где жители по вечерам пели и играли на гитаре. Марш меня утомил. Бранд, Яуэр и еще некоторые были настолько изнурены, что последний отрезок марша их пришлось взять на пулеметную повозку.
В тылу я снова принял службу в роте.
Мы занимались строевой подготовкой на лугу, когда пришел посыльный из батальона.
– Младший фельдфебель Ренн откомандировывается в ударный батальон. Сегодня в три часа во второй половине дня вам надлежит быть в походной готовности перед батальонной канцелярией.
– Служба в ударном батальоне, – сказал Ламм, – будет для тебя легче, чем в окопах.
Мне это ни о чем не говорило. Во всяком случае я очень смутно представлял себе, что такое ударный батальон.
Перед канцелярией батальона я встретил молодого лейтенанта, нескольких унтер-офицеров и ефрейторов.
– Младший фельдфебель Ренн, третья рота, явился!
Лейтенант щелкнул каблуками и отрекомендовался:
– Линднер.
Я сделал каменное лицо, но какой-то мускул все же, видимо, дрогнул. Лейтенант слегка покраснел:
– Меня произвели только вчера.
– Должен ли я выяснить, все ли прибыли, господин лейтенант? – в смущении спросил я. Линднеру, похоже, не было еще и двадцати лет.
Мы с ним зашагали по зеленой долине.
– Что это, собственно, такое – ударный батальон, господин лейтенант?
– Я и сам толком не знаю. Знаю только, что нас будут обучать на командиров дозоров и ударных команд.
«Как же можно обучить такому?» – подумал я.
Нашим инструктором оказался молодой офицер с Железным крестом первой степени. У него был берлинский выговор, вне службы он держался жеманно и надменно, но на ученье это с него слетало, и он становился по-мальчишески непосредственным и старательным.
Солнце пекло. Мы должны были таскать пулеметы, бросать ручные гранаты, продвигаться по окопам и бесшумно ползать. Сначала я очень уставал, все время потел, и раза два – правда, лишь на мгновение – у меня все поплыло перед глазами. А потом с каждым днем становилось легче. Служба продолжалась с утра до вечера с перерывом на обед всего на два-три часа. Времени, чтобы думать, не оставалось, и я чувствовал себя прекрасно.
Линднер постоянно был со мной и вне службы.
– Никак не привыкну к тому, что я – офицер, – сказал он мне. – В моей семье ужасно горды этим, у нас еще никто не залетал так высоко. Но я тут ни при чем – в мирное время мне бы такого никогда не достичь.
III
Уже близилась осень, когда я вернулся в роту. Никто больше не справлялся о моем здоровье, и я сам вспоминал о своей болезни как о чем-то не имеющем ко мне отношения. Я чувствовал себя совершенно здоровым да и в самом деле был здоров.
Я доложил о прибытии Ламму – это было в канцелярии. Он взял со стола лист бумаги и протянул его мне.
«Лейтенант в запасе Ламм зачисляется в штаб первого батальона в качестве офицера для поручений. Должность командира третьей роты вверяется старшему лейтенанту Лёсбергу».
– Кто этот новый командир?
– Он из штаба дивизии. Имеется приказ, согласно которому офицеры высших штабов время от времени должны проходить службу на фронте.
– Разве это причина забирать у нас командира?
– Успокойся. Я так и так стал бы офицером для поручений.
На следующее утро Ламм собрал роту.
– Меня переводят в штаб батальона, и сегодня я вас покидаю. Как вы понимаете, мне будет трудно. Но я верю, что передаю моему преемнику хорошую роту, и это облегчает мне мой уход. До свидания, рота!
Мы разошлись.
– Такого командира мы больше не получим, – сказал Вольф, уже поправившийся после своего ранения.
Функе, усевшись в угол, жевал свою неизменную сигару и бормотал что-то о хорошем человеке.
Вечером прошел слух, что новый здесь.
– Как он выглядит?
– У него монокль и стек.
– Это отдает тылом.
Я заметил, что вся рота настроена против него – и не по деловым соображениям, а просто потому, что это не Ламм. На следующее утро он явился, когда рота была построена для несения службы. Фельдфебель дал команду смирно и отрапортовал.
– С сегодняшнего дня мне вверяется третья рота. Я слышал хорошее о роте. И рассчитываю, что моя рота будет лучшей в полку. С богом за короля и отечество – всегда было и будет нашим девизом, и с этим я приветствую вас!. Вольно! Фельдфебель, идите за мной и представьте мне унтер-офицеров!
– Младший фельдфебель Ренн.
– У вас кожаные наколенники и обмотки на ногах. Разрешено такое в полку, фельдфебель?
– Он только два дня как вернулся из ударного батальона.
– Это хорошо. Мы составим целый ударный взвод. Вообще-то, вижу я, вся рота стоит как попало – старые рядом с молодыми и гиганты рядом с карликами. Никто не пытался изменить этот порядок?
– Нет, господин старший лейтенант. До сих пор командиры роты всегда оставляли вместе тех, кто знает друг друга.
– Так нельзя. Это не придает военного вида. Сейчас же перестроиться. Вы, Ренн, идите со мной и укажите людей, которые подходят для ударного взвода.
Я указал на Вольфа.
– Хорошо.
Я указал на Функе.
– Этот? Как в роту вообще попадают такие старые люди? Хочу видеть вас в следующий раз умытым и в более опрятном мундире!
Мы составили новый взвод с унтер-офицером Хауффе и ефрейтором Зенгером в качестве командиров ударных команд. Не хватало командира для третьей команды.
– Как вас зовут? – спросил Лёсберг какого-то парня, по виду лет восемнадцати, с сияющими голубыми глазами, которого я еще мало знал.
– Хенель, господин старший лейтенант! – громко крикнул юноша.
Я искоса наблюдал за Лёсбергом.
Он был бледен, немного одутловат; его мягкий, пухлый, безвольный рот не понравился мне.
IV
После перестроения по росту антипатия к Лёсбергу еще возросла, особенно со стороны тех, что бок о бок прошли через весенние бои, а теперь оказались разобщенными. Но только они-то и имели собственное мнение. Один лишь Функе со своим невообразимым добродушием заступался за Лёсберга, хотя тот обращался с ним крайне пренебрежительно и всегда находил какой-нибудь непорядок в его одежде или выправке.
На следующий день после перестроения мы направились в траншею. В эту ночь мы Лёсберга не видели. Он явился только наутро, чтобы все осмотреть. Я показал ему участок своего взвода. Пожилой солдат подметал траншею.
– Я замечаю, что ваши люди грязны. Мы должны строго следить за чистотой. У этого солдата совсем невообразимый вид!
– Нам вряд ли удастся лучше выглядеть, пока у нас такие блиндажи; у большинства входы настолько узкие, что приходится выползать на четвереньках, и уж, конечно, вымажешься с головы до пят.
– Не удастся? Этого я не признаю! – сказал он резко. – Надо требовать и получится!
При входе в следующий блиндаж сидел обнаженный по пояс солдат и искал вшей. Он смущенно встал, но не мог принять стойку смирно, так как вход был слишком низкий.
– Встаньте как положено! – прикрикнул на него Лёсберг.
Тот вышел и загородил траншею.
– Чем он сейчас должен заниматься? – спросил меня Лёсберг.
– Сейчас у них перерыв на завтрак, господин старший лейтенант.
– И как надолго?
– Точно не установлено, потому что сейчас еще время сна.
– Почему сон сейчас?
– По ночам у них разгрузка транспорта: в эту ночь они носили за высотку Элизабет рельсы и средней величины мины для минометов.
– Как долго это продолжалось?
– С полуночи до рассвета.
– В таком случае люди совершали прогулку!
– Мины тяжелые, и их нужно нести осторожно.
Я заметил, что Лёсберг хотел и здесь что-нибудь улучшить, но, наверное, мало в этом деле смыслил.
– Дежурный унтер-офицер в окопах! – отрапортовал длинный Зенгер.
– Вы сегодня уже умывались? – Лицо у Зенгера действительно было грязновато.
– Нет, господин старший лейтенант, у нас в траншее нет воды.
– Это не причина! Кто хочет, тот найдет. Мой дорогой Ренн, это не годится! Мы не орда разбойников, а рота Его Величества! – Эти слова, кажется, очень понравились ему самому.
Мы подошли к часовому. Это был краснощекий, молодой парень; он молодцевато отрапортовал, стоя навытяжку. Лёсберг поднялся на ступеньку и положил ему руку на плечо.
– Ну, покажите, что вы здесь наблюдаете!
Часовой объяснил.
Мы пошли дальше.
– Такими должны быть все люди вашего взвода, бодрыми, с выправкой!
– Здесь правая граница моего взвода, господин старший лейтенант.
– Я собираю командиров взводов в одиннадцать у себя в блиндаже!.. До свидания!
Мы с Зенгером пошли назад.
– С ним совсем не трудно иметь дело, – засмеялся Зенгер. – Надо поживее выяснить, когда он делает обход, и ставить часовыми молодцов.
В одиннадцать часов мы – командиры взводов – собрались перед его блиндажом. Он почти два часа распространялся о различных недостатках и указывал, как их нужно исправлять.
Наконец нас отпустили.
– Как тут быть, господин лейтенант? – спросил я командира нашего первого взвода. – Это же никуда не годится – при такой системе люди вообще не будут иметь времени для сна.
– Как быть? Говорить – да, а делать по-своему! – засмеялся лейтенант. Трепте тоже рассмеялся. Но мне было не до смеха. Меня заботила судьба моих людей. Как же тут поступить? Оказывать неповиновение нельзя, но вместе с тем нужно ведь и заступаться за своих подчиненных.
V
Нельзя не признать, что некоторые из распоряжений Лёсберга были действительно толковыми. Но вместе с тем во всех его словах чувствовалась фальшь. Лёсберг не желал замечать, что таким способом даже там, где изменения по-настоящему необходимы – по крайней мере на мой взгляд – практически ничего нельзя было исправить, все делалось только для отвода глаз. За его спиной мы, командиры взводов, а также и командиры отделений, обманывали его везде, где только можно, и прежде всего – в те часы, когда он не появлялся. Ночью он оставался в блиндаже, так как страдал куриной слепотой.
Вероятно, он в конце концов что-то все же заметил, так как стал искать поддержки среди рядового состава. Хауффе, Хартенштейн и Зенгер были совершенно невосприимчивы к его любезным словам и разглагольствованиям. Молодой Хенель, хотя и доверчивый по природе, тоже был очень сдержан по отношению к новому ротному. Впрочем, Хенель иногда мог быть и очень груб, если его сильно задеть. В его больших светло-голубых глазах было что-то необычное, что привлекало к нему людей, – его любили и пытались защищать, когда в этом появлялась необходимость. Он совсем не был красив, но его дивные глаза покоряли всех. Не избежал их обаяния и Лёсберг, который вскоре произвел Хенеля в ефрейторы, а еще некоторое время спустя – в унтер-офицеры. Хенель очень был этому рад, но не выражал ни малейшей признательности Лёсбергу, чего тот никак не мог взять в толк.
Но не все оказались столь же неподкупны. Тем, кто пришелся Лёсбергу по нраву, он имел обыкновение доставать новые мундиры, и большинство этих людей верило его разглагольствованиям. Но среди его любимцев не было ни одного по-настоящему дельного человека.
Обычно Лёсберг спал очень мало и с шести утра и при том нередко до полуночи – был занят делами. Он проводил беседы: ему нравилось слушать себя; он просто упивался собой, своей организаторской деятельностью; он писал пространные донесения своим начальникам и обсуждал их для вида со своими посыльными или с кем-нибудь еще, кто был под рукой, желая показать, как это у него все здорово получается; он составлял планы обучения – словом, проявлял старание во всем.
Я наблюдал за этим без восторга, удивляясь про себя, как это можно из одного только холодного честолюбия так невероятно много работать.
VI
Наступила зима.
Пастора Шлехте у нас уже не было. Вместо него появился молодой сверхштатный пастор. Он был младшим фельдфебелем при нашем полку и проповеди читал в военной форме. Он не мучил нас вопросом о том, почему господь допустил войну, а очень доступно и живо рассказывал нам из Библии. И достигал тем самым своей цели, так как не раз потом его слова продолжали обсуждать в бараке.
Но этот младший фельдфебель получил тяжелое ранение, и вместо него появился новый, ни разу до того не бывавший на фронте. Это был весьма странный человек.
– Кайзеру не следовало бы начинать войну, – сказал он в одной из своих проповедей. И почти тут же вслед: – Кайзер не начинал войны.
Проповеди этого человека не раздражали меня; мне было интересно пытаться установить, каким, собственно, путем пришел он к своим умозаключениям. Однажды он сказал:
– Для вас это радость – умереть за короля и отечество!
Неужто он ничего не знал о нашем отношении к войне? Или он считал войну каким-то добрым делом? Для чего обнажал он с кафедры самое уязвимое место войны?
В тот день после этой проповеди незнакомый мне офицер пытался объяснить на свой лад, почему мы ведем войну и зачем нам понадобилась Бельгия. «Что? Нам нужно удержать эту проклятую Бельгию? Из-за какого-то там внешнего превосходства мы должны ссориться с этим народом? Наше командование думает, верно, что война придется нам больше по вкусу, если оно взвалит нам на плечи свои заботы?»
Я задумался. Что такое в конце концов отечество? Ничто? Устаревшее понятие? Но должно же оно что-то значить! Может быть, я тоже люблю его.
VII
Поговаривали, что в марте у нас начнется большое наступление. Должен признать: Лёсберг хорошо обучил роту. Возможно, она действительно стала лучшей в полку. Если вспомнить, что мы представляли собой при выступлении в 1914 году, то теперь наша рота, несомненно, была подготовлена лучше.
Неожиданно пришло известие: старший лейтенант снова возвращается в штаб. Все-таки ему удалось пролезть. Собственно, для этого он и брал отпуск. Но перед своим уходом он хотел провести крупную операцию по захвату пленных. После этого полк будет снят с передовой для подготовки к наступлению.
Лёсберг приказал, пользуясь фотоснимками с воздуха, построить позади лесного лагеря сооружение для учебно-тактической тренировки, которое имитировало бы неприятельские окопы. Здесь должны были пройти тренировку подобранные команды.
Ко мне пришел Хауффе:
– Я в этом деле не участвую.
Меня это удивило. Он был лучшим командиром дозора в роте.
– Что это значит?
– Старший лейтенант показал мне планы операции, после чего я сказал ему, что не верю в успех этого дела – слишком уж много участников. – Он рассмеялся.
– Тебе известно, кто еще будет участвовать?
– Командиром он взял лейтенанта Линднера. Кроме того участвуют ударные команды Хенеля и Зенгера и еще несколько из других взводов. Должны быть еще саперы, чтобы взорвать французские проволочные заграждения, и тьма-тьмущая артиллерии, минометов и пулеметов.
«Значит, я не участвую», – подумал я холодно.
Наступил вечер проведения поиска дозора. Взмыла сигнальная ракета, и начался обстрел. «Грубая ошибка, – подумал я, – вызывать огонь сигнальной ракетой с того места, где поведется атака. Сообразительный противник сразу все поймет».
Сзади загремело, загрохотало.
Чах-чах-чах-ш-ш! – посыпались с большой высоты тяжелые мины и начали рваться с оглушительным грохотом. Сзади затарахтели пулеметы, да так, что я невольно втянул голову в плечи, хотя и знал – огонь ведется преднамеренно выше, чтобы только сбить с толку. Это продолжалось уже несколько минут… Долго! Слишком долго! Операция провалится!.. Я увидел, как ударные команды выбираются из окопов. Стрельба между тем не прекращалась.
Невдалеке раздался оглушительный взрыв. То ли это французский снаряд, то ли взорвали проволочное заграждение.
Рамм! Рамм! Рамм! Французы открыли заградительный огонь, и к тому же очень мощный.
Я дрожал от возбуждения. Хенель, Зенгер и большая часть моего взвода были впереди.
Кто-то прыгнул в окоп. За ним другие.
– Что, собственно, происходит? – закричал Зенгер.
– Почему приказано отойти? – спросил Хенель.
– Почему вы не пошли в атаку? – крикнул Лёсберг.
– Господин лейтенант Линднер крикнул оттуда:
«Назад! Назад!» – сказал Хенель.
В окоп прыгнул Линднер. Кругом шла пальба.
– «Назад!» кричал не я, а саперы, потому что заграждение еще не было взорвано.