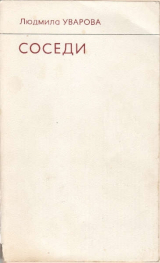
Текст книги "Соседи"
Автор книги: Людмила Уварова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
Не хотелось признаться, что тронули его мамины слова и вся она, выглядевшая очень молодой, чуть ли не намного старше его самого...
Слова рвались с его губ, самые нежные, самые добрые, хотелось сказать: «Да, мы с тобой никогда не расстанемся, мы всегда будем вместе, ты да я, конечно же, как же иначе?»
Они ходили с мамой в кино, и Валерик гордился, когда видел, что на его красивую, молодую маму смотрят прохожие.
Иногда они возвращались из кинотеатра домой, мама вместе с Валериком обсуждала фильм и подчас казалась совершенной ровесницей его, словно бы училась в одном с ним классе.
И вот прошло не так уж много времени, а мама вдруг переменилась. Не обращает на него внимания, не интересуется, как он учится, как проводит время.
Бабушка уговаривала его:
– Пусть. Не огорчайся, в жизни и не такое бывает.
– Я знаю, – говорил Валерик. – Ясное дело, в жизни и не такое бывает.
– Ничего-то ты не знаешь, – вздыхала бабушка.
На лето Валерик отправился в пионерский лагерь. За эти месяцы получил два письма от бабушки и одно от мамы. «Все хорошо, – писала бабушка. – За меня не беспокойся». А мама писала, что сестренки уже ходят вовсю, за ними все время нужен глаз, и она не успевает уследить, и потому пусть он не обижается, что она ему пишет нечасто.
Почерк у мамы был неожиданно детский – неровный, с круглыми буквами. Валерику не приходилось раньше получать от мамы писем, и он по нескольку раз перечитывал немногие строчки.
Вдруг осознал, что любит маму. Любил и будет любить, несмотря ни на что. И в самом деле, плевать ему на хиляка, ни один хиляк в мире не сможет встать между ними и поссорить их друг с другом...
Вечером, когда в комнате все спали, он спросил Славку Большукова, лежавшего на соседней кровати:
– Ты свою мать любишь?
– А как же, – сказал Славка.
– Я тоже свою люблю, – сказал Валерик.
– Зато она тебя не очень-то, – вымолвил Славка.
– Неправда! – воскликнул Валерик, но Славка настойчиво повторил:
– Не очень-то она тебя, нет, не очень...
Славкино лицо смутно белело на подушке.
– Твоя мать бесхарактерна, как мать Давида Копперфильда, – продолжал он, щеголяя своей начитанностью, – а хиляк, – с легкой руки Валерика Славка тоже звал его отчима хиляком, – а хиляк нечто среднее между Урией Гиппом, Мордстоном и Смердяковым.
Валерик хотел спросить, кто такой Мордстон, но злость до такой степени захлестнула его, что он уже не помнил себя и со всего размаху ударил Славку по голове.
Потом спрыгнул с кровати, убежал. Битый час ходил вокруг по опушке ближнего леса и все думал о Славке, который, должно быть, сильно недолюбливал его мать, о хиляке и Мордстоне, на которого он похож. К слову, кто же он такой, этот самый Мордстон?
Само собой, утром Славка и Валерик помирились. Славка был незлобив, быстро вспыхивал, но так же быстро отходил, забывал обиду, которую ему нанесли. Впрочем, Валерик также не отличался злопамятностью, в сущности, он был добрый мальчик, и не его вина, что жизнь сложилась у него совсем не так, как бы ему хотелось.
Однако где-то в душе остались жить Славкины слова.
Особенно ясно и отчетливо вспоминались они в дни родительских посещений, когда ко всем ребятам приезжали отцы и матери. К Валерику не приезжал никто.
А к Славке с раннего утра являлась мать, добродушная тетя Поля. Валерика она считала почти родственником, вся его жизнь перед глазами. Тетя Поля привозила конфеты, пироги, ягоды и делила все гостинцы на две равные части – Славке и Валерику.
Она расспрашивала его и Славку, каково им живется в лагере, ее все интересовало, даже самые, казалось бы, незначительные мелочи, может быть, потому, что у себя на трикотажной фабрике она была бессменным членом фабкома.
Славка говорил:
– Тут дело не в фабрике, это у нее такой дотошный характер...
Валерик радовался, когда тетя Поля приезжала навестить их со Славкой, и в то же время его не оставляло чувство горечи: вот тетя Поля нашла время, приехала навестить Славку, а мама не может приехать. Или, может быть, не хочет?..
Славка пробыл в пионерском лагере одну смену и уехал: у родителей был отпуск, и они все трое отправились на Украину к родственникам, а Валерик остался на второй срок.
Без Славки, верного друга, жизнь в лагере потеряла для него всю свою прелесть. Не радовали ни солнечная, теплая погода – стоял погожий, безоблачный август, – ни лес, ни игры. Хотелось поскорее домой, увидеть маму, бабушку, сестренок.
Он вернулся домой рано утром, и первым, кого увидел, был Славка, стоявший возле дома.
– Ты уже здесь? – спросил Валерик. – Когда приехал?
– Вчера, – ответил Славка.
– Что ты здесь делаешь?
– Тебя дожидаюсь.
– Меня? – удивился Валерик. – А что случилось?
– Ничего особенного, – сказал Славка. – Я знал, что ты сегодня должен приехать, вот решил подождать тебя.
Славка сильно загорел, даже как будто бы вырос за те двадцать дней, что они не виделись. Серые Славкины глаза глядели на Валерика серьезно и, как показалось Валерику, настороженно.
Но Валерик не успел ни о чем спросить, потому что Славка решил, что уже достаточно подготовил его и теперь можно говорить решительно все:
– Твою бабушку хиляк с матерью определили в инвалидный дом
– Куда? – переспросил Валерик. – В инвалидный дом?
– Да, – ответил Славка. – Она им стала мешать.
– Откуда ты знаешь? – спросил Валерик.
– Все знают. Хиляк тут же тетку выписал, она приехала из Свердловска, похожа на него, такая же страшная, и теперь живет вместе с твоими сестренками...
Валерик не дослушал его, бросился в дом. В столовой, большой, обставленной красивой мебелью комнате с портьерами на окнах, сидела за столом светловолосая костлявая женщина, удивительно схожая с хиляком. Узкие губы, впалые глаза, тощая шея в белом воротничке блузки.
«Тетка», – понял Валерик.
– Ты Валерик? – спросила тетка, глядя на Валерика своими впалыми глазами.
– Где мама? – не отвечая, спросил он.
– Они еще спят, – ответила тетка.
Валерик рванулся в коридор, и в этот самый момент из спальни вышел отчим. Землистое костлявое лицо его слегка пополнело, округлилось, впалые глаза вглядывались в Валерика, как бы не узнавая его.
– Мама дома? – не здороваясь, спросил Валерик.
– По-моему, не мешало бы пожелать доброго утра, – укоризненно промолвил отчим. Как бы в такт своим словам негромко прищелкнул пальцами. – Так что, доброе утро, слышишь?
– Слышу, – сказал Валерик. – Где мама?
Колбасюк не успел ответить, дверь спальни открылась, Валерик увидел маму. Она стояла перед зеркалом, причесывала свои темно-золотистые волосы. Увидела Валерика в зеркале, улыбнулась ему:
– Мальчик, привет, милый...
Он подбежал к ней, она обняла его, и он прижался щекой к ее горячей щеке, на миг ощутив на своем лице нежное прикосновение ее густых, вьющихся по плечам и по спине волос.
Откинув голову, она глянула на него из-под полуопущенных ресниц, потом перевела взгляд на мужа. Валерик поймал ее взгляд, мысленно поежился: почудилось, что мама боится обнять его, как бы ожидая от Колбасюка разрешения обнять и поцеловать родного сына.
А может быть, ему это все только почудилось?
Но нет, так оно и было на самом деле.
Колбасюк стал в дверях, сказал:
– Воспитания нам не хватает начисто. Можешь себе представить, почти два месяца не был дома, а приехал и даже не поздоровался!
– Неужели? – испуганно спросила мама, как подумалось Валерику, несколько излишне испуганно, словно бы не так уж это ее испугало, просто хотела показать мужу свое возмущение. – Как же так можно? Валерик, неужели ты не поздоровался?
– Я никогда не лгу, тебе это известно, – с достоинством произнес Колбасюк.
Мама вздохнула, снова повернулась к зеркалу, быстро заплела волосы в длинную тугую косу, обернула косу вокруг головы, обеими ладонями провела по голове, и этот жест, такой знакомый, принадлежащий только ей одной, болью отозвался в Валерике. Это была его мама, и все-таки она больше принадлежала Колбасюку, девочкам, рожденным от Колбасюка, даже его тетке, а не ему...
Почти спокойно он спросил:
– Это правда, что бабушку отправили в инвалидный дом?
Мама ничего не ответила, Колбасюк сказал:
– Да, это правда.
Мама сказала:
– Поверь, ей там хорошо. Ей лучше, чем здесь, у нас шумно, ей беспокойно.
– Она сильно одряхлела, – добавил Колбасюк. Глянул на часы. – Однако пора девочкам в ясли.
– Сейчас, сию минуту, – заторопилась мама. Бросила беглый взгляд на Колбасюка, спросила Валерика:
– Ты, наверно, кушать хочешь?
Он не ответил, повернулся, прошел в свою светелку. Хорошо хоть в светелке осталось все, как было: пыль густо осела на столе, на подоконнике, пол неметеный. И пускай, и не надо, и пусть сюда никто не заходит. Здесь он хозяин, и больше никто!
Он посмотрел на свой диванчик – деревянный топчан, покрытый клетчатой дерюжкой. Здесь спала бабушка. Топчан казался сиротливым, одна деревянная подставка, на которой он стоял, покосилась.
Валерик молча глядел на эту подставку.
Здесь спала бабушка, вот до сих пор еще видна крохотная вмятина посередине топчана от ее легкого тела, или ему это кажется?
А теперь она в инвалидном доме, среди чужих.
Инвалидный дом представлялся Валерику почему-то мрачным каменным казематом с маленькими окошками, кругом ни травы, ни единого деревца. Все голо, пустынно, угрюмо...
Валерик встал, вышел из светелки, закрыл за собой дверь и побежал к Славке, единственному другу, самому верному человеку на свете.
– Ты мне нужен, – сказал Валерик.
Славка выбежал, на ходу застегивая пуговицы рубашки.
Валерик спросил:
– У тебя есть деньги?
– Есть, – не задумываясь, ответил Славка. – Пять рублей тридцать две копейки.
– Мало, – сказал Валерик.
– Я попрошу у папы, сколько тебе надо?
– А зачем папе знать, что я прошу у тебя денег?
– А это что, секрет? – спросил Славка.
Валерик замялся:
– Ну, как тебе сказать... Не так, чтобы очень. В общем, хочу поехать к бабушке, в инвалидный дом...
– Дело, – одобрил Славка. – А ты знаешь, где он находится?
– Примерно где-то под Челябинском. Я после у мамы все выясню.
– Пять рублей на билет хватит, – сказал Славка.
– На билет и туда и обратно должно хватить, – согласился Валерик. – А я хочу еще что-нибудь бабушке купить и не хочу просить у мамы...
– И не надо, и не проси, – одобрительно промолвил Славка. – Что я, друга своего выручить не в силах, что ли?
Он ринулся домой и через несколько минут принес еще пятерку.
– Все. Больше у отца нет. Подожди до вечера, когда мать придет.
– Хватит, – сказал Валерик. – Обойдусь...
Дом для престарелых располагался неподалеку от озера Тургояк.
В вековых соснах притаился старинный, крепкой кладки дом с неширокими окнами. Под соснами стояли скамейки, на скамейках сидели люди. Еще издали Валерик определил, что это все сплошь старики и старухи. Иные ходили, опираясь на палки, другие вязали или читали, сидя на скамейках.
Он медленно прошел по дорожке к дому и вдруг увидел бабушку. Она была все в том же знакомом Валерику ситцевом коричневом в тонкую полоску платье, на голове черный, с широкой белой каймой по краям платок.
– Бабушка! – крикнул Валерик.
Она подняла голову, сощурясь, посмотрела вокруг себя, потом увидела его, протянула руки:
– Валерка, ты...
Он плюхнулся на скамейку рядом с нею. Несколько мгновений они молчали, и она и Валерик. Только смотрели друг на друга.
Потом Валерик обнял бабушку, прижался щекой к ее щеке.
Бабушка казалась совсем не постаревшей; он ожидал, что она, по словам Колбасюка, одряхлела, что все может статься, с трудом узнает его, а она, как ему подумалось, выглядела даже много лучше, чем дома.
– А ты загорела, – сказал он.
– Вот уж чего не было, того не было, – возразила бабушка. – На солнце не валяюсь, солнечные ванны не принимаю.
Валерик мысленно представил себе бабушку, которая лежит, подставив лицо солнцу, как это делала мама, выходя на балкон их дома, и невольно засмеялся:
– Да уж думаю, что не принимаешь... – Потом снова стал серьезным. – Как тебе здесь? Привыкла?
Бабушка кивнула:
– Ко всему, милый, можно привыкнуть. И к хорошему, и к дурному.
Он и не ждал иного ответа от бабушки.
– Ну а все-таки, как тебе здесь?
– Жить можно, – ответила бабушка.
Глаза ее на миг затуманились, может быть, она подумала в этот миг о невестке, о том, что невестка вместе с Колбасюком сумели по-своему распорядиться ее судьбой?
– Ничего, – сказала бабушка, всегдашняя оптимистка, во всем предпочитавшая видеть хорошую, светлую сторону. – Все пройдет. Перемелется – мука будет. Ты вырастешь, начнешь работать, тогда возьмешь меня к себе, верно?
– На все сто, – горячо ответил Валерик. – Непременно возьму тебя к себе, и заживем мы с тобой всем врагам на зло!
Под врагами он подразумевал одного лишь Колбасюка, на него ушел весь пыл души Валерика, вся его неизрасходованная злость.
– На зло всем врагам, – с жаром повторил он еще раз. Потом полез в кошелку, которую привез с собой. – Я тут тебе кое-что купил... Вот, смотри...
Валерик стал выгружать из кошелки все, что, по его мнению, могло бы быть бабушке по вкусу: две банки с тахинной халвой, зефир в шоколаде, яблоки, лимоны, банку маринованных огурчиков.
Бабушка глядела, только головой качала:
– Неужто все это мне? Куда это, милый, на маланьину свадьбу, не иначе.
– Это тебе, – сказал Валерик. – Ешь, поправляйся...
– Тут мне на целый год, наверно.
– Ну и пусть на целый год, только ешь, пожалуйста...
Бабушкина легкая ладонь легла на плечо Валерика:
– Спасибо тебе, милый, только зачем ты так беспокоился?
– Ладно, все, – отрезал Валерик.
– Мама как? – спрашивала бабушка. – Девочки?
– Ничего, все нормально.
Он подумал немного, стоит ли говорить бабушке? Потом решил сказать:
– Не хочу я больше с ними жить...
К его удивлению, бабушка восприняла его слова сравнительно спокойно.
– Не хочешь? Ни в какую?
– Ни в какую! – повторил Валерик. Решительно резанул себя ладонью по горлу. – Не могу его видеть! Не могу и не хочу!
– Что же думаешь делать? – спросила бабушка.
– Не знаю, – откровенно признался Валерик. – Только с хиляком я больше жить не буду, так и знай. – Он нагнулся, сорвал травинку, перекусил ее крепкими зубами. – Может быть, к отцу поехать, как думаешь?
– Нет, – сказала бабушка решительно, – чего к отцу ехать? Какая ему жена попалась, разве мы знаем? Может, еще хуже, чем этот самый Колбасюк...
– Может быть, и так, – задумчиво произнес Валерик. – Только вот что, бабушка, как хочешь, а дома я жить больше не хочу. Не хочу и не буду!
Он почти выкрикнул эти слова; проходивший мимо старик в светлом плаще, накинутом на плечи, удивленно воззрился на него.
– Тише, Валерик, успокойся, – сказала бабушка. – А то всех тут перепугаешь...
– В общем, ты поняла меня, – сказал Валерик.
Бабушка молчала, перебирая худыми пальцами кончик своего платка. Потом повернулась к Валерику:
– Тогда, знаешь, что я тебе скажу? Поезжай в Москву.
– В Москву? – переспросил Валерик.
– Да, в Москву. У тебя там родная тетка живет, дочь твоего деда, сестра отца. Дед твой говорил, что она хороший, отзывчивый человек...
– А ты ее знаешь?
Бабушка покачала головой:
– Нет, только от деда наслышана. Но я ей письмо написала, когда он умер, и она мне тогда ответила.
– Кто она такая?
– Вроде учительница, а где точно работает, не знаю.
– И у тебя адрес ее есть?
– Конечно, есть.
– А если она переехала? – спросил Валерик.
– Поедешь в Москву, узнаешь, где она. Там и найдешь...
Валерик с удивлением смотрел на бабушку. Вот уж никогда не ожидал от нее такой решимости, вдруг советует, не глядя ни на что: поезжай, найди...
Внезапно мысль о том, что вот он возьмет да рванет далеко от Миасса, в Москву, к родной тетке, показалась ему привлекательной. А что, в самом деле? Вот бы хорошо...
– Денег на дорогу я тебе дам, – продолжала бабушка. – У меня припасено немного, ты не беспокойся...
– Отдам потом, – сказал Валерик.
Бабушка улыбнулась:
– Да ты что, милый? Какие у нас с тобой счеты?
Валерик нагнулся, сорвал новую травинку.
– Что ж, может быть, в самом деле?..
– Поезжай, – сказала бабушка. – Хуже не будет, я чувствую. У тебя покамест каникулы, жить тебе с Колбасюком тяжко, отцу ты тоже сейчас не нужен, а Надя, она, может, и вправду пригреет тебя, кто знает...
– Какая Надя? – спросил Валерик.
– Дочка деда, ее Надей зовут. – Бабушка порылась в кармане, вынула измятый конверт. – Вот ее адрес...
Валерик прочитал на конверте обратный адрес: «Москва, Скатертный переулок, дом пять, квартира двенадцать...»
– Поезжай, – еще раз сказала бабушка. – Я ей покамест письмо насчет тебя напишу, а ты поезжай. Бог с тобой...
Она сунула ему в руку хрустящую бумажку. Двадцать пять рублей.
– На дорогу хватит и туда и обратно...
– Если ее нет или она меня не так встретит, я тут же обратно, – сказал Валерик.
Бабушка кивнула:
– Само собой. Тогда что-нибудь еще придумаем...
Валерик обнял бабушку, прижался щекой к ее виску.
– Спасибо тебе...
– За что? – спросила бабушка.
– За то, что ты такая...
Она проводила его до самых ворот, он быстро пошел, почти побежал к станции. Потом обернулся, поглядел: бабушка по-прежнему стояла, смотрела ему вслед.
Вот так и случилось, что Валерик отправился в Москву, в Скатертный переулок к своей тетке Надежде, сестре отца.
Глава 11. Семен Петрович
Семену Петровичу дали в редакции задание: поехать в гостиницу «Москва», взять интервью у приезжей знаменитости, хирурга из Уфы Владлена Крутоярова. Крутояров прославился на всю страну своими операциями по оживлению парализованных конечностей.
Сам главный редактор вызвал к себе Семена Петровича, прежде чем тот отправился на задание.
– Помните, – сказал главный редактор и поднял вверх острый указательный палец. Так он обычно делал всегда, когда считал, что сотрудникам его редакции надлежит выполнить нечто особо ответственное и важное. – Помните, мы даем вам целый подвал, это очень серьезно. О Крутоярове все вокруг шумят, если получится, не пожалеем и полтора подвала...
В кабинете кроме главного редактора находился еще и ответственный секретарь, шумливый, белозубый толстяк с наголо обритой головой, обладающий идиллической фамилией Тучкин, к слову, не выносивший своей фамилии, подписывавший изредка печатаемые свои материалы предельно лаконично: «Т».
Тучкин выразительно поглядел на Семена Петровича, прошептал одними губами:
– Если выйдет развернутое интервью, – обгоним все, какие есть, газеты...
– Хорошо, – флегматично сказал Семен Петрович. – Постараюсь.
– Старайся, – подхватил Тучкин. – Имей в виду, старик, на тебя глядит вся редакция, от и до!
Чуть позднее, когда Семен Петрович уже собрался отправиться в гостиницу «Москва», Тучкин позвонил ему, захватив буквально уже на пороге:
– Должен тебя предупредить: Крутояров, кажись, выставлен на Государственную премию. Так что имей в виду!
– Поимею, – обещал Семен Петрович. – Как же не поиметь!
Доктор Крутояров оказался еще не старым, крепкого сложения бородачом, разговорчивым, веселым и, как видно, не пренебрегающим никакими радостями жизни.
Едва лишь Семен Петрович переступил порог его номера, Крутояров поставил на стол бутылку армянского коньяка, две широкие рюмочки, стал нарезать лимон острым ножом на тонкие, почти прозрачные дольки; все, что он делал, получалось у него ловко, складно, да и сам он, казалось, непритворно любуется каждым своим движением.
– Прошу, – сказал Крутояров, грея в большой крепкой ладони тоненькое стекло рюмки. – Приступим.
И, негромко ахнув, залпом, словно водку, выпил свой коньяк.
– Не люблю смаковать да пробовать по капельке, – признался Крутояров, посасывая лимонную дольку и жмурясь от кислого вкуса. – По мне, что коньяк, что самогон, что пусть даже шампанское, надо все разом, по-русски, недолго думая...
Плечистый, с огневым румянцем на щеках, глаза маленькие, смеющиеся, зубы один в один, Крутояров очаровывал с первого взгляда, поражая завидным здоровьем, статью, ладной выправкой.
Должно быть, он и сам сознавал свое непобедимое обаяние. Вытянув вперед ладони, слегка шевеля пальцами, он искоса, слегка улыбаясь, взглянул на Семена Петровича.
– Я, когда молодой был, любил на кулачках драться...
– Как это на кулачках? – удивился Семен Петрович.
– А вот так, нас человек десять и напротив тоже десяток, идем друг на друга стеной, кулаки вперед. Весело!
Засмеялся, блеснули крупные чистые зубы.
Семен Петрович невольно залюбовался им. До чего, видно, здоров, энергичен, нравственно здоров!
Да и не только нравственно, наверно, и слыхом не слыхал ни о каких хворобах, которые невыносимо мучают человечество, не щадя ни молодых, ни старых; впрочем, почему это слыхом не слыхал? Он же врач, лекарь, лечит и исцеляет тяжелобольных. Да, все это так, но сам-то здоров на славу и, должно быть, никогда бы не мог поверить, что какая-нибудь, даже самая легкая, хворь может его коснуться...
Но на самом деле оказалось все не так. Совсем не так...
– Я лет до пятнадцати сущим мозгляком рос, – рассказывал о себе Крутояров. – Больше болел, чем в школе учился: то у меня ангина, то грипп, то просто самая обычная простуда, вышел ненароком на улицу во время дождя или ночью пробежал в отхожее место, у нас дома, в ту пору мы на окраине города жили, сортиры не иначе как во дворе обитались, и готово – горло вспухло, кашляю, чихаю, сопливлюсь. Все надо мной, бывало, смеялись, ребята в школе недоноском прозвали, соплей, еще всякими неблагозвучными названиями, о которых и вспоминать-то неохота. Вот тогда-то я и решил: «Все, хватит! Или буду человеком, или загнусь к чертовой матери, но больше так жить невозможно!» У нас в Уфе река Белая, вода в ней очень холодная, ребята говорили, что к тому же и течение сильное, а я и плавать не умел, и вообще-то никогда не ходил купаться. И вот однажды, ранней весной, в апреле, что ли, пошел я на Белую и бухнул со всего размаха.
Крутояров налил себе еще коньяку и снова проглотил одним махом.
– Чуть не утонул, до сих пор помню, там, оказывается, довольно глубоко было, однако ничего, вынырнул, оклемался и – на берег. Вытерся полотенцем, побежал домой. Бегу и все хвалю себя дорогой: «Вот я какой молодец! Такого второго только поискать! Где еще такого отыщешь?»
А вечером температура под сорок, озноб, жар, бред. Мама моя испугалась, она вообще-то была дамой мужественной, сильного характера, а тут, она мне после рассказала, совсем нос повесила. Шутка ли, ни с того ни с сего на ее глазах сын вроде бы кончается...
Ну, разумеется, докторов вызвали, «скорую», еще там кого-то, – Крутояров усмехнулся, блестя зубами. – Однако, несмотря на такое обилие медиков, я все же, как видите, жив остался. Знаете, это такой анекдот есть, собрались врачи на консилиум, обследуют больного, а потом решают: «Как, лечить будем или пускай живет?»
– Ну что вы, – смутился Семен Петрович. Он был человек совестливый, ему казалось, что Крутояров, хотя и сам врач, нарочно на врачей наговаривает, а может быть, хочет проверить его, Семена Петровича, как он к врачам относится. – Я знаю сколько случаев, когда врачи буквально с того света людей возвращали...
Крутояров махнул широкой ладонью:
– Конечно, всяко бывает, это я так, шутю, как говорится. Нуте-с, оклемался я, стало быть, весь бледный, в чем только душа держится, пошел в школу, а из школы вдругорядь на реку. И снова в воду. И, сами понимаете, опять жесточайшая простуда, а потом воспаление легких. Провалялся я этаким макаром с пневмонией месяца два, потом снова на Белую, на мою голубушку. Только-только на ноги встал, еще шатает всего, столько времени провалялся в постели, экзамены на носу, а я снова в воду лезу. И что бы вы подумали? – Крутояров вопросительно посмотрел на Семена Петровича.
«У него глаза, как у ребенка, ясные и открытые», – подумал Семен Петрович.
– Что бы вы думали? Не заболел на этот раз. Даже не чихнул ни разу. Ни единого разу. С той поры всякую хворь как рукой отрезало. Хотите?
Крутояров наклонил бутылку над рюмкой Семена Петровича.
– Что вы, – запротестовал Семен Петрович. – Я еще не все выпил...
– И мне больше неохота. Баста!
Крутояров отодвинул от себя бутылку, взял кружок лимона, пососал. Потом встал, прошелся по комнате, большой, массивный, с широкими, поистине в сажень, плечами.
«Что за богатырь!» – любуясь им, подумал Семен Петрович, невольно вздохнул, представив себе, каким, должно быть, тощим и, по правде говоря, довольно невзрачным выглядит он сам по сравнению с Крутояровым.
– Так с той поры и пошло, – Крутояров снова уселся напротив Семена Петровича. – Вдруг здороветь начал, просто на глазах наливаюсь, а после спортом стал заниматься, в волейбол, в баскетбол, плавать научился любым стилем, грести, через год на байдарке по Белой пустился, мама ночи не спала, боялась, что я утону, а я живехонек вернулся да еще целый мешок рыбы домой приволок, которую самолично наловил...
У Семена Петровича была особенность – не вынимать блокнота, а стараться запоминать все, что говорил собеседник. Лишь потом, оставшись один, вспомнить все, как было, и сделать по возможности подробные записи в блокноте.
Но сейчас ему не терпелось с начала до конца записать слова Крутоярова. Многие репортеры давно уже имели магнитофоны и диктофоны, но Семен Петрович не признавал подобных новшеств, доверяя прежде всего собственному восприятию, а потом уже карандашу.
– Магнитофон – штука несовершенная, вдруг заклинит что-нибудь ни с того ни с сего, а я не замечу, – говаривал он. – После включу – не тут-то было, казалось, что ничего и не записалось, ни единого слова...
Он был на редкость не техничен, не только не умел, к примеру, заменить перегоревшие пробки или вбить хорошенько гвоздь в стену, но даже снять кастрюлю со сбежавшим молоком с плиты являлось для него проблемой. А уж управляться с магнитофоном – это решительно не по его части.
Он положил чистый, еще не исписанный блокнот на стол, вынул карандаш из кармана – еще одна его особенность: терпеть не мог ручек, перьевых или шариковых, всегда писал карандашом, причем не очень остро очинённым, стал быстро, сокращая слова, записывать все, что рассказывал Крутояров.
Он и не ждал, что Крутояров окажется таким словоохотливым, поистине подарок для репортера. Никаких вопросов задавать не надо, все само собой идет, словно по накатанной дороге.
Позднее, уже дома, он приведет в порядок свои записи, где сократит, где развернет подробней, расставит свои вопросы, которые сейчас и задавать ни к чему, ибо Крутояров предвосхитил все, какие были, вопросы, наверное, выйдет не подвал, а и в самом деле все полтора, на две полосы, не меньше...
«Воткнем фитиль всем газетам», – с удовольствием подумал Семен Петрович, почти стенографически записывая рассказ Крутоярова. А тот продолжал вспоминать. Должно быть, ему самому приносили отраду воспоминания о ставшей теперь уже далекой юности, о студенческих днях, о первых самостоятельных шагах, о первых своих опытах, еще поначалу робких, еще несовершенных, имевших конечной целью оживить, заставить двигаться омертвевшие, застывшие из-за различных заболеваний человеческие конечности...
Семен Петрович исписал весь блокнот, но у него в запасе было еще целых два.
Добрая половина второго блокнота была вся исписана, когда Крутояров, вдруг откровенно зевнув, сказал:
– А может быть, на сегодня хватит?
– Нет, что вы, – взмолился Семен Петрович, – Продолжайте, прошу вас, это так интересно!
Крутояров окинул его прищуренным взглядом:
– В самом деле? Не притворяетесь?
– Даю честное слово, – воскликнул Семен Петрович.
– Тогда пошли дальше, – согласился Крутояров.
– Вы позволите? – спросил Семен Петрович, вынув из кармана пачку сигарет.
– Перекур? Как вам угодно, – ответил Крутояров. – Хотя сам я не отравляю сердце табачищем и вам не советую...
– Мне уже поздно отвыкать, – вздохнул Семен Петрович, с наслаждением затягиваясь. Как хорошо в разгаре работы иной раз затянуться, выпустить дым длинной струей... – Неужели никогда не курили? – спросил он Крутоярова.
Крутояров решительно замотал крупной головой:
– Ни единого разу!
– Молодец, – не очень искренне сказал Семен Петрович, начавший курить еще в ранней юности, несколько раз бросавший, но так и не сумевший победить себя до конца.
– Не в этом дело, – возразил Крутояров, уже без улыбки, серьезно глядя на Семена Петровича. – Мне необходимы здоровое сердце, сильные руки, отличные легкие, превосходная печень, потому что я намереваюсь долго жить, мне очень нужно долго жить, просто необходимо, и знаете почему? Потому что я сам необходим больным, всем этим до недавнего времени обреченным на полную неподвижность людям, которым я возвращаю счастье движений. А посему – табак, прежде всего табак – к чертовой матери!
– Ну, а как же с коньяком? – спросил Семен Петрович. – Говорят, что коньяк тоже не очень полезен.
– А я и не пью. Только лишь на отдыхе или, как сейчас, в командировке, а дома, когда я работаю, а большей частью я дома только и делаю, что работаю, никогда не пью и глотка не сделаю, что коньяка, что водки...
– Я тоже не пью, – сказал Семен Петрович.
Крутояров побарабанил пальцами по столу. Спросил внезапно:
– Сколько вам лет?
– Мне? Сорок пять, скоро сорок шесть, – ответил Семен Петрович, чуть покраснев, до того неожиданным показался ему вопрос Крутоярова.
– И сколько лет вы работаете в газете?
– Давно. С юности...
– Никогда не мечтали о чем-то другом? – продолжал допытываться Крутояров. – Вас не тяготит ваша работа?
– Как вам сказать, я люблю газету, люблю эту суету, подчас бестолковую неразбериху, шум ротационных машин в типографии, запах свежей типографской краски, летучки, совещания, дежурства, наконец, просто редакционную атмосферу! Ведь другой такой атмосферы нигде на свете нет, это вам любой газетчик скажет и будет стоять на своем до конца!
– Я убежден, – сказал Крутояров, – что многие наши беды и даже болезни, да, да, подчас даже и болезни, происходят от неосуществленных желаний. Почему вы так удивленно глядите на меня? Я не оговорился и, по-моему, не ошибаюсь, повторю еще раз: главная наша боль – это неосуществленные желания, от них все плохое...
Он помолчал немного. Семен Петрович тоже молчал, мысленно обдумывая сказанное Крутояровым.
– Знаете, почему я говорю все это? – спросил Крутояров и, не дожидаясь ответа, продолжал: – Потому что гляжу вот на вас, милейший, и от души дивлюсь.
– Чему же? – спросил Семен Петрович.
– А вот чему. Не гоже, полагаю, вам на пятом десятке по репортерским заданиям бегать. Постойте, дружище, чур, не обижаться!
– Я не обижаюсь, – сдавленным голосом проговорил Семен Петрович.
Крутояров усмехнулся:
– А то я не вижу, бросьте, чепуха все это, реникса, как написал кто-то из великих, Чехов, что ли, сущая реникса, все эти обиды, комплексы, недомолвки, подмалевки действительности и все такое прочее. Правда одна, едина, и я не побоюсь, повторю еще раз: не очень-то вам подходит репортерские задания выполнять... – Большой, широкой ладонью Крутояров провел по лицу, как бы сгоняя что-то мешающее ему. – Я – мужик простой, незамысловатый, у меня что на уме, то на языке, мы, хирурги, вообще люди грубые, на язык несдержанные, так что еще раз прошу – не обижайтесь...








