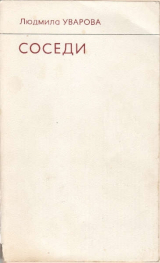
Текст книги "Соседи"
Автор книги: Людмила Уварова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц)
А ей и десяти минут подряд не удалось посидеть с ним за столиком. Все время подходили приглашать то один, то другой. Какой-то бородач в джинсовом костюме с латунной цепочкой на животе так и остался стоять с ней на середине зала. Оркестр ушел на перерыв, и бородач все стоял, держал Лелю за руку и что-то говорил, говорил...
Сева тоскливо глядел на остывший шницель, на недопитый бокал шампанского.
«Хорошо попраздновали, – думал, – как надо!»
Подозвал официантку, расплатился, вышел из зала. А Леля и глазом не повела в его сторону.
Утром он встретил ее возле ванной.
– Как, – спросил, – весело вчера было?
– Ужасно весело!
Растрепанная, еще неумытая, она все равно оставалась хорошенькой.
– Ты почему ушел, Сева?
Глаза ее глядели на него с веселым удивлением,
– Разве ты заметила, что я ушел?
Леля кивнула:
– Иначе бы и не спросила.
Сева вздохнул. Вдруг понял: несмышленыш она еще, полный и окончательный, и обижаться на нее, все равно что на малого ребенка, не имеет ровно никакого смысла.
– Потому, – сказал, – кончается на «у». Поняла?
– На все сто, – ответила Леля и заперла дверь ванной на крючок. А Сева с того дня перестал о ней думать. Раз и навсегда.
После Нового года Ирина Петровна вдруг заявила:
– Хочу пойти работать...
Сева возмутился:– Это еще что такое?
Но Ирина Петровна твердо стояла на своем. Сева и Рена пытались отговорить мать: к чему ей идти работать?
– Я – хозяин семьи, голова, так сказать, – утверждал Сева, – и я приказываю тебе сидеть дома!
– Нам же хватает, – уверяла Рена, – и не так уж много нам надо...
– Много, – возражала Ирина Петровна, – ой как много! И тебе витамины всякие, и Севе одеться как следует, и вообще не хочу сидеть дома. Скучно!
В конце концов, она переговорила обоих – и дочь и сына, и они согласились с нею, поставив условие: чтобы работа была недалеко от дома и чтобы работала неполный день. И если утомится, пусть сразу прекратит...
Она недолго выбирала и выбрала фирму «Заря». Ухаживать за больными по вызову. Плата от 75 копеек до рубля в час. И разумеется, обеспеченное питание.
Конечно, она уставала изрядно. Не хотела признаваться детям, но даже ночью плохо спала именно оттого, что сильно уставала. И порой до того надоедало терпеть придирки какой-нибудь всем недовольной и капризной старухи...
Севе не раз предлагали завербоваться, уехать на Север, на Дальний Восток, зарабатывать много денег. Иные его приятели отправились на БАМ, в Набережные Челны, писали оттуда веселые письма, звали Севу к себе. Но он не хотел оставлять Рену. Он был не только ее братом, но и отцом и подругой. Всем вместе.
Сева, уходя на работу, говорил Рене:
– Не скучай, слышишь?
– Слышу, – улыбалась Рена.
А Сева просил соседок – Лелю, Эрну Генриховну или Надежду:
– Зайдите к ней, если будет время...
Они заходили. Леля, правда, посидит минут десять и сорвется, непоседа, побежит по каким-то своим суетным делам. А Эрна Генриховна аккуратно являлась в обеденный час, накрывала на стол, ставила перед Реной тарелку бульона.
– Это куда питательней, чем борщ или щи. Попробуй!
– Спасибо, у меня же есть полный обед.
– Ешь мой суп! – приказывала Эрна Генриховна.
– Суп не едят, его хлебают, – возражала Рена.
– Тогда хлебай, разве можно отказываться от бульона с клецками?
И Рена покорно хлебала суп с клецками, чтобы не огорчать Эрну Генриховну.
Надежда ничем не угощала Рену. Она и вообще-то не вела хозяйства, но частенько заглядывала к Рене, не дать ли чего почитать, вот пластинку новую купила, дирижирует Фуртвенгер, очень необычно для нашего уха...
Рена, по совести говоря, предпочла бы Поля Мориа или Дассена, впрочем, не отказалась бы и от Кобзона, но признаваться Надежде как-то стеснялась и безропотно скучала над классикой.
Сева работал через день. Рена больше всего любила Севины выходные, когда они оставались вдвоем, друг с другом.
Тогда начиналась игра, та самая, о которой знали лишь они двое и больше никто, увлекательная, интересная, может быть, только для них одних.
Он садился возле ее кресла на низенькую скамейку.
– Вот погоди, – начинал, – наука идет вперед огромными шагами, и в один прекрасный день мы тебе достанем такое лекарство, от которого ты встанешь и пойдешь на своих двоих. Веришь?
– Верю, – говорила Рена.
– Вот тогда мы поедем с тобой вдвоем на моем мотоцикле и, само собой, я впереди за рулем, ты сзади будешь за меня руками держаться, только покрепче. Как, усидишь?
– А как же!
– То-то! А теперь выбирай, куда поедем... Каждый раз она выбирала различные маршруты, то решали поездить по Рязанщине, вдоволь надышаться ясным воздухом приокских лугов и березовых рощ, то задумывали отправиться к Черному морю, или на озеро Байкал, или еще куда-нибудь...
Сева заливался соловьем, откуда только такие слова брал!
– Представь себе, – говорил, – сидишь ты сзади, у тебя за плечами рюкзак, у меня рюкзак, там всякие хурды-мурды, котелки, сковородки, спальные мешки, продукты, и мчимся мы с тобой вдоль берега Волги, только камешки встречные в лицо.
– А мы очки специальные наденем, – говорила Рена.
– Согласен, пусть очки. Не то мне первому камешки эти самые всю морду в кровь исцарапают. Ну так вот, едем мы с тобой, утро над Волгой...
– Солнце еще не встало...
– Да, конечно, еще рано, только-только ночь растаяла и роса кругом...
– И птицы спят...
– Нет уж, прости-подвинься, птицы не спят, они, милая моя, знаешь, когда просыпаются?
– Знаю, – вздыхала Рена, потому что обычно просыпалась на рассвете и лежала без сна, прислушиваясь к нарастающим звукам на улице. Первыми начинали птицы, потом уже слышалась метла дворника, гудение мотора машины, завозившей хлеб в соседнюю булочную...
– Так, значит, – Сева закуривал, шумно выдыхая дым. – Потом остановимся мы с тобой где-нибудь под деревом, глянем вокруг, а река – розовая...
– От солнца?
– Конечно, от солнца, от чего же еще? И представь себе, по розовой реке белая баржа тихо так плывет, а на веревке белье матросское под солнцем сохнет, и ветер треплет белье, а баржа все плывет, все плывет...
Сева мог говорить часами, и Рена не уставала слушать его. И только тогда, когда приходила Ирина Петровна, Сева замолкал. Игра кончалась. Начинались будни.
Ирина Петровна шумно вышагивала по комнате, расставляла на столе чашки, вносила горячий чайник, жаловалась на несносных своих пациентов, включала телевизор, выходила в коридор позвонить по телефону или на кухню, и оттуда слышался зычный ее голос:
– Нет, я вам вот что скажу, если хотите...
Сева и Рена усмехались, переглядывались, словно заговорщики.
– Ладно, – говорила Рена, – в следующий раз доскажешь.
– Послезавтра, – соглашался Сева. – Послезавтра, как ты знаешь, я выходной...
Еще Рена любила расспрашивать Севу о свадьбах. В день он, случалось, возил восемь, а то и десять брачующихся, из дома во Дворец бракосочетаний и оттуда или обратно домой, или в ресторан.
– Выкладывай, – начинала Рена, – какая невеста была самая хорошенькая?
– Ни одна не была хотя бы мало-мальски хорошенькой, – отвечал Сева. – Все были мымры, как на подбор.
– Ну, этого не может быть, – возражала Рена, – хоть бы одна была ничего?
Однако Сева упрямо стоял на своем:
– Даю слово, одна хуже другой...
Конечно, это была чистой воды неправда. Попадались невесты до того красивые – обалдеть можно, иные даже снились ему ночью. Особенно одна грузинка, он запомнил ее имя – Элисо, имя удивительно ей подходило, вся золотисто-смуглая, светло-каштановые волосы, огромные глаза, неожиданно синие, и такая тонкая в поясе, кажется, двумя пальцами охватишь...
Право же, лучше Элисо не было никого даже спустя долгие месяцы!
Но вообще-то, они, невесты, все выглядели неплохо, как же иначе, одеты к лицу, в белых платьях и волнуются, ясное дело, и от этого кажутся еще интереснее...
Все так. Но Рене он не хотел говорить. Ни за что! Талдычил свое:
– Одна невеста хуже другой...
Ведь какая бы Рена ни была хорошая, терпеливая, а и она может позавидовать, ведь для нее все это навсегда недоступно: и белое платье, и свадебная машина с воздушными шарами, и жених рядом...
А Рена все равно не верила:
– Не может быть, чтобы все они были уродки!
– Может, – не сдавался Сева, – глаза бы мои на них не глядели!
– Ну, хорошо, – просила Рена. – Расскажи, а что там, в этом самом Дворце бракосочетаний? Интересно?
– Во Дворце? – Сева саркастически усмехался. – Скукота, конвейер, все по стандарту – женихи и невесты, как куры, собрались в одной комнате, потом их вызывают по очереди, выкликают по фамилиям, словно допризывников, потом поздравляют...
– Кто поздравляет? – спрашивала Рена.
– Эта, как ее, заведующая Дворцом, и всем одинаково – одно и то же...
Тут Сева начинал пищать, подражая кому-то, довольно противным фальцетом:
– Дорогие товарищи! Сегодня вы создали новую семью! Будьте счастливы, дорогие! Любите и уважайте друг друга!
Рена хохотала до слез. Уж очень комично выглядел Сева, когда он пищал, поджимая губы так, что они становились похожими на едва заживший шрам...
– А потом подбегает фотограф, – продолжал Сева, – и снимает всю эту хевру вместе с гостями, потом им всем шампанское суют...
Рассказывал, а сам боялся, как бы не сделать Рене больно, чтобы она не рассердилась, чтобы лишний раз не пожалела себя за то, что не судьба...
Однажды он привез со смены домой пожилого фотографа.
– Вот, – сказал, – послушай, что тебе Исай Исаич расскажет.
Исай Исаич, круглолицый, с золотыми передними зубами, на круглой, словно шар, голове хитрый зачес, должно быть, изо всех сил стремился поглубже спрятать лысину, прищурил один маленький, веселый глаз.
– Что я вам скажу, – начал, – я веду своего рода учет.
– Какой учет? – спросила Рена.
– Сколько их разводится, – сказал Исай Исаич. – Я же на пенсии, поснимаю немного и уйду, а по утрам у меня бывает много времени, и я хожу себе по загсам да по судам, и что бы вы думали? Мои молодые, которых я снимал, скажем, полгода назад, уже разводятся. Что скажете?
– Не все же разводятся, – сказала Рена.
– Очень многие. Я веду учет. Примерно почти половина. Что, не верите?
Он просидел у них целый вечер, рассказывал множество смешных историй, Сева и Ирина Петровна смеялись, Рена тоже улыбалась, слушая его, а после, когда он ушел, сказала:
– Жалко старика!
– Почему тебе его жалко? – удивился Сева.
– Ужасно он одинокий. Смотри, ему бы в его год с внуками на скверике гулять, а он по судам ходит.
И задумалась, и долго сидела, печальная, с осунувшимся лицом и ушедшим в себя взглядом. Сева старался изо всех сил развеселить ее, шутил, рассказывал анекдоты, первый хохотал заливисто и заразительно, но ничего не получалось.
В конце концов Рена сжалилась над ним. Заставила себя улыбнуться, сказала:
– Ладно, теперь давай поговорим о том, куда мы с тобой когда-нибудь поедем...
Он обрадовался.
И она, глядя на него, радовалась, как и он, ведь для нее главное было – видеть его довольным. И она делала вид, что верит ему.
А он был счастлив оттого, что она верит. И порой сам начинал верить собственным словам.
Глава 3. Лелины родители
Лелин отец был репортером одной из московских газет. Свои репортажи и корреспонденции он обычно подписывал лаконично и, как ему казалось, впечатляюще: «Семен Ли».
В миру его звали Семен Петрович Лигутин. Был он уже немолод, сорок пять, не меньше, репортером работал лет двадцать, однако все еще лелеял мечту стать писателем. И не просто писателем, а знаменитым, чтобы его знали решительно все – и взрослые и дети, чтобы на улице, когда он шел, его узнавали все встречные и говорили друг другу: «Смотрите, сам Лигутин...»
Репортажам, по его мнению, хорошо соответствовал псевдоним Семен Ли, а писатель, да еще знаменитый, должен был подписывать произведения собственной своей фамилией.
Поначалу, еще учась в старших классах школы, он писал стихи.
Стихи его были, как правило, посвящены любви, реже – дружбе, еще реже – ревности. Он часто влюблялся, впрочем, быстро остывал и снова влюблялся и снова остывал...
Лет семнадцати от роду он влюбился в соседку по дому, продавщицу овощного магазина Клаву Чебрикову, сочную, рубенсовского типа рыжеволосую толстуху. Часами ходил по двору, поджидая Клаву, а когда она являлась, нагруженная тяжелыми кошелками (соседи говорили про нее, что она снабжает овощами, маринадами, соленьями не только себя, но и всю свою родню, подруг и кавалеров), подбегал к ней, хватал кошелки и провожал Клаву до ее квартиры. Иногда она приглашала его к себе.
– Заходи, будем чай пить...
Белолицая, тугая, словно калач, распустив по плечам тяжелые рыжие волосы, она разливала чай в чашки, резала пирог, опускала в его чашку ломтик лимона. Рукав стеганого ярко-зеленого халата поднимался кверху, рука Клавы, чуть розовая, в осыпи веснушек, с ямочками возле локтя, была вся на виду.
У Семена кружилась голова, он глотал горячий чай, обжигаясь и не ощущая ничего, кроме одного могучего, одолевавшего его желания схватить Клаву, прижать к себе и целовать ее волосы, плечи, ямочки возле локтя, каждую, самую маленькую веснушку.
Он посвящал ей стихи, но стеснялся читать, инстинктивно чувствуя, что стихи эти могут ей не понравиться. Однажды все-таки осмелел и прочитал восемь строчек, посвященных ей:
Зеленый луч тревожит синеву,
Последний луч последнего заката.
Я, может быть, последний год живу,
Еще жива в душе моей утрата
Всех радостных и добрых дней,
Которых нет ни ярче, ни светлей.
Лишь ты одна звездой во мраке светишь,
О самая прекрасная на свете!
Стихи Клаве понравились.
– Очень трогают, – сказала, – просто за сердце берут... – Выпуклые голубые, с поволокой глаза ее наполнились слезами. – Подумать только, такой молоденький, а уже столько всего пережил...
Семен был человек справедливый и без нужды никогда не лгал.
– Ну, – сказал он, – не так уж я много пережил...
– Ты же сам пишешь, что утратил радостные дни...
Семену стало совестно, в конце концов, нельзя же играть на жалости, надо, чтобы тебя любили потому, что ты приятен и желанен, а вовсе не потому, что вызываешь жалость и слезы...
– Это все неправда, – сказал он, – никого и ничего я не терял, это поэтическое преувеличение...
Клава мгновенно успокоилась:
– Тогда другое дело...
Как-то она спросила его:
– Можно твои стихи петь, как песню?
– Можно, – ответил Семен, с обожанием глядя в ее круглые наивные глаза, подчерненные карандашом «Живопись».
Она откашлялась и начала петь тонким, визгливым голосом на мотив довольно заезженного романса, но тут же сбилась с ритма и замолчала.
Клаве суждено было стать первой любовью Семена. Она была добра, уступчива и, главное, ни на что не претендовала и ничего от него не требовала.
Когда Семен как-то заикнулся о том, что мечтает на ней жениться, она долго, со вкусом хохотала, по щекам у нее от смеха потекли черные слезы, а она все продолжала смеяться, хотя от размазанной туши щипало глаза.
Отсмеявшись, сказала:
– Дурачок ты мой ненаглядный, во-первых, я для тебя старая, ты еще в армии не служил, а мне уже двадцать шестой с марта пошел, во-вторых, твоя мама никогда не согласится!
– Я уговорю ее, – страстно воскликнул Семен.
Клава сказала коротко, как отрезала:
– Меня тебе не уговорить...
При всей ее мягкости и покладистости, она была непостоянна, как майский день.
Вскоре Семен стал замечать, что она все позже возвращается домой с работы, а однажды и вовсе не пришла ночевать...
Он переживал, спал с лица, стал хуже учиться. Стихи писал самого что ни на есть мрачного толка:
Я знаю, впереди могилы
Холодный мрак, и это все.
Любимая меня забыла,
Как забывают утром сон.
Как забывают о вчерашнем,
О прошлом и ушедшем сне.
Мечты, мечты, где сладость ваша?
Ушли навек, и нет их, нет...
Он перечитывал эти строки, и сердце его сжималось от боли.
Мама Семена, энергичная, волевая дама, лучшая общественница домоуправления, ее стараниями были созданы при доме детская площадка и библиотека, сокрушалась:
– Бедный мальчик! Из-за этой дряни он решительно потерял голову...
«Этой дрянью» мама Семена стала называть Клаву Чебрикову с тех самых пор, как Клава начала пренебрегать ее сыном. До того мама была, в общем, довольна. Само собой, ни о какой женитьбе не могло быть и речи, но почему бы юному, полному сил мальчику не поухаживать за женщиной, в достаточной мере привлекательной и лишенной предрассудков, к тому же знающей жизнь как она есть?
Лучшая общественница домоуправления гордилась тем, что и сама лишена каких бы то ни было предрассудков и обладает широким взглядом на многие явления жизни.
А Семен все-таки подстерег Клаву, битых два часа простояв на холодной лестничной площадке возле входной двери, ведущей в Клавину квартиру. Едва завидев ее, он ринулся к ней, схватил за руку:
– Клава, почему ты избегаешь меня? За что ты на меня сердишься?
– Да не сержусь я на тебя, – спокойно ответила Клава.
– Сердишься! – настаивал Семен. – Скажи, за что?
– Ладно, – промолвила, сжалившись над ним Клава, – идем ко мне...
Войдя с ним в свою комнату, сказала:
– Что тебе, дурачок, от меня надо? Я же тебе еще раз говорю: я старая для тебя, понял?
– Нет, – сказал Семен, – нисколько ты не старая, я люблю тебя.
Его похудевшее, осунувшееся лицо казалось особенно юным, несчастным. Клава вздохнула, белая полная рука ее легко легла ему на плечо.
– Не могу я без тебя, – пылко продолжал Семен.
– Сумеешь, – сказала Клава, – все на земле проходит.
Семен хотел было возразить: моя любовь к тебе никогда не пройдет, никогда не кончится, но она неторопливо начала снова:
– Я, наверное, скоро замуж выйду...
– За кого? – упавшим голосом спросил Семен.
– Там, за одного, ты не знаешь. Солидный человек, с положением, умный и очень образованный.
– Кто он? – продолжал настаивать Семен.
– Кто бы он ни был, ты же его не знаешь...
– А все-таки?
– Он завсекцией магазина электротоваров, очень культурный мужчина, ты бы на него поглядел. И тоже стихи пишет...
Это было последней каплей, доконавшей Семена. Завсекцией магазина электротоваров женится на Клаве, к тому же является очень культурным мужчиной и пишет стихи...
– Хорошие стихи? – грустно спросил он.
– Хорошие, – ответила Клава, – очень хорошие.
Семен решил пойти дальше, спросил:
– Лучше моих?
– Лучше, – не задумываясь, сказала Клава.
– Тебе же вроде нравились мои стихи?
Она кивнула.
– Нравились, а как же, само собой, нравились, только не все, вот ты, к примеру, пишешь: «Зеленый луч тревожит синеву». А разве бывают зеленые лучи? Это же неправда!
Семену почудилось, что он убит наповал. Он понял в этот миг, что потерял Клаву навсегда, что она уже говорит не своими словами, а послушно повторяет чужие, должно быть, того самого завсекцией магазина электротоваров, культурного, образованного мужчины, к тому же пишущего стихи...
Он повернулся, не говоря ни слова, пошел к двери, и Клава не остановила его.
Но летом, когда Семен провалился на вступительных экзаменах на факультет журналистики МГУ, он думать забыл о Клаве, тем более что осенью представилась возможность поехать в археологическую экспедицию, и он отправился в южные районы нашей страны.
А когда вернулся, то поступил учиться на первый курс вечернего отделения филологического факультета педагогического института имени Ленина.
С Клавой ему не суждено было больше встретиться. Она вышла замуж, Семен не уточнял, за кого именно, должно быть, за того самого завсекцией магазина электротоваров, и переехала к нему на другой конец Москвы. И Семен не пытался ни видеть ее, ни что-либо знать о ней...
Наверное, и в самом деле все проходит на земле.
Три раза в неделю Семен учился по вечерам, днем работал. Давний друг их семьи – старый московский журналист устроил его в «Вечернюю Москву» внештатным репортером. Семен отличался непревзойденным трудолюбием и старательностью, случалось, с утра до вечера бегал по заданиям редакции, писал заметки об открытии новой библиотеки, о трудовом рекорде знатного производственника, о недостатках в таксомоторном парке, об экскурсии школьников во время каникул по памятным местам Подмосковья...
Когда он впервые увидел свою фамилию напечатанной на страницах газеты, радости его не было конца. Он притащил из редакции десять экземпляров газеты, а его мама купила в киоске еще двадцать, и оба с восхищением вглядывались в напечатанную крупным шрифтом хорошо знакомую фамилию и в который раз по очереди читали вслух заметку Семена, которая называлась «Снова на трудовом посту» и была посвящена старому заводскому мастеру, вернувшемуся в цех, чтобы на общественных началах учить молодых рабочих...
– Красиво звучит, – сказала мама. – «Эс. Лигутин».
– Я буду иначе подписываться, – сказал Семен, – «Сем. Ли», а полностью буду подписываться в других случаях...
– В каких? – спросила мама, но Семен ушел от ответа, это была тайна, принадлежавшая лишь ему одному и никому другому.
На редакционных совещаниях и летучках Семена хвалили. Но, сколько он ни пытался, ему так и не удалось тиснуть в газете ни одного стихотворения, даже самого маленького.
Ответсекретарь, мрачный старик, по слухам, некогда работавший с Власом Дорошевичем, знавший самого дядю Гиляя, отрезал раз и навсегда:
– И без твоих виршей, мой мальчик, обойдемся и проживем...
А Семен между тем поймал себя на том, что постепенно начал охладевать к поэзии. Ему просто-напросто расхотелось писать стихи, и все больше стала тянуть к себе проза. Он написал рассказ о смелом, боевом разведчике, который в новогоднюю ночь приволок целых троих «языков» в свой полк.
Рассказ он приурочил к Новому году, сказалась газетная выучка – готовить загодя материалы к примечательным датам. Рассказ назывался «Новогодний подарок» и самому Семену очень нравился. Особенно нравилось начало:
«Светила луна, и бледный ее свет обливал равнины, щедро покрытые снегом. Мороз крепчал, гремели раскаты дальнобойных орудий, с визгом разрывались гранаты и мины, ухали пулеметы и минометы. Но, несмотря на это, смелый разведчик Алеша Борщев в поисках «языка» полз по-пластунски по ничейной земле».
Однажды, смущаясь, однако стараясь держаться по возможности хладнокровно, он притащил рассказ в редакцию толстого журнала, помещавшуюся в самом центре.
Секретарь редакции, немолодая брюнетка с желтыми зубами и грубым прокуренным голосом, подержала в руке папку с рассказом, как бы высчитывая, сколько она весит, и, не глядя на Семена, сказала, чтобы он пришел за ответом через десять дней, а еще бы лучше через двадцать.
Он явился через двадцать три дня, решив дать редакции фору.
Все это время его не оставляли различные мысли, связанные с рассказом. Само название казалось ему симптоматичным и обнадеживающим. «Новогодний подарок»...
Ему представлялось, как он приходит в редакцию и его немедленно ведут к главному редактору. Главный редактор, известный поэт, чьи стихи Семен заучивал наизусть еще в шестом классе, подходит к нему, обнимает за плечи и говорит.
Что же он говорит?
И тут в ушах Семена звучали всякого рода лестные слова.
«Наконец-то, – восклицал главный редактор, – наконец-то открылся новый яркий талант...»
Или нет, иначе, может быть, он, как поэт, выразится более красочно и метафорично:
«Вот и зажглась новая звезда на нашем литературном небосклоне...»
Или просто и лаконично:
«Вот и явился миру превосходный молодой писатель, и наш журнал открыл его первым...»
Сердце Семена билось тревожно и гулко, когда он открыл дверь и вошел в холодную, слабо освещенную настольной лампой приемную, в которой сидела все та же брюнетка.
Зажав в зубах папиросу, она печатала на машинке, печатала очень быстро, над машинкой вился дымок, казалось, он исходит не от папиросы, а от частого и сильного стука по клавишам.
– Здравствуйте, – сказал Семен неожиданно охрипшим голосом, – я оставил вам рассказ, и вы сказали мне, чтобы я пришел через двадцать дней. Вот я и пришел.
– Здравствуйте, – привычно, не глядя на него, ответила брюнетка, – как ваша фамилия и как называется рассказ?
Погасив папиросу о дно пепельницы, брюнетка начала рыться в кипе рукописей, навалом лежавших на соседнем столе. Только сейчас Семен обратил на них внимание. Боже мой, сколько тут было папок различного цвета и формата!
Семен подумал о том, как много людей пишет рассказы, романы, стихи, повести, и весь этот поток стекается в пять – семь журналов со всех концов страны. И должно быть, каждый такой писатель-одиночка полагает, что он истинный, самобытный, яркий, редко встречаемый талант.
– Одну минуту, – сказала брюнетка, встала со своего места и вышла в другую комнату, тут же закрыв за собой дверь.
Семен мысленно снова взыграл, да, так оно и есть, наверное, все эти папки небрежно брошены на каком-то столе, а его рассказ находится у самого главного редактора, и сейчас он выскажет Семену все те слова, которые Семен втайне рассчитывал услышать.
И надо же было случиться такому – брюнетка вновь появилась в дверях, сказав:
– Пройдите к завпрозой.
Семен шагнул через порог и очутился в небольшом, тесном закутке. За столом сидел худощавый, уже немолодой, что-нибудь лет за тридцать, человек, в ту пору Семену все тридцатилетние уже казались пожилыми, в военной, без погон гимнастерке и, потирая pукой коротко стриженные темно-русые волосы, вопросительно поглядел на Семена.
– Садитесь, – сказал завпрозой, – моя фамилия Герасимов, а ваша как, Лигутин?
Семен кивнул.
– Так, – сказал Герасимов, незамедлительно переходя на «ты», – скажи прямо, был на фронте?
– Нет, – отвечал Семен, – мне же к началу войны было десять лет.
– Я думал, шесть, – усомнился Герасимов.
– Что шесть? – не понял Семен.
– Я полагал, когда увидел тебя, что тебе было тогда не больше шести.
Герасимов раскрыл лежавшую перед ним папку цвета хаки, и Семен узнал знакомую первую страницу с крохотным чернильным пятном на полях.
– Так вот, – сказал Герасимов, похлопывая ладонью по странице. – Стало быть, на фронте тебе не превелось быть, да и по годам ты никак не мог воевать.
– Не мог, – согласился Семен.
– Так какого же беса ты пишешь, что мины разрывались с визгом? Тебе хотя бы раз привелось слышать этот самый визг?
Семен покачал головой.
– То-то же, визжат обычно кошки, если их потянуть за хвост, а мины воют, понял?
– Воют? – переспросил Семен.
– Вот именно. Тоненько и зловеще воют...
Герасимов поднял зеленый колпак настольной лампы, внимательно поглядел на Семена. У редактора было впалощекое, небрежно выбритое лицо, темные, усталые, впрочем, довольно красивые глаза.
– Так как, – спросил Герасимов, – усек, что я говорю?
Глаза его сощурились, узкие, длинные губы слегка раздвинулись в улыбке.
«А он симпатичный», – подумал Семен, ответно улыбаясь Герасимову.
Но тот продолжал уже серьезно:
– Тебе еще рано писать, тем более писать о том, чего ты не знаешь и знать не можешь. Давай начинай изучать жизнь, вглядывайся в то, что тебя окружает...
– Я вглядываюсь, – сказал Семен.
– Значит, еще недостаточно вглядывался, будь более внимательным, и еще я тебе посоветую, читай больше классиков, изучай их манеру, их стиль, особенности языка...
Семен не хотел и все-таки спросил:
– А зачем изучать?
– Потому что, милый мой, у тебя встречаются не только шероховатости стиля и штампы, это уж как водится, но и просто не очень грамотные обороты...
– Дайте пример, – попросил Семен.
Герасимов усмехнулся:
– Сколько угодно. На каждой странице. Вот, хотя бы... – И он прочитал, что называется, с выражением, выделяя слова: «Болтавшиеся на его спине ноги немца не оставляли сомнения в том, что их обладатель напуган до смерти».
– Как, – спросил, – самому-то нравится?
– А что? – неподдельно удивился Семен, – чем плохо?
– А ты вдумайся, милый мой, – продолжал Герасимов, – прежде всего, все это звучит в достаточной мере неуклюже. Потом, как это можно по ногам, которые болтаются на чужой спине, определить, что их обладатель напуган до смерти?
– Они дрожат, – ответил Семен.
Герасимов, наверное, хотел засмеяться, но глянул на Семена, на его расстроенное лицо, и ему стало от души жаль юношу.
Сколько таких вот юнцов, да и людей куда старше, довелось ему видеть в редакции! Сколько их являлось к нему, нерешительных, смелых, упоенных собой и начисто неуверенных, рассчитывавших на быстрый успех, неминуемую славу и дрожащих от искреннего страха...
«Писать о том, о чем знаю, что видел и перечувствовал, – думал Семен по дороге домой, мысленно повторяя советы Герасимова, – а что я, собственно, знаю? Что видел? Учился в школе, потом год в экспедиции, теперь учусь на вечернем. Бегаю по заданиям «Вечерки», вот и все. Невелик багаж...»
Он задумался и не заметил, как наскочил на девушку, идущую навстречу. Девушка поскользнулась, упала. Семен упал на нее, но тут же мгновенно вскочил на ноги, протянул ей руку. Она встала с земли, сердито глянула на него, вдруг улыбнулась. И Семен ответно улыбнулся ей.
Позднее Лена утверждала, что их знакомство началось с падения.
Она часто говорила:
«Женщины во всем обогнали мужчин. Кругом сплошные Изольды, а Тристанов раз-два и обчелся...»
Всерьез утверждала:
«Все хорошие люди произошли от собак...»
Безумно любила собак, особенно беспородных, не могла пройти равнодушно мимо собаки, бежавшей по улице, непременно останавливалась, начинала заговаривать с собакой и после уверяла:
– Меня все собаки понимают, что бы я ни сказала...
У нее была собака по имени Плюшка, когда-то подобрала ее на Трубной площади. Шла из булочной, видит, к водосточной трубе жмется небольшой, на коротких лапах белый пес.
Лена подошла ближе, вынула из хозяйственной сумки бублик, пес отвернул голову. Тогда она отщипнула кусочек сдобной плюшки, и пес с готовностью выхватил кусочек из ее руки.
– Ах ты, плюшка, – сказала Лена, – ты один или ждешь кого-то?
Постояла какое-то время возле собаки, потом спросила:
– Так как, пошли со мной?
И собака пошла рядом с нею, нога к ноге.
Само собой, она немедленно хорошенько вымыла собаку, как только они пришли домой, завернула ее в махровый халат, положила в кресло рядом с батареей центрального отопления и, сев рядом, стала думать, как быть, что делать дальше.
Квартира была не отдельная, вместе с Леной проживала еще одна соседка, тихая старушка, редко выползавшая в коридор и на кухню.
Единственным осложнением был вопрос отпуска, Лена любила во время отпусков ходить в далекие походы, и вот, скажем, предстоит отпуск летом, на кого оставить собаку?
«А, – решила Лена, – обойдусь как-нибудь, авось кто-то выручит...»
Так и вышло. Собака жила у нее шесть с половиной лет.
За эти годы Лена не пропускала возможности поехать в отпуск, и каждый раз кто-либо из знакомых или друзей соглашался ухаживать за Плюшкой.
Плюшка сильно привязалась к дому, Лена понимала, переселить ее на один месяц в другой дом нельзя, собака может истосковаться, перестанет есть, чего доброго, погибнет от тоски, решив, что Лена задумала избавиться от нее.








