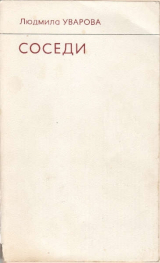
Текст книги "Соседи"
Автор книги: Людмила Уварова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
– Да нет, я не обижаюсь, – повторил Семен Петрович. – Я согласен с вами, самое страшное – это неосуществленные желания, вы правы.
– Еще как прав-то, – согласился с ним Крутояров.
– Но я вот что хотел сказать, – снова начал Семен Петрович. – Никому бы не признался, но вам почему-то хочется признаться, у меня все-таки есть нечто, греющее мне душу.
– Что, небось что-то капитальное пишете?
– Угадали. Роман задумал.
– Роман? – переспросил Крутояров. – Это превосходно, это и вправду нечто. О чем же?
– О самом для меня близком, о людях, с которыми приходилось встречаться, о жизни.
– Много написали? – деловито спросил Крутояров.
– Да нет, не очень, – слегка смутился Семен Петрович.
Не хотелось признаваться, что уже успел испортить уйму бумаги, да еще какой, шведской, плотной и белой как снег.
Случилось ему как-то через одного знакомого раздобыть две пачки этой бумаги, и он с нескрываемым наслаждением время от времени строчил на ней своим крупным, ясным почерком.
Но пока что ничего толкового не получалось. Все то, что в мыслях казалось ему важным, интересным, полнозвучным, на бумаге, даже на такой красивой, выходило вяло, пресно.
Это было тем более удивительно для Семена Петровича, что в газете он почитался одним из лучших очеркистов, ему уже много лет давали самые ответственные задания. «Кто-кто, а Лигутин вытянет!» – услышал он однажды фразу главного, оброненную по телефону.
В свой роман он поместил героев своих очерков, московских строителей, замечательных людей, интересных, сочных. Характеры так и просились на белую как снег, с чуть голубоватым отливом, шведскую бумагу.
Чего далеко ходить? В прошлом году он сделал интервью со строителем Щавелевым, бригада которого первой в Москве приступила к монтажу двадцатипятиэтажных домов улучшенной планировки.
Щавелев, маленький, быстрый, словно искорка, с горячими цыганскими глазами и негаснущей улыбкой на румяном, как бы навсегда обожженном ветром лице, ловко сновал по переходам и площадкам, окликал рабочих, перекидывался шутками с нормировщицами, и все это время Семен Петрович ходил вслед за ним, не отставая ни на шаг.
Вечером вместе со Щавелевым он отправился к нему в гости. Щавелев жил в Чертанове, в новом девятиэтажном доме. Квартира у него была просторная, две комнаты почти пустые и потому казавшиеся огромными.
– Мы с женой вдвоем, – пояснил Щавелев, ставя на стол нехитрое угощенье – квашеную капусту, соленые огурцы, нарезанную толстыми ломтями колбасу и бутылку пшеничной. – Детей не успели завести, а нас день-деньской нет дома, я на работе, жена учится.
– Ваша жена учится?! – искренне удивился Семен Петрович. – Где же, если не секрет?
Щавелев усмехнулся, бросил в рот кружок соленого огурца.
– Какой секрет? Она у меня студентка финансово-экономического института.
В голосе Щавелева, может быть, помимо его воли прозвучала гордость.
– Студентка? – повторил Семен Петрович и тут же мысленно выругал себя: «Что за бестактность, в самом деле, разве жена Щавелева не может учиться в институте?»
Они долго сидели за столом, Щавелев охотно рассказывал о своей жизни. Ему было что порассказать, родителей своих он не помнил, воспитывался в детдоме. Окончил ФЗУ, пошел в армию, потом стал работать на стройке. И вот мало-помалу начал расти, выдвигаться, стал знатным строителем столицы, депутатом Верховного Совета, Героем Социалистического Труда.
Семен Петрович едва успевал записывать в блокнот все, что рассказывал Щавелев. Ему уже представлялся трехколонник на второй полосе, некоторые абзацы уже отлились в окончательную форму: «Вместе с этажами росли его знания и мастерство»... «Этот подвижной, быстрый в движениях человек выглядит значительно моложе своих лет и заслуженно пользуется любовью всех строителей, работающих рука об руку с ним...».
На следующий день он начал писать очерк о Щавелеве и, как и ожидал, размахнулся на целый трехколонник. Очерк был напечатан на следующей неделе, причем ни главный редактор, ни Тучкин, обычно немилосердно резавший все опусы Семена Петровича, не тронули почти ни единой строчки.
Тучкин, привыкший беспощадно высмеивать красоты стиля, к которым Семен Петрович питал слабость, ко всем этим «опаловым облакам, проплывающим в вышине над домом», «сиреневой дымке, встающей за лесом», «горячим, веселым солнечным лучам», на этот раз оставил все как есть.
– Старик, – сказал он Семену Петровичу. – Ты – рядовой, обыкновенный, ничем из ряда вон не выходящий гений...
Семен Петрович порозовел от удовольствия, однако спросил:
– Чем же я гений?
– Тем, что сумел из весьма посредственного материала сделать не очерк, а сущую конфетку.
Семен Петрович был, безусловно, польщен, но природная честность не могла не взыграть в нем.
– Материал совсем не посредственный, – возразил он, – Щавелев на редкость интересен.
Тучкин с нескрываемым любопытством взглянул на него:
– Нет, ты серьезно?
– Вполне.
– Что ж, —Тучкин провел ладонью по своей гладко обритой голове. – Бывает... А я, признаться, в простоте душевной подумал, что ты все, решительно все сочинил. Ты же у нас известный фантазер-сказочник...
– Нет, я ничего не сочинил, – признался Семен Петрович.
Он не лгал. Образ Щавелева, сама его жизнь были до того примечательны, нетривиальны, что и вправду тут нечего было добавлять, сочинять, придумывать.
И Семен Петрович, не добавляя, не сочиняя, не придумывая, стал излагать в романе судьбу бригадира Щавелева. Писал о босоногом детстве, о поруганном войной отрочестве, о том, как упорный парнишка Вася Шавелев нашел свое призвание в гуманной профессии строителя.
Истощил свои блокнотные записи, выложил рассказы рабочего все как есть, но образ, такой, в общем-то понятный и ясный, бледнел на шведской бумаге.
Рука привычно писала по накатанному: «Вместе с этажами росли его знания и мастерство»... «Этот подвижной, быстрый в движениях человек выглядит значительно моложе своих лет и заслуженно пользуется любовью всех строителей, работающих рука об руку с ним»... Где-то он понимал, что роман нельзя писать языком трехколонника, и расцвечивал текст «сиреневой дымкой, встающей над лесом», «горячими, веселыми солнечными лучами», а образ не складывался. Других же слов у Семена Петровича не находилось.
Главу из романа с пышным названием «Счастливый день бригадира Щавелева» Семен Петрович однажды решился прочесть Марии Артемьевне. Читал он с выражением, часто взмахивал рукой, старался менять голос, когда читал слова, которые говорили разные действующие лица.
Глава ему самому нравилась, но, по мере того, как он читал, лицо Марии Артемьевны все больше мрачнело.
В конце концов она не выдержала:
– Ты рассказывал о твоем Щавелеве так интересно, что я думала, и здесь получится интересно.
– А разве тебе не нравится? – недоумевающе спросил Семен Петрович,
Она медленно покачала головой:
– Чему тут нравиться? Характер бледный, слова стертые, штампы так и летают...
Он неожиданно взорвался:
– Все-то тебя не устраивает, подумаешь, кто ты сама такая? Чего сумела добиться?
– Да ведь сейчас разговор вовсе не обо мне, – мягко возразила она.
– А я тебя слушать не желаю, – сказал он. – Не желаю и не буду, и очень жалею, что читал тебе...
Это была серьезная ссора, которая длилась необычно долго, целых пять дней. Семен Петрович не разговаривал с Марией Артемьевной, молча уходил, молча приходил, перебрасываясь только с Лелей короткими словами.
Леля же их и помирила. Однажды сказала:
– Надоело на вас обоих глядеть. А ну, немедленно помиритесь, слышите?
Мария Артемьевна первая подошла к нему, обняла за голову, как маленького.
Мир был заключен, но у него в душе остался осадок: как же это так, что ей не нравится его произведение?..
На этот раз, вернувшись от Крутоярова, Семен Петрович был сильно взволнован.
– Вот это человечище, – сказал он Марии Артемьевне, садясь напротив нее за поздний ужин. – Это, я тебе скажу, личность! Вот бы ты поглядела.
Она уже привыкла к тому, что каждого нового человека, с которым случалось познакомиться, ему хотелось познакомить и с нею, Машей.
– Никак влюбился? – спросила она, подавая ему стакан крепкого, как он любил, чуть ли не до черноты заваренного чаю.
– Не то слово, – сказал он. – Это – чудо! Можешь себе представить, до пятнадцати лет – мозгляк мозгляком, слабак, гнилушка, и сам своим уменьем, своей волей начисто переделал себя и вымахал в этакого богатыря, прямо Илья Муромец какой-то...
Щеки Семена Петровича пылали румянцем, глаза блестели.
«Вот, если бы так же писал живо, увлеченно, образно, как рассказываешь», – грустно подумала Мария Артемьевна.
– Ну все! – заявил Семен Петрович. – Убирай, Маша, со стола, начинаю вкалывать.
Мария Артемьевна знала его особенность – приниматься за работу сразу же после первого знакомства с материалом. Потом он еще не раз допишет, а то и переделает все сначала, но как бы там ни было, а начать он должен немедленно. Хотя возле окна стоял его письменный стол, он любил работать за обеденным. Неторопливо, с любовью разложил Семен Петрович на чисто вытертом столе листы белоснежной бумаги. Раскрыл блокнот.
– Знаешь, я решил назвать свою статью так: «Волшебник из Уфы». Как, хорошо?
– Нет, – чистосердечно ответила Мария Артемьевна. – Не очень.
– Но пойми, – он встал из-за стола, прошелся по комнате, ероша ладонью поредевшие свои волосы, – пойми, он же и вправду самый настоящий волшебник. Можешь себе представить, люди, которые годами, десятилетиями лежали неподвижно, потеряли всякую надежду когда-нибудь шевельнуть хотя бы пальцем ноги, вдруг начинают ходить. Да, ходить! К ним возвращается радость жизни, они познают счастье движений...
– Друг Аркадий, не говори красиво, – остановила его Мария Артемьевна. – Ты не на летучке и не дежуришь по номеру...
Но он вдруг, оборвав себя, посмотрел на Марию Артемьевну, словно никогда до того не видел и не знал ее.
– Слушай, Маша, я знаешь о чем подумал?
Она глянула в его внезапно просветленные глаза и сразу же поняла, о чем он подумал. За все годы совместной с ним жизни Мария Артемьевна научилась угадывать его мысли и большей частью безошибочно. Поначалу он удивлялся: «Откуда ты знаешь? Да ты что, колдунья никак?» Потом привык. И привык так же, как и она, считать, что так бывает только у людей, духовно близких друг другу.
– Так о чем же я подумал? – спросил он.
– О Рене, – ответила она. – Что, верно?
– Вернее верного.
Он вынул сигарету, размял ее между пальцами, просыпая табак на пол.
– Опять куришь дома, – мягко упрекнула его Мария Артемьевна.
– Я волнуюсь.
Она не стала больше укорять его, волнуется – так оно и есть. Пусть его курит в комнате, в сущности, он искренне взволнован.
– Ты согласна со мной? – спросил Семен Петрович.
– Пожалуй.
– Почему пожалуй? А вдруг получится?
– А если не получится? – спросила Мария Артемьевна. – Вначале у девочки появится надежда, и она будет надеяться, мечтать, что вот еще немного, и начнет ходить. Но если все-таки ничего не выйдет? Тогда жить ей будет еще труднее.
– Ну, хорошо, – не сдавался Семен Петрович. – А если все-таки получится? Ведь у Крутоярова сотни больных, исцеленных им. Вот прочитаешь мою статью, сама все увидишь.
Мария Артемьевна молчала. И он повторил снова:
– А если все-таки выйдет?
– Да, – вымолвила она наконец. – Все может быть...
Он непритворно обрадовался:
– Вот видишь, и ты того же мнения! Тогда я пойду, скажу Рене...
Семен Петрович шагнул было к двери, но Мария Артемьевна схватила его за рукав:
– Постой! Куда ты?
– Как куда? Пойду поговорю с Реной.
– Так уж прямо и заговоришь? Ну что за детская импульсивность!
– А что?
Право же, он не притворялся, он был неподдельно удивлен, почему она не пускает его к Рене. Впрочем, он все-таки послушался ее.
– В самом деле, я же еще не поговорил с самим Крутояровым, – пробомортал он.
– Это первое, – сказала Мария Артемьевна. – Второе: согласится ли Рена лечь к нему в больницу?
– А почему бы ей не согласиться? Что ей терять?
– Только одно – окончательно и прочно потерять надежду.
– А я бы попробовал на ее месте, – сказал Семен Петрович. – Я верю Крутоярову.
Мария Артемьевна невольно улыбнулась, он ответно улыбнулся ей, с удовольствием подумав, что она, в сущности, выглядит много моложе своих лет, какие у нее молодые, чистые зубы, какой веселый взгляд...
И она опять поняла по его взгляду, о чем он подумал.
Молча протянула руку, погладила его по щеке.
– Ладно, пусть так и будет. Но сперва я поговорю с Севой, мы с ним все и обсудим.
– Почему с Севой? – спросил Семен Петрович.
– Сперва надо с ним, – твердо ответила Мария Артемьевна. – Он старший брат, первый за нее ответчик.
– Хорошо, а что, если я сейчас позвоню Крутоярову и спрошу его, согласится ли он взять к себе Рену?
– Сколько тебе лет, Семен? – спросила Мария Артемьевна и сама же ответила: – Можно предположить, что тебе не больше семи.
– Или восьми, – добавил он, нисколько не обидевшись на нее.
– Я сама поговорю с Севой, потом с Реной, – сказала Мария Артемьевна, решая, как издавна было заведено у них, взвалить на себя самое тяжелое, ведь разговор этот, она предвидела, будет далеко не легкий.
А что, если и вправду у Крутоярова ничего не получится? Если он не сумеет исцелить Рену, что тогда?
«И что же? – мысленно оспорила себя Мария Артемьевна. – Заведомо отказаться от Крутоярова? Не пытаться ничего делать? Махнуть рукой и примириться?»
– Нет, – сказала она, отвечая прежде всего самой себе, собственным мыслям. – Ты прав. Надо пытаться. А вдруг все получится и Рена начнет ходить?
«А что, если в самом деле? И все будет хорошо?»
Рена приподнялась в постели.
«И я начну ходить так, как все остальные люди? Так, как ходила когда-то?»
Иногда Рене снилось, что она бежит, то в гору, то по какой-то пустынной улице. Бежит, высоко поднимая ноги, всем своим существом ощущая радость бега, свободного дыхания, легкости...
Будет ли так когда-нибудь?
Она никак не могла привыкнуть к мысли, что Крутояров, знаменитый ученый, о котором пишут газеты и журналы, согласился взяться за нее.
А вчера Сева сказал:
– Хочу говорить с тобой на равных, ты же не маленькая, ты у нас умный, взрослый человек. Разве не так?
– Дальше, – скомандовала Рена, сердце ее дрогнуло: о чем это он хочет говорить на равных? Но, чтобы доказать Севе, что она и в самом деле умный, взрослый человек, она улыбнулась как можно шире.
– В общем, так, – начал Сева. – Вот какое дело. Придется повременить малость. Крутояров, как выяснилось только что, уезжает в Америку на полгода.
– Полгода, – невольно повторила Рена. – Вот оно что.
– Да, придется подождать. Мы подождем, верно?
– Да, – кивнула Рена. – Подождем, верно...
Еще третьего дня они допоздна говорили с Севой.
Семен Петрович свел Севу с Крутояровым. Сева позвонил ему в гостиницу. Крутояров был немногословен, сказал:
– Пришлите мне снимки.
Сева, увлекающийся, пылкий, сразу же ринулся к Рене:
– Ренка, вот увидишь, мы еще побежим с тобой наперегонки...
– Перестань, – оборвала его Рена, но Севу уже невозможно было остановить.
– Сам Крутояров, понимаешь, светило медицины, берется за тебя?
Неизвестно, кто был сильнее взволнован, Рена или Сева, но спустя два дня Семен Петрович передал Севе, чтобы он снова позвонил Крутоярову. И Крутояров сказал:
– Снимки я посмотрел. Похоже, что наш случай. Но нужно, конечно, увидеть и больную. Я уезжаю в Штаты месяцев на шесть, а может, на семь. Конечно, если желаете, можно обойтись и без меня, послезавтра сюда приедет мой ассистент...
Но Сева не дал ему договорить.
– Если можно, хотелось бы, чтобы вы сами осмотрели.
– В таком случае ждите, – согласился Крутояров. – Ждите, когда я вернусь.
–… Стало быть, подождем? – нарочито бодро спросил Сева Рену, и Рена так же бодро, в тон ему ответила:
– Разумеется, подождем.
Она знала, Крутояров ничего не обещал; Сева в конце концов признался, что Крутояров так и сказал: «Обещать ничего не могу, снимки снимками, что еще осмотр покажет...»
Сева всегда в конечном счете говорил чистую правду Как бы ни увлекался, что бы порой ни сочинял, потом все же признавался, что немного присочинил, придумал, сфантазировал, вообразил, одним словом, принял желаемое за действительное.
– Будем надеяться, – повторила Рена. – Что нам еще осталось?
Снова улыбнулась, пытаясь улыбкой скрасить невольную грусть, прозвучавшую в ее словах.
Сева взял маленькую ладонь, подумал с горечью, какая же она тонкая, почти неощутимая, потерся щекой о Ренину щеку.
– Может быть, все будет хорошо? И мы с тобой рванем наперегонки?
– Все может быть, – сказала Рена.
Ночью, когда все спали, она не могла заснуть, думая все время, как оно будет. Что, если в самом деле? Ведь и вправду все может быть.
Временами казалось, что она уже успела привыкнуть ко всему, к своей неподвижности, к старому креслу, к дереву за окном, к дому напротив.
А временами на нее накатывала нестерпимая, ничем не побеждаемая тоска, отчаяние, от которого, как ни старайся, не уйти, не скрыться...
Хорошо, что так бывало с нею ночью. Потому что все спали, и мама, и Сева, и она тоже притворялась на всякий случай спящей, подолгу тихонько лежала с открытыми, не желавшими уснуть глазами.
Порой думалось, лучше бы ей не знать ничего о Крутоярове. Пусть бы шло, как идет, без всяких изменений, ведь может статься, что придется пролежать в клинике Крутоярова очень долго, полгода, год или даже больше и ничего не выйдет, и как были неподвижными ее ноги, так и останутся.
Потом она принималась как бы на зло себе считать, сколько месяцев, недель, дней остается до возвращения Крутоярова. Шесть месяцев – это двадцать четыре недели, или сто восемьдесят четыре дня.
Долго, ох как долго!
Однажды ей довелось прочитать, что такое время. Время – понятие неоднозначное, растяжимое. Оно может тянуться бесконечно и промелькнуть в один миг.
Рена наперед знала, что эти шесть месяцев будут тянуться невыносимо долго. Каждый день покажется годом.
Ну и что с того? Придется ждать, потому что ничего другого не остается.
Так думала Рена по ночам, а утром она вновь была оживленной, как бы искрилась неподдельным весельем, лихо передразнивала маму, пикировалась с Севой.
Можно было подумать, что нет человека веселее и беззаботнее Рены...
Глава 12. Валерик
– Ты спишь? – спросила Надежда.
Валерик притворился, что не слышит, крепко спит. Даже начал всхрапывать, будто бы спит без задних ног. Однако обмануть Надежду ему не удалось.
– А ну, хватит, – сказала она. – Хватит паясничать!
Валерик глубоко вздохнул, как бы просыпаясь.
– Давай, давай! – сказала Надежда. – Перестань лукавить!
Где-то в конце коридора, должно быть у Севы, пробило шесть раз. Еще самый сон, шесть утра...
Но Надежде не спалось, и она знала, Валерик тоже не спит.
Вчера примерно в этот самый час она проснулась: он сопел, время от времени всхлипывал.
– Что с тобой? – спросила Надежда.
Он долго молчал, потом ответил:
– Бабушку жаль...
– Ты же знаешь, что с нею все нормально, – сказала Надежда. – Я тут еще одно письмо от нее получила, да ты и сам читал...
– Читал, – согласился Валерик. – Но все равно ей ведь скучно в этом самом инвалидном доме...
Надежда не стала с ним спорить, убеждать его. Кто же не поймет, что скучно старушке в инвалидном доме, вдали от родных? Наверняка, тоска тоской...
В самом начале, как только Валерик поселился у Надежды, он сразу же рассказал ей обо всем. Рассказывал Валерик сравнительно спокойно, как все было. Как они жили все вместе, он, мама, бабушка. И про Славку тоже не позабыл рассказать, даже про его маму и папу.
И само собой, про хиляка, про то, как вошел хиляк в их дом, в их жизнь, быстро, умело переделав все так, как хотелось ему.
– Я никогда не видела твою бабушку, – сказала Надежда. – Но мне ее, честное слово, жалко.
– Как думаете, тетя Надя, маме ее тоже жалко? – помедлив, спросил Валерик.
– Думаю, тоже, только, наверно, она боится высказывать свою жалость...
– Из-за хиляка? – перебил Валерик. – Да? Из-за него?
– Наверно, – сказала Надежда.
Валерик снова замолчал надолго, потом сказал:
– Я домой ни за что не хочу возвращаться, только если вам, тетя Надя, трудно со мной, я лучше где-нибудь как-нибудь устроюсь, хотя бы на вокзале ночевать буду, а домой не поеду!
– Кто тебя домой гонит? – спросила Надежда.
Он жил у нее уже почти две недели. Поначалу Надежда порывалась было отправить его обратно, но постепенно незаметно для себя привязалась к нему. И уже трудно было даже представить себе, как же это она останется без него.
– Но ты должен поступить в школу, закончить десятилетку, – наставительно произнесла Надежда. – Иначе нельзя, понял?
– Понял, – ответил Валерик.
Ему и хотелось, и не хотелось учиться. Скорее все-таки хотелось. Надежда была, в общем-то, права: это, разумеется, не дело, в его годы болтаться и не учиться. Как же так можно? Нет, на этот раз она определенно права.
Он не мог заставить себя относиться к Надежде как к старшей. Впрочем, когда-то он точно так же, почти как к ровне относился к маме. И Надежда тоже представлялась ему чуть ли не его ровесницей, он так и сказал ей однажды:
– Мы с вами, тетя Надя, вроде сверстники, честное слово!
Надежда и сердилась, и смеялась:
– Как ты смеешь так говорить? Как-никак я же твоя тетка!
– Тоже мне тетка, – отвечал Валерик.
Поселившись у нее, Валерик заявил почти сразу же:
– Хозяйство, тетя Надя, беру в свои руки...
– Бери, – согласилась Надежда, не выносившая решительно никаких домашних забот.
– Перво-наперво я буду все покупать, – сказал Валерик. – И даже иногда готовить, я умею готовить, вот увидите...
– А кто будет относить белье в прачечную? – спросила Надежда. – Пока ты не учишься, давай ты, ладно?
– Согласен, – сказал Валерик.
– Нет, в самом деле, – сказала Надежда. – Неужели ты умеешь готовить?
– А вы проверьте, тогда поверите!
– Проверю, мне ничего не стоит.
– Я все умею, – сказал Валерик. – И все буду сам делать: полы натирать, капусту на зиму рубить и грибы мариновать...
Как бы там ни было, а он сумел кое-чему научиться у хиляка. Эрна Генриховна и Ирина Петровна только руками разводили, когда видели, как Валерик готовит отбивные: сперва мочит их в молоке, потом поливает яичным желтком, потом обваливает в муке.
– Это надо тебе только представить, – говорила Эрна Генриховна, – у меня отбивные чахлые, как завядший фикус, а у него они дышат, да, просто дышат...
– Пухленькие и аппетитные, просто на удивленье, – вторила ей Ирина Петровна.
Но иной раз случалось, Надежда возвращалась домой после работы – дома обеда нет.
На столе кекс, апельсины, орехи фундук.
– Это ваш обед, тетя Надя, – серьезно, без тени улыбки говорил Валерик. – Древние ацтеки предпочитали на обед только что-нибудь вегетарианское: плоды, травы или молоко кокосового ореха. Это мне Славка рассказывал.
Надежда шумно вздыхала:
– Но мы же не ацтеки...
Он возражал по-прежнему серьезно:
– Мы должны стараться походить на них...
– Почему?
– Потому что они понимали куда лучше нас, как следует жить, чтобы быть здоровыми. Думаете, есть мясо в вашем возрасте так уж полезно?
– Тоже мне нашел старуху, – обижалась Надежда.
Валерик смеялся:
– Тетя Надя, вы не старуха, конечно, но уже тоже не очень, простите, молодая...
– Не старуха, – стояла на своем Надежда. – А ты со мною, как со старой старухой, дряхлой до ужаса...
Все-таки в чем-то она была еще совсем молодой, неискушенной, умела обижаться совершенно искренне, быстро, как спичка вспыхивала, правда, так же быстро и остывала. И после сама же первая смеялась над собой.
– В самом деле, я совсем как девчонка, будто мы с ним ровни...
В конце концов она сдавалась, брала апельсины или начинала жевать ломтик кекса.
– Хорошо, – говорила. – Допустим, мне эта еда полезна до слез, потому что я уже достаточно выросла, но ты-то еще растешь, тебе необходимо, скажем, мясо...
– Обойдусь на этот раз, – отвечал Валерик.
Порой хлебосольная Эрна Генриховна приглашала Валерика:
– Зайди-ка, мальчик, ко мне, у меня сегодня на редкость удачное рагу.
И он на пару с Ильей Александровичем опустошал большое блюдо рагу, залитого соусом, обложенного по краям хорошо прожаренным картофелем.
Илья Александрович подмигивал Валерику:
– Уговор – не стесняться, идет?
– Идет, – отвечал Валерик. – Я и не думаю стесняться.
– В таком случае добавку дать?
Валерик кивал:
– Дать!
С Громовым он сошелся ближе всех. Конечно, Надежда была самая для него близкая, но интереснее всего было с Ильей Александровичем. Если бы Валерика спросили, кем он хотел бы стать в будущем, он не задумываясь бы ответил:
– Таким, как Илья Александрович. Вот умелец! За что ни возьмется, лучше любого мастера сделает.
Руки у Громова действительно были золотые. Сколько различных приспособлений сделал он в своей машине! Несколько раз он брал Валерика с собой прокатиться, и Валерик не мог наглядеться на все эти кнопки, рычажки, круглые и квадратные зеркальца, противоугонные устройства, сиденья, обтянутые рубчатым зеленым, в цвет машины, вельветом. Все было сделано руками Ильи Александровича, все было пронизано несравненным его уменьем.
– Вот погоди, – сказал как-то Илья Александрович. – Задумал я сделать автосекретарь.
– Что такое автосекретарь? – спросил Валерик.
– Это прибор такой, он выполняет за тебя все твои поручения по телефону. Тебе звонят, тебя нет, просят передать что-либо, и автосекретарь все передаст чин чинарем.
– Как передаст? – спросил Валерик.
– Ну, братец... – ответил Илья Александрович. – Это целая система, о которой в двух словах не расскажешь. Но такой вот автоматический секретарь можно установить только лишь к своему личному телефону.
Валерик знал, что Эрна Генриховна и Илья Александрович собираются переехать в кооперативную квартиру. Илья Александрович сулил: уж там-то, живя обособленно от всех жильцов, он развернется как следует, он такого наворотит и напридумает, что и глазам своим не поверишь.
Валерику не хотелось расставаться с Ильей Александровичем, он с тоской ждал день, когда они переедут в свою новую квартиру. Правда, Илья Александрович сказал однажды:
– Думаю, что и вы с Надеждой Ивановной здесь ненадолго останетесь.
Он оказался прав. Валерик спросил Надежду:
– Тетя Надя, вы бы не хотели записаться в кооператив?
– Хотела бы, – ответила Надежда. – Одно время очень даже хотела, но тут выяснилось, что моя очередь в институте подходит, мне должны дать квартиру, не кооперативную, а государственную. Только знаешь что, – внезапно вспомнила она. – Тут есть одно немаловажное обстоятельство.
– Какое же?
– Мне должны были дать однокомнатную, а теперь у меня появился ты. И тебе нужна комната, пусть маленькая, но своя, отдельная, ты же растешь...
– Расту, – покорно повторил Валерик.
Надежда улыбнулась:
– И словно царь Гвидон: не по дням, а по часам.
– Хорошо, если все так выйдет, и мы с вами будем жить в отдельной квартире, – сказал Валерик. – Правда, хорошо, тетя Надя?
– Да, прекрасно, – пробормотала Надежда. Подумала, что надо бы поговорить в месткоме о том, что теперь она уже не одна. К тому времени надо будет постараться прописать его постоянно, тогда они получат двухкомнатную, пусть самую маленькую, так называемую малогабаритную квартиру. Но чтобы у мальчика непременно была бы своя комната, иначе нельзя...
Неожиданно для Надежды Валерик стал ей родным, казалось, всю жизнь прожила вместе с ним.
Как-то она собралась, написала письмо его матери: письмо было коротким, лаконичным. Надежда сообщала, что Валерик живет у нее, она согласна, чтобы он остался жить с нею все последующие годы.
Надежда перечитала письмо, зачеркнула «последующие годы» и написала: «Навсегда». Да, пусть будет так. Навсегда!
Мать Валерика ответила спустя несколько дней. Почти детский неровный почерк, чернильное пятно в середине листа.
«Если ему нравится жить у вас, я не против, – писала мать. – Только пусть он пишет мне иногда, скажите ему...»
Валерик прочитал письмо матери, нахмурился, ничего не сказал. Позднее признался Илье Александровичу:
– Моя мама не того...
– Это еще что такое? – возмутился Илья Александрович. – Как можно так говорить о родной матери?
– Нет, сперва она была хорошая, – поправился Валерик. – А потом она вышла замуж за хиляка и бабушку вытолкнула прочь, и все в нашем доме сразу кончилось.
– Что за хиляк? – спросил Илья Александрович. – И куда вытолкнули бабушку?
Тогда Валерик рассказал все как было. Илья Александрович не перебил его ни разу. Потом сказал:
– Понятно.
Валерик подумал, может быть, Илья Александрович осуждает его, может быть, ему не понравился его рассказ или он не поверил ни одному слову?
Он так и спросил прямо, не стесняясь:
– Как думаете, я не прав?
Громов несколько мгновений смотрел на него, словно взвешивая, говорить или не стоит. В конце концов ответил:
– Думается мне, что ты прав. Впрочем, не все ли тебе равно, что думаю я? В конечном счете важно то, как ты сам считаешь, верно ли поступил или нет.
– Я считаю, что верно, – сказал Валерик. – А мне вовсе не все равно, что думаете вы...
Илья Александрович шутливо дернул его за ухо.
– Что ж, тем лучше...
Валерик не знал, что в тот вечер Илья Александрович сказал Эрне Генриховне:
– Жаль парня...
– Какого парня? – спросила Эрна Генриховна.
– Валерика. В такие годы столько всего навалилось...
– Я знаю, – сказала Эрна Генриховна. – Мне Надежда рассказывала.
– Когда?
– На днях. Просто я еще не успела тебе рассказать.
– Ну и что скажешь?
Серые, в коротких ресницах глаза Эрны Генриховны презрительно сощурились.
– Я тебе вот что скажу, Илюша, если бы у меня была такая мать, я бы непременно отказалась от нее. Что бы кто бы ни говорил, а отказалась бы и постаралась начисто позабыть о ней...
– Наговариваешь на себя, старуха, – усмехнулся Илья Александрович, но глянул в сощуренные, ставшие в миг колючими глаза жены, вдруг поверил. Да, она такая, не изменила бы себе, взяла и отказалась бы. И дело с концом. И не умолить ее, не упросить, не разжалобить.
Впервые, до того как-то никогда даже и не думал об этом, дал себе слово стараться быть всегда честным с ней. Безукоризненно честным, правдивым и открытым, а иначе она не простит. Даже самую маленькую промашку не спустит, не позабудет...
– Валерик вряд ли откажется от матери, – сказал он. – Мне кажется, он любит ее и часто вспоминает о ней.
– И Надежда так считает, – сказала Эрна Генриховна. – Должно быть, так оно и есть.
Сжала губы, нахмурилась.
– Кому-то дети не нужны совершенно, а они в то же время любят родителей и преданы им, хотя, как видишь, любить-то, в общем, некого, у кого-то детей нет, а ведь наверняка иные субъекты могли бы стать заботливыми и любящими родителями...
Илья Александрович промолчал. Он знал, кого жена имела в виду.








