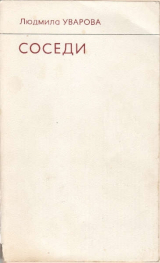
Текст книги "Соседи"
Автор книги: Людмила Уварова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 15 страниц)
Надежда записала Валерика в восьмой класс школы, находившейся в соседнем переулке. Это была старинная московская школа со своими установившимися традициями, с особым, только ей присущим укладом, учителя там работали долгие годы, и каждый год в течение чуть ли не полувека собирались все вместе бывшие ученики...
– Поздравляю тебя, – сказала Надежда Валерику. – Будешь учиться в школе – одной на всю Москву.
Она полагала, что Валерик обрадуется, но не тут-то было. Он хмуро произнес:
– Лучше бы она была не одна на всю Москву.
– Почему так? – удивилась Надежда.
– Боюсь, – не сразу признался Валерик. – Вдруг будет очень трудно учиться, ведь, как ни говорите, я же не москвичи, а чахлый провинциал...
– А ну хватит! – оборвала его Надежда. – Чтобы я никогда больше не слышала таких слов, и запомни еще вот что: пуще всего избегай унижать себя и прибедняться. А то, гляди-ка, войдешь в роль, так и захочешь – не сумеешь отучиться, а прибедняться и сознательно унижать себя, по-моему, нет ничего постыднее.
– Есть, товарищ начальник! – с наигранной бодростью воскликнул Валерик.
Казалось бы, разговор исчерпан, но все-таки Надежда не забыла его. И как-то поделилась с Эрной Генриховной:
– Мне кажется, ему присущ комплекс неполноценности.
– Вот еще, – сказала Эрна Генриховна. – С чего это вы берете?
– Можете себе представить, он боится, что ему будет трудно учиться в школе, что в Столовом.
– Это надо себе только представить, – удивилась Эрна Генриховна. – Боится! Нашу школу!
Она вздохнула, мечтательно подняла кверху вдруг помягчевшие глаза.
– Чего бы я только ни дала, лишь бы снова вернуться в прошлое и по-прежнему ходить по утрам в нашу школу...
Надежда подумала, что людям присуще не ценить настоящего, постоянно стремиться к будущему и жалеть о прошлом, которое стало, увы, недосягаемым.
Невесело усмехнулась собственным мыслям. Артем сказал бы: «Стареешь, мать, ибо впадаешь в философию, а философия – верная спутница старости. Так-то!»
Утром в субботу Илья Александрович сказал Валерику:
– Приказываю: в пять вечера быть в лучшей форме, с самым праздничным настроением, поскольку пойдешь со мною на наш завод.
– А что я там буду делать, на вашем заводе? – спросил Валерик.
– Хочу, чтобы ты увидел начало традиции.
– Какой традиции? – спросил Валерик. Илья Александрович ответил лаконично:
– Увидишь.
Завод, на котором работал Громов, находился далеко от центра, на шоссе Энтузиастов. Был не по-осеннему жаркий полдень, небо казалось сиреневым от дыма множества заводских труб.
– Это рабочий район Москвы, – сказал Илья Александрович. – Кругом, куда ни глянешь, повсюду заводы.
– Должно быть, здесь трудно жить, – сказал Валерик.
– Чем трудно?
– Дышать нечем, сплошной дым.
Илья Александрович пожал плечами:
– А что будешь делать? Мы уже все как-то привыкли, работаем здесь давно, во всяком случае, многие из нас, проводим на нашем заводе уйму времени и ничего, как видишь, справляемся.
Негромко засмеялся. Валерик посмотрел на него и словно впервые увидел, какой Илья Александрович здоровый, крепкий, какие у него широкие, развернутые плечи и яркий румянец! В самом деле, он не солгал: вполне справляется с дымом, и ничего, здоров на вид, лучше и желать нечего...
Они дошли до двухэтажного особняка, рядом с бюро пропусков завода.
– Это наш клуб, – сказал Илья Александрович, вместе с Валериком поднимаясь по широкой лестнице на второй этаж.
В большом многооконном зале собралось много людей. Валерик огляделся. Нигде ни одного свободного места. Однако кто-то из третьего ряда махнул рукой Громову, и они уселись рядом, он и Валерик.
Кто-то оказался толстым, шумливым, огромного роста человеком, который и минуты не сидел спокойно, багровые щеки его лоснились, немного оттопыренные уши горели рубиновым цветом, то и дело он вскакивал, кому-то кивал, с кем-то переговаривался, подмигивал, улыбался...
– Очень тебя прошу, перестань таращить на него глаза, – шепнул Илья Александрович Валерику. – В общем-то, он славный мужик, лучший лекальщик завода, мой тезка, зовут его тоже Илья, а за толщину и за рост прозвали Муромцем. Илья Муромец.
– А почему он все время вертится? – спросил Валерик.
– Не обращай внимания, делай вид, что ничего не замечаешь, тут вот какая штука, сегодня его сын в центре внимания, и он волнуется за него.
– Где его сын? – спросил Валерик.
– Скоро увидишь, только заметь себе, не только один его сын в центре внимания, одним словом, скоро все сам поймешь.
Внезапно грянула музыка. Валерик вздрогнул от неожиданности. Поднял голову: наверху, под самым потолком, на просторном длинном балконе уселись музыканты.
– Это наш заводской оркестр, – сказал Илья Александрович.
Оркестр начал с «Подмосковных вечеров», потом перешел на «Журавли». И замолчал внезапно, когда на сцену вышел худощавый седоволосый человек в грубом черном свитере с широким воротом.
– Наш предзавкома, – сказал Илья Александрович. – Герой Советского Союза, бывший танкист.
Предзавкома поднял руку, зал постепенно стал затихать.
– Товариши, – глуховатым голосом начал он, – разрешите объявить наш праздник открытым...
Снова заиграл оркестр, теперь уже торжественный марш, и под звуки марша в зал вошли примерно с полсотни юношей, одинаково одетых в темно-синие куртки с блестящими пуговицами. У всех через плечо были красные муаровые ленты.
– Это пэтэушники, – пояснил Илья Александрович. – Наш завод шефствует над их училищем, и они уже несколько лет проходят практику в наших цехах. Сейчас ты увидишь: этих ребят, выпускников, будут посвящать в рабочие. Праздник так и называется: «Посвящение в рабочие».
Играл оркестр, сверкали магниевые вспышки фотоаппаратов, один за другим на сцену поднимались старые рабочие, инженеры, молодые производственнники. И все они произносили теплые напутственные слова ребятам, которым суждено в недалеком будущем сменить их на рабочих местах. Ребята стояли молча, оглушенные музыкой, яркими юпитерами, громкими речами.
Валерику казалось, что он в театре. Дома ему пришлось всего раза три или четыре быть в театре, один раз он поехал в Челябинск и видел спектакль «Недоросль» в Драматическом театре имени Цвиллинга.
До сих пор помнился тот особенный, как бы фосфоресцирующий свет, который царил на сцене, необычная, праздничная атмосфера, пронизывавшая все вокруг, лица артистов, все, как один, казавшиеся прекрасными и яркими.
И вот теперь все, что Валерику довелось увидеть в зале заводского клуба, вдруг представилось похожим на тот давнишний спектакль, и лица ребят, стоявших на сцене с муаровыми красными лентами через плечо, казались все, как один, необычно красивыми.
Потом на сцену стали выходить рабочие, мастера ПТУ и все они говорили о том, что сегодня для каждого из них примечательный день, который наверняка запомнится надолго.
В конце выступил бывший танкист, предзавкома. Он вышел на сцену, в зале стало тихо.
– Что я вам скажу? – начал предзавкома, улыбнулся, оглянувшись на ребят. От улыбки лицо его, усталое, в морщинах, оживилось, стало словно бы моложе. Он встряхнул еще густыми волосами, блестя глазами, и, должно быть, не один человек в этом зале вдруг подумал о том, какой он был в юности лихой, неотразимый в непринужденном своем обаянье. – Я вам вот что скажу, – продолжал он. – Может быть, кто-нибудь из вас читал, а кто-нибудь и слышал об одном интересном обычае, который издавна царит на кораблях. Как только корабль пересечет экватор, всех молодых матросов, салаг, как их часто называют, подвергают морскому крещению, сам морской царь Нептун напутствует их на дальнейшую жизнь. Их обливают морской водой и, таким образом, они считаются с этого момента настоящими, полноправными моряками. Вот так и с вами, товарищи, вы уж давненько работаете в наших цехах, вся производственная практика ваша проходила здесь, на заводе, вам многие знакомы, и вас многие знают, но сегодня для всех особенный, значительный день. Вы получили своего рода крещение и стали полноправными рабочими.
Он взмахнул рукой, оркестр грянул «Марш энтузиастов».
Илья Муромец забил в свои громадные ладони, за ним стал аплодировать весь зал. Ребята, стоявшие на сцене, щурились от яркого света, сверкали вспышки магния. Илья Муромец сказал громко:
– Паша, гляди веселей, я неподалеку...
Все засмеялись.
– Где Паша? – спросил Валерик Илью Александровича.
– Вот, видишь, пятый справа.
Сыном Ильи Муромца оказался неожиданно щуплый, совсем не в отца, паренек, рыжеватый, с пышными кудрявыми волосами, которые, должно быть, невозможно было хорошенько пригладить щеткой.
– Увидел! – прогудел Илья Муромец. – Вот ведь какой. Кажется, совсем недавно я его на одном плече наверх поднимал, а теперь...
– Как? – спросил Илья Александрович, когда они вышли из проходной. – Понравилось тебе?
– Очень! – искренне ответил Валерик.
Высокий, массивный Илья Муромец обогнал их, на ходу кивнул Громову:
– Привет, тезка!
– Привет, – отозвался Илья Александрович. Как на душе-то? Отлегло?
Тот остановился:
– Спрашиваешь!
Илья Муромец помахал на прощанье рукой и помчался дальше, могучий, большой, но в то же время обладавший на диво быстрой и легкой походкой.
– Илья Александрович, как думаете, – спросил Валерик. – Может быть, мне стоило бы лучше пойти в ПТУ, а не учиться в школе? Я сегодня как поглядел на пэтэушников, так, знаете...
Валерик замялся на миг, Илья Александрович подсказал:
– Завидно стало?
– Ну не очень...
– А все-таки? Есть немного?
– Совсем немного.
Валерик вспомнил, как бабушка, бывало, говорила: «Если хочешь жить долго и хорошо, выполняй три условия: не завидуй, не ревнуй, не сердись, тогда и счастливый будешь, и проживешь долго».
Сама бабушка никогда никому не завидовала, редко сердилась, ну и что с того? Разве можно назвать ее счастливой, если последние свои годы ей суждено прожить в инвалидном доме?
– Мне хотелось бы поскорее зарабатывать, – сказал Валерик.
– Зачем тебе деньги? – спросил Илья Александрович.
– Я бы первым делом бабушку забрал из инвалидного дома, и мы стали бы с нею вместе жить...
– Тебе уже есть четырнадцать?
– Давно. Мне в феврале пятнадцать будет.
– А сам как считаешь, что для тебя лучше...
– Сам? – переспросил Валерик. – В том-то и дело, что не знаю... Был бы я начитанный и образованный, как Славка, я бы сразу все решил.
– Славка – это твой товарищ, тот самый, о котором ты рассказывал?
– Да, тот самый. Славка хочет быть журналистом, поступить в МГУ на факультет журналистики, а я до сих пор не пойму, кем мне следует быть, куда идти учиться и вообще, что было бы лучше – учиться в школе или пойти в ПТУ?
– Как я погляжу на тебя, ты вроде бы запутался, – заметил Илья Александрович.
– Кажется, да, – уныло согласился Валерик.
– Ладно, – строго приказал Громов. – Хватит! Нечего жаловаться, нам с тобой, мужикам, это не к лицу!
– А я не жалуюсь, – сказал Валерик.
– Вот и не надо! Мой совет тебе: учись, где учишься, только не филонь, не ленись.
– Хорошо, – согласился Валерик. – Вот закончу восьмой класс, тогда поглядим.
– Правильно!
В метро сильно стучали колеса, вагон мотало из стороны в сторону, разговаривать было трудно. Лишь тогда, когда они вылезли на «Арбатской» и пошли к своему переулку, Валерик снова начал:
– Знаете, о чем я думал всю дорогу?
– Не знаю, конечно.
– Я думал вот о чем: на огромной, невероятно большой планете живет очень много людей, около трех миллиардов, верно?
– Верно.
– И вот у каждого свои какие-то желания и мысли, и каждый считает, что он живет так, как нужно, как следует, что только так и можно, и нужно жить...
– Ну не все, конечно, так считают, – перебил Валерика Илья Александрович, однако Валерик, не слушая его, продолжал:
– Одни люди подличают, лгут, делают гадости, а другие хотят для всех только лишь одно хорошее и всем делают одно добро...
Валерик остановился, и Громов остановился вместе с ним:
– Что-то я тебя, мальчик, не пойму, о чем ты толкуешь?
Валерик взял Илью Александровича за руку.
– Я хочу, чтобы вы поняли меня.
– Понимаю, голубчик, одни люди на земле – сволочи, другие – хорошие. Вот краткое резюме твоих мыслей, разве не так?
Громов говорил серьезно, но глаза его смеялись.
– Вам смешно? – обиженно спросил Валерик. – Чем это я вас так насмешил?
Илья Александрович сжал плечо Валерика:
– Не обижайся, мальчик, я ведь не со зла, и нисколько мне не смешно, просто никак не могу уяснить себе, о чем это ты толкуешь?
– О том, что все люди живут по-разному, но каждому кажется, именно так и следует жить, так, как живет он. Наверно, подлецы тоже считают, что они хорошие, безупречные и совершенно довольны собой...
– Какой подлец, – резонно заметил Илья Александрович. – Иной вовсе недоволен собой...
Валерику вспомнился в этот миг Колбасюк, мысленно он увидел костлявое, похожее на череп лицо, впалые глаза, редкие, как бы приклеенные к черепу волосы.
– Не хочу, быть таким, как хиляк, – сказал Валерик. В этот момент он позабыл о своем спутнике, отвечая лишь собственным мыслям. – Никогда не буду таким!
– Не будешь, – согласился Илья Александрович. – Просто не сумеешь. Для того чтобы быть таким, как твой отчим, надо иметь другое психологическое строение, совершенно другие гены.
Глава 13. Сева
Сева вернулся со смены, сказал, дуя на красные ладони:
– Мороз нынче знаменитый, давненько такого не было. А мне еще по магазинам топать!
Сева, не раздеваясь, шагнул к шифоньеру, где обычно хранились деньги. Ключ долго не слушался замерзших пальцев, наконец справившись с ящиком, Сева с раздражением задвинул его и направился к выходу.
– Приходи поскорее, – крикнула вслед Рена, – слышишь!
– Слушаюсь и повинуюсь, – ответил Сева.
Рена повернула свое кресло, глянула в окно. Кружились безостановочно холодные снежинки, тяжелые декабрьские облака медленно проплывали в небе.
«Скоро Новый год, – подумала Рена, – самый веселый праздник...»
Еще тогда, когда Рена была маленькая, ее любимой книгой был «Пиквикский клуб» Диккенса. По сей день она нередко перечитывала описание святок и рождества в доме толстяка Уордля, друга мистера Пиквика. Как вкусно было читать про яркий огонь в камине, в то время как за окном завывает вьюга и шумит ветер; Рена представляла себе ярко освещенный множеством свечей зал, в ту пору еще не было электричества, но герои Диккенса превосходно справлялись без него, и вот зал, освещенный свечами, под потолком пучки остролиста и омелы, а кругом танцы, музыка, веселье...
Рена знала, новогодний праздник не пройдет мимо нее. Она догадывалась, что Сева уже припас елку, наверно, прячет ее у кого-нибудь из соседей, а она не спросит ни о чем, делает вид, что не подозревает, существует ли эта самая елка или нет. И еще наверняка ее ждет подарок от Севы, что-то, что должно непременно ей понравиться.
А что может ей понравиться? В сущности, нет ничего такого, чего бы ей очень хотелось. Ничего! Только пусть Сева не знает об этом, пусть думает, что она беспечальна и неуязвима, что ей хорошо, хотя бы в той самой мере, в какой может быть для нее хорошо.
Впрочем, он этого не думает. Не может так думать. Разве он не понимает, что ей тяжко? Что она никогда не сумеет привыкнуть? Из года в год, изо дня в день сиднем сидеть в этом кресле – кто бы мог выдержать?
Правда, в детстве, лет примерно до восьми, она была такая же, как все, и у нее были точно такие же ноги, как у любой другой девочки.
До сих пор помнится: она бежала на лыжах в Измайлове, бежала, разумеется, громко сказано, просто шла по лыжне, проложенной Севой, а вот он бежал в самом деле, где-то далеко алела его вязаная шапка, потом он повернул обратно, прямиком направился к ней.
«Как дела?» – спросил.
Рена не ответила, старательно нажимая на палки, ветер шумел в ушах, снег падал на землю с неба, а в небе орали вороны. Рена закинула голову, и Сева тоже посмотрел наверх.
Сколько лет прошло с того дня? Около двенадцати. Это много или мало? Иногда кажется, всего ничего, иногда – до ужаса много. Потому что уже никогда не повторится та чудесная, почти невесомая легкость, когда казалось, все хорошо и так будет всегда, всегда...
И каждое утро просыпалась с чувством радости, и день представлялся то непомерно большим, то маленьким, словно минута, но всегда радостно заполненным, счастливым-счастливым...
Только не надо, чтобы Сева понял. При Севе надо улыбаться, острить, рассказывать смешные истории и быть готовой постоянно взорваться смехом и стараться смотреть прямо ему в глаза веселыми, бездумно радостными глазами...
А вот и Сева.
– Хорошо на улице? – спросила Рена.
– Страшно холодно, – сказал Сева, – просто ужас какой-то.
Обычно на все ее расспросы, как там, на улице, он отвечал одинаково безразлично и зимой и летом:
«Жара, – не продохнешь, дома куда лучше...»
«О какой зелени ты говоришь? Пух этот сыплется с тополей, до того надоел...»
«Неохота ехать за город, честное слово! Чего я там не видел! Жара, мухи, комары жрут, как волки, в лесу сплошь пустые банки и рваные газеты...»
Летом в выходной он наотрез отказывался отправиться купаться или поехать в лес, почти весь день проводил вместе с Реной. И уверял, что не хочется куда-нибудь ехать, а Рена делала вид, что верит ему.
Порой Ирина Петровна пыталась увещевать его:
«Так нехорошо жить...»
«Чем нехорошо?» – спрашивал Сева.
«Ты же молодой человек, а живешь, как монах...»
«Монахи не ездят на колесах, а я только и делаю, что катаюсь, – отвечал Сева и смеялся почти искренне: – Мамочка, не беспокойся, уж как-нибудь доберу свое...»
В конце концов Ирина Петровна тоже начинала смеяться, разговор на том и кончался.
– У тебя лицо красное, как помидор, – сказала Рена.
Сева потер ладонью щеки, сперва одну, потом другую.
– Я же тебе говорю, мороз жуткий...
– Мороз – это хорошо для здоровья, – сказала Рена, – во всяком случае, лучше, чем слякоть и сырость.
– Все плохо, – сказал Сева.
– Начинаются никольские морозы, – задумчиво произнесла Рена.
– Терпеть не могу морозы, – сказал Сева.
«Врешь, – мысленно ответила Рена, – это ты нарочно для меня говоришь, а я знаю, что любишь».
Вслух она спросила:
– Где твои лыжи?
Сева пренебрежительно пожал плечами:
– Не знаю.
– Почему? – спросила Рена. —Ты же любил ходить на лыжах.
– Мало ли что я любил, а вот теперь остыл начисто...
«Врешь, – подумала Рена, – не может этого быть! Это ты из-за меня так говоришь, чтобы я не страдала, чтобы мне не было больно, потому что уж кому-кому, а мне лыжи следует забыть напрочь и навсегда».
– Помнишь, – спросила, – как это у Жуковского? – Громким, четким голосом отчеканила:
Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали.
За ворота башмачок,
Сняв с ноги, бросали,
– Разве это не Пушкин? – спросил Сева, тут же засмеялся: – Ну, прости, прости мое невежество!
– Прощаю, – сказала Рена, – у тебя зато есть много других, очень даже приятных качеств.
– У меня плохая память, – признался Сева. – Я что-нибудь прочитаю и тут же забуду, как не читал вовсе. У тебя ведь так не бывает, верно?
«Ну и что с того? – хотелось ответить Рене. – Я бы поменялась с тобой сию же минуту, черт с ней, с моей хваленой памятью, пусть я ничего не помню, пусть буду забывать все, что бы ни прочитала, лишь бы ходить, бегать, прыгать, вот так, как все остальные люди...»
– У меня, конечно, так не бывает, – сказала она. – Я так много помню, что, честное слово, сама удивляюсь, как это все помещается в одной моей голове!
Тряхнула головой, темно-русые волосы падали на худенькие плечи.
«Лучше бы ты ничегошеньки не помнила, а была бы здоровой – и сильной, – подумал Сева, – чтобы никогда дома не сидела, бегала бы на свидания, красила глаза синей краской, канючила у меня на модные сапоги и колготки до самого горла, и меняла бы хахалей одного за другим, ах как было бы хорошо...»
– Приятно у нас дома, – сказал он, – ты не находишь? Тепло, уютно. Верно?
– Ничего, – ответила Рена.
– Есть хочешь?
– Я уже поела, – ответила Рена, – мне мама оставила котлету с рисом, потом Мария Артемьевна принесла кисель, ужасно вкусный. Я целых два блюдечка проглотила.
– Тогда, может быть, выпьешь чаю?
– Пожалуй.
– И я с тобой, – сказал Сева, – с мороза хорошо горячий чай.
Он вышел в кухню поставить чайник.
«Я мешаю ему, – думала Рена, – если бы не я, он бы давно устроил свою жизнь и у него была бы семья, были бы дети. Ведь я знаю, он ужасно любит детей. Надо только видеть, как он глядит на них».
Это было весной. К Ирине Петровне пришла дама с мальчиком. Дама была жеманной – крашеные, ярко-золотистые волосы, лицо покрыто смуглым тоном, густой слой помады на губах.
«Ну и ну, – подумала Рена, – надо же так наштукатуриться!»
Зато мальчик был прелестный. Лет ему было, должно быть, около шести, как определила Рена. Позднее она узнала, что ему без малого восемь.
– Я к вам, милая Ирина Петровна, – заверещала дама. – Умоляю, не откажите мне...
Просьба оказалась не очень сложной: Ирина Петровна ходила помогать по хозяйству к приятельнице этой дамы, а дама решила всеми правдами и неправдами переманить Ирину Петровну к себе.
– Моя подруга бездетна, – уверяла она, – и вообще, ей день-деньской делать нечего, а у меня, как видите, сын!
В конце концов, несмотря на все мольбы и уговоры, у нее так ничего и не получилось: Ирина Петровна наотрез отказалась перейти к ней. И она ушла, разозленная, едва кивнув на прощанье.
Но как Сева смотрел на мальчика! Рена не сводила глаз с брата, а он ничего и никого не замечал, кроме этого маленького толстяка.
Рена после не выдержала, сказала:
– Этот мальчишка, как видно, очень тебе понравился...
– Кто? Какой мальчишка? – неискренне удивился Сева, потом стал яростно отнекиваться. – Да ты что, Рена! Я вообще-то таких толстых не перевариваю. Мы их в школе жиртрестами звали...
Но Рену он все равно не сумел обмануть. Она-то все поняла, все, все...
«Если бы не я, он бы женился, наверняка бы женился, кругом столько девушек, одна другой лучше. Взять хотя бы Лелю, до чего хороша...»
Если говорить правду, то Леля была Рене не по душе. Легкомысленная пустышка, наверняка не умеет ни любить, ни заботиться о ком-либо, нет, Севе нужна другая, непохожая на Лелю.
Мысленно Рена смеялась над собой – ни дать ни взять злая свекровка, которая бракует подряд всех кандидаток в невестки, ни одну не считая достойной ее сына.
«Это потому, что я такая, – думала Рена. – Была бы я здоровая, ничем бы от всех людей не отличалась, тогда все было бы по-другому. И у меня была бы своя жизнь, и Севе было бы хорошо...»
Сева принес из кухни чайник, расставил чашки, налил Рене чаю, подвинул блюдечко с халвой.
– Давай, сестренка, наваливайся...
– А ты?
– Я тоже, не беспокойся, не отстану. Не знаю, что делать, – сказал Сева. – Сменщик заболел, придется работать каждый день...
– А почему ты не знаешь, что тебе делать? – спросила Рена.
– Потому что не знаю, когда выберусь купить елку.
Рена постаралась принять самый невинный вид, будто бы ни о чем не догадывается.
– Ну и пусть, – сказала, – обойдусь без елки. Не маленькая, уже, в общем-то, взрослая...
Сева не согласился с нею:
– Что с того, что, в общем-то, взрослая? Это же традиция, а вообще, елка в Новый год – самый лучший праздник.
– Да, – сказала Рена, – по-моему, тоже, я больше всех праздников люблю Новый год.
– Только жаль, что я работаю в Новый год, – как бы между прочим добавил Сева. – В этот самый день, можешь себе представить?
«Это ты нарочно сам себе устроил, сам вызвался дежурить и кто-то вне себя от радости поменялся с тобой, и вот у тебя уже самый законный предлог не ходить ни в какие компании, кто бы ни пригласил тебя, и я знаю, ты приедешь домой ночью, непременно приедешь, чтобы встретить со мной и с мамой Новый год».
– Могу, – сказала Рена, – надо же так!
– Мне всегда везет, – сказал Сева, – ну, ничего, авось на майские праздники буду свободен, тогда, можешь не сомневаться, ни за что не соглашусь дежурить, ни за какие коврижки. Что, скажу, мало вам Нового года, хотите еще и на Май запрячь?
«Это ты так специально для меня говоришь, чтобы я не думала, что ты из-за меня принес жертву...»
– В том доме зажгли лампочки на елке, видишь? – спросила Рена. – Вон, на третьем этаже...
– Ничего с тобой, видно, не поделаешь, – сказал Сева, – придется притащить кое-что из коридора.
Он вышел из комнаты. Спустя минуту вошел снова, держа обеими руками большую, с завязанными веревкой ветками елку, словно пику, наперевес.
– Вот она, красавица Подмосковья, гляди и любуйся...
– Действительно, красавица...
Сева проворно развязал веревки, поставил-елку в угол, там уже со вчерашнего дня стояло ведро с песком, предусмотрительно покрытое дерюгой, чтобы Рена не видела и не догадалась, зачем здесь ведро.
– Будем обряжать? – он посмотрел на Рену.
Рена кивнула головой:
– А как же!
«Я знаю, что ты хочешь меня радовать, ты хочешь видеть меня счастливой, и я буду веселой, счастливой, ты не бойся, я всегда буду при тебе веселой и счастливой...»
– А где у нас лампочки? – спросила Рена.
– Все здесь, на месте, – ответил Сева. Снял с гардероба коробку с елочными украшениями и игрушками. Иным игрушкам было уже немало лет, почти столько же, сколько Рене. Например, деду-морозу, одетому в красный суконный камзольчик, с белой заячьей шапкой на голове. Или хлопушкам из золотой бумаги.
Сева поставил коробку Рене на колени, и Рена начала вынимать игрушки: стеклянные звезды, разноцветные шары, зайцев с длинными острыми ушами, золотой и серебряный дождь и, наконец, гирлянды цветных лампочек.
А Сева брал у нее игрушки и вешал их на елочные ветви. Дольше всего пришлось повозиться с лампочками, почему-то никак не хотели гореть, в конце концов засияли малиновым, зеленым, лиловым светом, словно бы перемигивались в густой зелени ветвей.
– Что, – спросил Сева, – не хуже светят, чем в том доме, на третьем этаже?
«Ты доволен больше, чем я, куда больше, ты словно маленький – весь светишься от радости, и я тоже буду радоваться, я буду все время улыбаться...»
– У меня самая лучшая елка, – сказала Рена, – лучше моей елки нет на целом свете!
– Ну, – заметил Сева, предпочитавший во всем прежде всего правду и справедливость. – На целом свете, надо думать, найдутся еще лучшие елки!
– Все равно моя самая лучшая!
– Погоди, – сказал Сева. – Чуть не забыл! – Вынул из серванта пакет с мандаринами. – Давай привязывай леску к мандаринам, а я буду вешать.
Рена прилежно втыкала иголку с леской в плотную, ноздреватую шкурку мандарина, в лицо ей брызгал терпкий сок.
– Как хорошо пахнет, ты не находишь?
– Нахожу, – ответил Сева.
– Елка и мандарины – это запах Нового года, – сказала Рена.
– И детства, – добавил Сева. – У нас в детстве всегда так пахло на Новый год, помнишь?
«И теперь так же: ты хочешь, чтобы все было, как тогда, когда я была совершенно здорова, я знаю, тебе больше всего хочется, чтобы было так».
– Я помню, – сказала Рена. – Я все помню, в сущности, это было не так уж давно...
«Ты был бы замечательным отцом и мужем, вот таким же, каким был папа...»
– Ну, – сказал Сева, когда все уже было готово, – а теперь давай поговорим, сестренка, по душам, куда бы мы отправились с тобой, если бы нам дали отпуск зимой? Как думаешь, куда?
Рена не успела ответить, в дверь постучали, вошла Леля.
– Привет, – сказала. – У меня к тебе, Сева, просьба, мы с подругой собираемся пойти на лыжах, а у нее что-то случилось с креплением. Может быть, поглядишь?
– Хорошо, – нехотя отозвался Сева.
Леля обернулась к Рене, спросила:
– Как поживаешь? – не дожидаясь ответа, снова обратилась к Севе: – Значит, заходи, ждем...
Сева выразительно двинул бровями, когда Леля закрыла за собой дверь.
– Пустышка, самая что ни на есть...
– Но красивая, – сказала Рена.
– Не такая уж красивая, – оспорил Сева. – И вообще, это все пройдет в недалеком будущем.
– Вообще все проходит, – сказала Рена. – Это еще царь Соломон справедливо заметил, помнишь?
– А как же, – ответил Сева, выходя из комнаты.
Он вошел к Леле в комнату, там на диване сидела девушка. Так, вроде бы ничего особенного, упитанная, розовощекая, кудрявая челка на лбу. Она повела на него узкими, в густых ресницах глазами, улыбнулась, и Сева понял: все, попался. Вот она и пришла, явилась любовь, нежданно-негаданно, а скорее всего, как оно бывает, совершенно случайно...
– Меня зовут Сима, – сказала она, протягивая ему круглую ладошку. – Друзья называют Симочкой, а вы Сева, верно?
– Не кокетничай, все равно ничего у тебя не получится, – почти зло оборвала ее Леля.
Симочка улыбнулась, блеснули мелкие ровные зубы.
– А я ни на что не надеюсь.
Сева мысленно подивился, почему это Леля так грубо разговаривает со своей подругой, однако вслух ничего не сказал. В конце концов, не его это дело, сами разберутся. Он, как мог, починил крепления, подтянул ремешки.
– Теперь будет, надеюсь, порядок, – сказал.
– Мы едем в «Сокольники», – сказала Симочка, щуря фиалковые, слегка подмазанные глаза. – Поехали с нами?
– Он же только со смены, – сказала Леля, и Сева снова подумал о том, что Леля непонятно почему не хочет, чтобы Симочка обращалась к нему, почему-то ее раздражает Симочкина манера.
Вдруг неожиданно для самого себя он сказал:
– Хорошо, едем...
– Вот и прелестно, – Симочка тряхнула челкой, – нам будет намного веселее, это уж как пить дать.
– Я сейчас, – сказал Сева.
Мигом вбежал к себе. Рена подъехала на кресле, включила телевизор. Загорелась надпись: «Впервые на экране».
– Будет детектив, – оживленно проговорила Рена. – Чехословацкий, я читала, по-моему, на каждые пять минут по убийству!
– Ты знаешь, я поеду в «Сокольники», – сказал Сева, старательно глядя чуть выше Рениного лба. – Понимаешь, я даже не думал, но как-то так получилось...
Рена весело засмеялась:
– Да, само собой, поезжай, и все. А обо мне не беспокойся, я буду смотреть детектив, потом у меня очень интересная книга, Надежда Ивановна дала на один вечер...
– Что за книга? – спросил Сева.
– Про это, как ее, про французскую революцию. Надежда Ивановна уверяет, что необыкновенно захватывающе.
– Да я ненадолго, – сказал Сева.
– Господи, – взмолилась Рена, складывая вместе свои маленькие ладони, – разве я тебя тороплю? Катайся себе на здоровье, и не нужен ты мне вовсе на ближайшие шесть часов!
«Как же ты обрадовался! Ты, наверно, никому, и прежде всего себе, ни за что не признаешься, что тебе трудно и тоскливо со мной. Но я-то все понимаю, я знаю, если я скажу, что ты устал от меня, ты начнешь ругаться, спорить, доказывать, что ни капельки не устал, что напротив, тебе скучно было бы без меня и так далее в том же роде, но как же ты обрадовался! Как тебе хочется вырваться хотя бы ненадолго из этой комнаты!»
– Где твои лыжи, ты знаешь? – спросила она.








