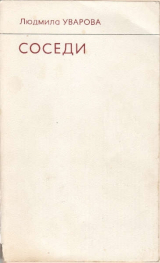
Текст книги "Соседи"
Автор книги: Людмила Уварова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц)
Братья-близнецы Сережка с Костей научили ее плавать, правда, на речку ее мама одну не пускала, шла вместе с ней, садилась на берегу, смотрела, как Леля бьет по воде руками и ногами, а Сережка и Костя плавали возле Лели, готовые каждую минуту прийти на помощь.
Вера Бахрушина, ее дом находился напротив бабушкиного, научила Лелю вышивать гладью, и Леля грозилась, что, приехав домой, вышьет все полотенца и салфетки, сделает на них кайму – васильки, анютины глазки, розочки и ромашки.
Все они говорили немного иначе, чем Леля: «вёдро» – значит «хорошая погода», вместо слова «вечер» говорили «ужотко», теленка называли «сосун», мочалку – «вихотка».
Леля сперва смеялась, разве можно так говорить, а потом и сама незаметно научилась разговаривать по-деревенски.
Она выросла, стала смуглой, волосы ее выгорели от солнца. Мама говорила:
– Приедем в Москву, папа тебя не узнает...
– А я еще не хочу в Москву, – отвечала Леля. – Подожди, мама, мы еще успеем домой...
Мама соглашалась:
– Разумеется, успеем...
Однажды Леля отправилась с Алей по землянику.
– Хочешь, пойдем в самый дальний лес? – спросила Аля. – Там, говорят, земляники – сила, все кругом как обсыпано...
– Мама не велела далеко уходить.
– Это еще почему? – насмешливо спросила Аля. – Чего она боится?
– Она боится, что я заблужусь, – ответила Леля.
– Со мной не заблудишься, – сказала Аля. – Я тут все как есть леса кругом обошла, каждую тропинку наизусть знаю...
– Нет, – сказала Леля. – Я обещала маме, что пойду только в этот лес, а далеко никуда не пойду, она волноваться будет.
Аля засмеялась.
– Обещала, – протянула она. – Кому обещала-то?
– Маме, ты же знаешь, – ответила Леля.
– Маме? – повторила Аля. – Да какая она тебе мама? Она же неродная, понимаешь?
– Да ты что? – возразила Леля. – Как это, неродная?
– Точно тебе говорю, – уже серьезно произнесла Аля. – Это все у нас в деревне знают, кого ни спроси, твоя мать, родная, умерла, тогда твой отец женился на Марии, моя мама ее сызмальства знает, у нее испокон веку детей не было, она за вдовца на ребенка пошла...
Аля вытянула вперед розовые губы, и Леля мгновенно представила себе красивую Настю, которая, должно быть, именно так и сказала: «За вдовца на ребенка пошла...»
Аля между тем продолжала:
– Да ты погляди на нее и на себя, ничего в вас схожего нет, ни единой-разъединой черточки. Ты красивая, лицо у тебя круглое, белое, глаза – во какие, – Аля пальцами показала, какие у Лели большие глаза. – Волосы густые-прегустые, а у Марии глазки, как жуки лесные, махонькие, и волос на голове считай что не осталось...
Леля вдруг закричала на нее:
– Не смей! Перестань, слышишь, перестань немедленно!
Аля замолчала, удивленно расширила глаза:
– Да ты что? Что это с тобой?
А Леля внезапно повернулась, не говоря ни слова, побежала от нее прочь. Аля закричала ей что-то вслед, она не слушала, бежала изо всех сил, не замечая, что потеряла косынку с плеч, что куры, мирно сидевшие на обочине дороги, разбежались в разные стороны.
Бабушки не было дома, мама сидела у окна, чинила Лелино платье. Увидев Лелю, мама удивилась:
– Ты откуда, дочка? Неужели уже из леса вернулась?
Леля не ответила ей, молча глядела на нее, мама перекусила нитку, наперстком разгладила аккуратно положенную заплатку.
– Кушать будешь? Бабушка тебе творожка свеженького принесла...
Леля молчала, не спуская глаз с мамы.
– Аля тоже с тобой вернулась? – спросила мама. – Так зови ее, я ее тоже угощу творожком....
– Я больше с Алей не вожусь, – сказала Леля.
– Вот как, – сказала мама, нисколько не удивившись. Лелю отличало некоторое непостоянство в дружбе, она умела быстро сходиться с подругами и так же быстро остывала к ним. И мама иной раз говорила папе:
«Наверно, как вырастет наша Леля, будет вот так же своих поклонников щелкать, сегодня один нравится, завтра другой...»
«Ну и что? – спрашивал папа, – Пусть будущие поклонники переживают...»
«Да, пусть поклонники, – соглашалась мама. – Лишь бы не она...»
Леля подошла к ней, спросила, не сводя с мамы глаз:
– Это правда, что ты мне неродная?
– Что? – переспросила мама, щеки ее вспыхнули разом, стали малиновыми и даже на глаз горячими. – Что ты сказала? Что за глупости!
– Аля говорит, что ты за вдовца на ребенка, значит, на меня, пошла, у тебя никогда своих детей не было, и это все знают, моя мама умерла, а ты неродная мама...
– Ну и люди, – мама покачала головой, вздохнула, и Леле сразу же стало жаль ее, и она подумала про себя, может быть, не надо было передавать маме Алины слова...
– Ну и люди, – повторила мама. Притянула Лелю к себе, прижалась щекой к Лелиной щеке. – Надо же такое придумать!
– Это неправда? – спросила Леля.
Мама засмеялась:
– Конечно, неправда! Ты у меня самая-пресамая родная дочка! Неужели не видишь?
– А почему же Аля так сказала? – не сдавалась Леля. – Откуда она взяла, что ты у меня неродная?
– Не знаю, – ответила мама. – Просто взяла и ляпнула, а чего, наверное, и сама не поняла.
– Она говорит, что ты за вдовца с ребенком пошла...
– Ну что за люди! – снова произнесла мама. – И как только не совестно такой ерундой детям мозги засорять?
– Я сейчас пойду и скажу, чтобы она... – начала было Леля, но мама решительно оборвала ее:
– Никуда ты не пойдешь, дочка, и вообще, о чем тут говорить. Мало ли какие люди глупости придумают, а ты что, со всеми спорить будешь?
– Я с ней больше не буду водиться, – сказала Леля.
Мама пригладила ладонью Лелины растрепавшиеся на висках волосы.
– Веришь мне, дочка?
– Верю, – помедлив, ответила Леля.
– Ты моя самая что ни на есть родная, поняла? И никогда не слушай всякие глупости и сплетни, слышишь? Не будешь слушать?
– Не буду, – пообещала Леля.
– Верь мне, я – твоя мама, самая настоящая, родная...
Вместо ответа Леля потерлась носом о мамино плечо.
У нее уже окончательно отлегло от сердца, она понимала, мама права, Аля вместе со своей мамой придумали ерунду и все это, само собой, враки, и сейчас она поест творожка, который принесла бабушка, потом побежит на берег, там наверняка сейчас купаются Катя с Верой и братья Сережка и Костя...
Но тут мама сказала озабоченно:
– Вот что, доченька, я забыла тебе сказать, мы же сегодня уезжаем...
– Сегодня? – удивилась Леля. – Ты же хотела, по-моему, дней через десять, сама же говорила бабушке, что еще дней десять побудешь...
Глаза Лели мгновенно наполнились слезами, день за окном, сияющий, лучезарный, полный солнечного тепла и блеска, как бы разом померк и потускнел.
Сколько же было планов на эти самые десять дней! Во-первых, бабушка обещала повести Лелю в телятник, показать новорожденных телят, потом Слава, тот самый, который встречал их в Огородском, обещал покатать Лелю на мотоцикле, и еще Леля задумала сделать бабушке сюрприз – вышить ей полотенце красными петушками, и вот неожиданно, в один миг мама решила – уезжать...
Леля заплакала, а мама, словно бы не замечая Лелиных слез, начала собирать вещи.
Леля поплакала немного и перестала. Странно все-таки, обычно мама мгновенно сдавалась на ее слезы, стоило Леле заплакать, как мама сразу же говорила:
«Ну хорошо, ну ладно, пусть будет по-твоему, только не плачь!»
А теперь мама словно бы не замечала Лелиных слез, собирала вещи, укладывая их в чемодан и рюкзак.
Потом пришла бабушка, удивилась.
– Ты что, Маша? – спросила. – Никак, собираешься уехать?
– Собираюсь, – ответила мама. – Дел в Москве много, и потом Семена надо пожалеть, каково ему там одному?
Бабушка кивнула:
– Это так, конечно, только я думала, еще немного у нас побудете...
– Хватит, – сказала мама. Слегка улыбнулась, как бы желая смягчить свои слова, но, несмотря на улыбку, сразу же можно было понять, что, как она решила, так и будет.
Леля вышла на крыльцо. Альма подошла к ней, бесконечно жмурясь и позевывая, должно быть, лежала в палисаднике под тенью яблони, дремала, укрывшись от всех.
– Уезжаю, Альма, – сказала Леля, глаза ее вновь налились слезами. Она села, обняла собаку.
Альма, как бы сочувствуя ей, положила большую белую лапу на Лелино колено.
Леля встала, пошла обратно в горницу. Когда открыла дверь, услышала, как мама говорит бабушке:
– Понимаешь, почему нам нельзя...
Мама увидела Лелю, разом оборвала себя. Улыбнулась Леле:
– Завтра мы с тобой в Москву приедем и сразу же пойдем в парк культуры, будешь на «чертовом колесе» кататься.
– На «чертовом колесе»? – повторила Леля. – Ты же раньше никогда не хотела, чтобы я на нем каталась...
– Мы поедем вместе, – сказала мама.
– Честное слово? – спросила Леля.
– Хоть два, – ответила мама.
Бабушка накрыла на стол, поставила горшок с румяной гречневой кашей, кувшин молока.
– Ешь, Леля, – сказала. – В Москве такого молока не найдешь...
– И не надо, – сказала мама.
Бабушка нахмурила брови.
– А все-таки не дело вот так вот уезжать, по-быстрому, надо бы людей позвать, проводить как полагается...
– Дальние проводы – лишние слезы, ненужные разговоры, – мама выразительно глянула на бабушку, и бабушка не стала больше ни просить, ни уговаривать.
Все тот же румяный Слава посадил Лелю и маму в коляску своего мотоцикла, и они быстро домчались до станции Огородское. На прощание Слава крепко, словно взрослый, пожал Лелину руку.
– Ну, бывай! Приезжай на будущий год...
Вместо Лели ответила мама:
– Не будем загадывать. Поживем – увидим.
Помахала Славе рукой и вместе с Лелей вошла в вагон. Поезд тронулся, зажглись на перроне фонари, поплыли назад деревья, здание почты, клумба с ноготками перед почтой...
– Довольна, что домой едешь? – спросила мама.
Леля не знала, что ответить. И довольна, и не довольна, вот, пожалуй, самый верный ответ. Она так и сказала маме:
– И да, и нет...
– Почему? – спросила мама.
Леля пожала плечами.
– Аля, наверно, меня повсюду ищет, как думаешь?
– Ну и что с того? – спросила мама. – Пусть себе ищет.
– Она думала, я еще долго проживу в деревне...
– А разве ты не соскучилась по папе? – спросила мама.
Леля кивнула:
– Соскучилась...
– Папе скучно без нас, – продолжала мама. – Уходит на работу, приходит с работы, и все один да один. Надо его пожалеть.
– Я жалею, – сказала Леля.
Леле всегда казалось, что мама жалеет папу. Почему? Леля не могла ответить, просто ей так казалось, что мама сильно жалеет папу. Мама говорила о нем: «Наш папа очень много работает... Наш папа сильно устает...»
Если утром он спал, мама чуть слышно двигалась по комнате, чтобы не разбудить его.
В простенке между окнами стоял письменный стол. Папа за этим столом работал. Мама говорила:
– Папа работает, ему нельзя мешать...
Папа садился за стол, лицом к окну. Перед ним были разложены чистые листы бумаги. Иногда папа брал ручку, писал что-то на листке бумаги, отрывался и подолгу смотрел в окно, потом вставал, говорил маме:
– Не могу, ничего не получается...
– А ты старайся, – уговаривала его мама, совсем так, как уговаривала Лелю, чтобы не ленилась, аккуратно выводила буквы в тетради. – Постарайся, глядишь, и получится...
– Нет, ты ничего не понимаешь, – с досадой отвечал папа и уходил куда-нибудь, а мама подходила к столу, смотрела на немногие строчки, которые папа написал на листке бумаги, вздыхала, задумывалась...
Леля слышала, мама говорила однажды соседке Эрне Генриховне:
– Уверяю вас, Семен Петрович еще станет писателем и очень даже хорошим писателем...
– Что ж, – ответила Эрна Генриховна. – Все может быть...
Но по лицу Эрны Генриховны было видно, что она ни капельки не верит тому, что Семен Петрович может стать писателем, а вообще ей решительно все равно, станет он писателем или нет...
Иногда папа с мамой ссорились. Мама просила:
– Бога ради, не надо, перестань, нас же Леля слушает...
– Пусть слушает! – кричал папа.
Обычно он начинал первый, вдруг взрывался, кричал визгливым, немужским голосом:
– Ты, только ты одна тянешь меня назад! Если бы не ты, я бы давно уже стал настоящим писателем...
– Леля, иди, дочка, погуляй, – говорила мама, потом натянуто улыбалась папе.
– Ну-ну, – говорила, словно внушала что-то маленькому неразумному мальчику. – Я все понимаю, милый, только не волнуйся, не надо...
Но папа кричал все громче, и мама в конце концов замолкала, а если Леля все еще оставалась в комнате, быстро одевалась и уходила вместе с Лелей. Леля спрашивала:
– Почему папа кричит? Кто его обидел? Неужели ты, мама?
Став значительно старше, Леля сама себе признавалась, что с мамой ей повезло. Мало у кого из подруг была такая вот мама, волевая, с сильным характером, все понимающая, умеющая дать дельный, умный совет, не назойливая, не зануда...
Леля знала, что мама любит ее больше всех на свете, нет никого для мамы дороже Лели, но она старалась не потакать Леле и в то же время не давила ее своей властью, не вынуждала делать то, что почему-то было не по душе Леле.
Папа, напротив, разрешал Леле все, но не из-за любви, а потому, что так было удобнее и легче, не надо спорить, убеждать, настаивать. Папа был слабый, на него трудно было положиться, он казался переменчивым, неровным, словно был ненамного старше, чем Леля.
Леле никогда не приходило в голову, что мама у нее неродная.
Алины слова, сказанные некогда в деревне, давным-давно бесследно изгладились из Лелиной памяти; правда, с той поры они больше не ездили в деревню к бабушке, хотя Леля иной раз просила маму:
– Поедем в деревню...
Но мама каждый раз находила новые причины, чтобы не ехать в деревню, то она с Лелей отправлялась в Крым, к морю, то они все вместе, отец, мама и Леля, ехали на Кавказ, то Леля, став пионеркой, начала ездить в пионерский лагерь.
Леля считала, что она всю свою жизнь живет в Скатертном переулке. Мама и папа не разуверяли ее, к чему было ей знать, что когда-то она жила совсем на другой улице, а потом ее папа сменял свою комнату на эту самую, в Скатертном переулке, и новые соседи полагали, как оно и положено, что Леля – родная дочь Марии Артемьевны.
Правда, как-то Ирина Петровна удивленно сказала:
– Гляжу на Лелю и просто поражаюсь: она на вас, Мария Артемьевна, решительно не похожа!
– Она в отца, – спокойно ответила Мария Артемьевна. – Семен Петрович в молодости был очень даже ничего.
Иногда из деревни приезжала бабушка, передавала приветы от всех деревенских, от Славы, от Али, от ее матери Насти и еще от всех бесчисленных родичей, обитавших по соседству.
– Бабушка, – говорила Леля. – До чего хочется к тебе поехать!
Бабушка отвечала каждый раз одинаково:
– Как-нибудь, детка, непременно, как-нибудь... Должно быть, как бабушке, так и Лелиной маме были по сей день памятны Алины слова. Зато Леля забыла о них начисто, как не слыхала.
Детская память своенравна: что-то хранит долго, порой даже до старости, о чем-то вдруг позабудет и не вспомнит ни разу. И Леля была абсолютно искренна, когда сказала однажды какой-то подруге по телефону:
– Я тоже люблю маму больше, чем папу.
Эти слова слышала Эрна Генриховна и постаралась передать их по назначению.
– Вот что говорит ваша дочь, – сказала она Марии Артемьевне.
Мария Артемьевна залилась румянцем (Эрна Генриховна удивленно подумала: совсем как молоденькая), но постаралась ответить как можно спокойнее:
– Все девочки обычно любят мать больше, чем отца.
Умные светлые глаза Эрны Генриховны пристально глядели на нее, но Эрна Генриховна ничего не сказала. Может быть, она о чем-то догадывалась? Ну и что же? Она в достаточной мере тактична, не будет лезть в душу с ненужными расспросами, не станет намекать на что-либо. И как бы там ни было, а Леля любит маму так, как полагается любить родную мать. Вот это и есть самое главное...
Глава 6. Надежда
Про ее бабку Капитолину все говорили: «царь-девица».
И в самом деле, до того хороша была, глаз не оторвать!
Лицо в зареве нежного, чистого румянца, синеглазая, брови вразлет, коса до колен...
Кто бы мог поверить, что характер у нее не по-девичьи силен, а воля, что называется, железная.
Как-то вымыла голову, уселась перед печкой-голландкой, распустив волосы, чтобы поскорее высохли.
И надо же, не заметила, как выпал уголек, внезапно занялись ее волосы, оглянуться не успела – вся голова в пламени.
Другая бы растерялась, крик подняла, а она и секунды не медлила, рванула на себе юбку, мгновенно накинула на голову. Потом ринулась на кровать, голову в подушки.
После смеялась:
– Жаль, пуховые подушки попорчены...
– А косы не жаль? – спрашивали Капитолину, потому что великолепные волосы ее сгорели и она подстриглась коротко.
Отвечала беспечно:
– Еще вырастут.
Короткие кудряшки были тоже к лицу. А волосы точно такие же длинные, как были, она не отрастила, не успела.
Случился в ее жизни человек, много старше ее, полюбили они друг друга.
А родители Капитолины сговорили ее за другого, и была уже назначена свадьба.
Но дня за два до свадьбы ушла Капитолина в магазин, сказала матери, надо купить лент, пуговиц, сутажа, тесьмы и – не вернулась.
Искали Капитолину повсюду и мать с отцом, и жених – солидный молодой человек, приказчик из молочной Бландова, ее и след простыл.
Укатила со своим милым далеко от родного города, за Уральские горы, в Екатеринослав.
Он был доктор, работал в городской больнице, а еще, но это довелось ей узнать позднее, оказался профессиональным революционером, и в тюрьме сиживать приходилось, и в ссылке живал, и даже как-то укатил из ссылки в Женеву, а после снова вернулся на родину.
Жили они дружно, Капитолина говорила:
– Вот ведь как бывает, мы и думаем с тобой совершенно одинаково, что ты, что я...
Она научилась прятать нелегальную литературу, научилась хранить оружие так, что никто не мог отыскать.
Поглядеть на нее со стороны, никто не поверил бы, что эта молодая, прекрасная собой докторша (так называли ее в городе), изящно и скромно одетая, несет в ридикюле – кожаном, с длинным ремешком, с медной затейливой застежкой – пачку прокламаций, а случалось, и маленький дамский, элегантный с виду револьвер.
Сам полицейместер благосклонно поглядывал на нее.
– Хороша докторша, всем взяла – и лицом и осанкой!
– Да, – вторил ему директор банка, победительный мужчина, из породы отвратительных красавцев. – Повезло нашему эскулапу, этакому кащею невиданное сокровище досталось, он его по-настоящему и оценить не сумеет...
Крутил ухоженный, нафиксатуаренный ус, сощурив сладкие, походившие на чернослив глаза, провожал ее томным взглядом, а она медленно шла, нет, плыла по улице, шляпа украшена цветами, и глаза цветут на лице, словно васильки, на белой шее скромный золотой медальон, в руке ридикюль с медной застежкой.
Примерно года за три до революции мужа Капитолины выследили, схватили, бросили в тюрьму. Был суд, после суда его отправили в Сибирь.
Капитолина и недели не думала, взяла с собой маленькую дочку, Надеждину мать, и отправилась вслед за мужем.
Была зима, холод, снежные заносы. В Тобольске Капитолина свалилась. Так и не привелось ей доехать до мужа. Схоронили Капитолину в Тобольске, а девочку взял дед, отец матери, приехавший за внучкой...
Надежда вглядывалась в фотографию бабки, единственную уцелевшую в их семье: красивая большеглазая барышня в белой батистовой блузке с высоким воротом сдержанно улыбалась нежным девичьим ртом.
Волосы, видно, густые, зачесаны назад, на лбу пышная челка, на висках кудрявые завитки, в ушах сережки-ягодки.
Кто бы подумал, что это и есть та самая царь-девица, храбрая революционерка, бесстрашная воительница, о которой в их роду шли легенды!
Надежда считала, что у нее сильный характер – в бабку.
Жаль, правда, что лицом не удалась в нее, бабка была красавица, а она, Надежда, самая обыкновенная, ни красивая, ни уродливая.
И Артем когда-то говорил:
«Ты у меня рядовой товарищ, таких по двенадцати на каждую дюжину...»
И смеялся. А она не обижалась. Любила его без памяти.
Она старалась не вспоминать о нем, а он, как нарочно, виделся в каждом проходившем по улице мужчине.
У нее сердце падало: он, Артем, идет ей навстречу, в глазах возникал туман, становилось трудно дышать, мужчина приближался – не он.
Она вздыхала с облегчением, и в то же время сердце покалывало: «Как-то он там? Что с ним?»
Сама от себя скрывала, не желая признаться, что до сих пор любит его, не может не любить.
Сколько раз рука ее уже была готова написать ему письмо туда, в Салехард!
Сколько раз терзало ее неукротимое желание сесть на самолет, прилететь к нему, а там будь что будет!
Но сильная, неуступчивая кровь бабки Капитолины текла в ее жилах.
Надежда стискивала зубы так, что слезы выступали на глазах.
Ни за что, никогда не сделает она первого шага, не напишет, не поедет к нему, а если он объявится, не откликнется ни на одно его слово...
Так и вышло. Он не раз приезжал в Москву, звонил ей, просил встретиться, хотя бы раз, хотя бы ненадолго, она наотрез отказалась, раз и навсегда.
– Нам ни к чему с тобой видеться...
Однажды весной в квартире целый день раздавались телефонные звонки, кто-то все время молчал в трубку.
Леля уверяла:
– Это меня, наверняка меня...
– Кто же этот осел? – интересовался Сева.
– Там, один, ты не знаешь...
И бежала на каждый звонок, красивым голосом произносила «алло» на иностранный манер, спрашивала интимным полушепотом:
– Кто это? Ну, скажите! Ну, я прошу вас...
Севина мать Ирина Петровна не сомневалась, эти звонки предназначены ей, была у нее одна клиентка, прекапризная особа, до смерти избалованная мужем, Ирина Петровна как-то побыла у нее с неделю, потом решительно отказалась.
– У нас не старое время, чтобы исполнять капризы скучающих дамочек...
И теперь Ирина Петровна считала, что дамочка, разозлившись на нее, решила отомстить, звонит и молчит в трубку. Она подходила к телефону, говорила «слушаю» и начинала в ответ на молчание:
– И не совестно? Вот уж поистине стыд не дым, глаза не ест.
В трубке всё молчали, а Ирина Петровна постепенно разгоралась.
– Все одно, молчите или не молчите, а ничего у вас не выйдет, – самодовольно изрекала она. – Я же знаю, кто это, так вот, знайте, я ничьей рабой не была и не буду...
В конце концов подбегал Сева, если он был дома, и вырывал у нее из рук трубку, разговор мог продолжаться до бесконечности, Ирина Петровна была неутомима в перечислении нанесенных ей обид и собственных заслуг...
Только лишь одна Надежда справедливо решила:
– Это Артем...
Он молчал по нескольку раз в день, причем стоило ей, Надежде, подойти к телефону, сказать, по своему обыкновению, протяжно: «Да, я слушаю...» – звонки мигом прекращались. Словно невидимый абонент только того и ждал, чтобы услышать ее голос.
Как-то он подстерег ее возле института, она возвращалась с лекции, и он встретился ей на улице. Все такой же оживленный, подвижной, загорелый, правда, темные волосы его немного поседели, вокруг глаз появились мелкие морщинки.
Протянул ей руку:
– Привет, родная...
– Привет, – сказала Надежда.
Старательно отводила глаза в сторону, чтобы не встретиться с ним взглядом. Вдруг (в который раз!) осознала, до чего ей тяжко без него и как отрадна для нее эта встреча, которой она в одно и то же время и боится и желает...
Он шел рядом, не касаясь ее.
– Как живешь? – спросил.
– Нормально, – ответила она.
Он скользнул взглядом по ее лицу.
– Ты похудела и...
– И подурнела? – продолжала она. – Валяй, не стесняйся. Или хотел сказать, что к тому же и постарела?
Он кивнул.
– Есть немного. Как-то возмужала, что ли...
Она усмехнулась:
– Возмужала – слово не самое подходящее для женщин...
– Только не обижайся, ладно?
Она не обиделась. Его слова лишь чуть-чуть царапнули ее, словно он говорил о ком-то другом, постороннем.
Позднее она поняла свое ощущение: что бы он ни сказал, даже если бы и выругал ее самыми страшными словами, это ничего бы не изменило. Она продолжала бы любить его, но все равно, как решила, так тому и быть, хвали он ее или кори, любуйся или отворачивайся, она к нему не вернется. И не быть им уже никогда вместе...
– Ты домой? – спросил он.
– Нет, в библиотеку.
– А когда дома будешь?
– Должно быть, совсем не буду.
– Что так?
– Поеду к маме, там заночую.
– Понятно.
Надо было переходить на другую сторону; когда они стояли на середине мостовой, внезапно переключили зеленый свет на красный. Мимо в разные стороны рванулись машины. Артем небольно сжал ее руку:
– Стой смирно.
– А я никуда не пытаюсь бежать.
Он хотел что-то сказать ей, но тут снова дали зеленый свет, Надежда заторопилась на другую сторону, Артем крупно шагал рядом.
Около библиотеки они расстались.
– Ты надолго? – спросила она.
– Еще не знаю.
Она поняла, что он хотел сказать, но не смотрела на него, спешила попрощаться:
– Мне ужасно некогда, каждая минута на учете...
– Знакомая песня, – улыбнулся он, – тебе постоянно было некогда...
Ей хотелось узнать, женился ли он или живет один, но не спросила и после была очень довольна собой, что не спросила. «Молодец!» – похвалила она себя, сидя уже в библиотеке за знакомым столом, и мысленно поставила себе «пять».
Впрочем, как бы там ни было, а все же ужасно хотелось узнать, женился он или нет...
Он снова позвонил ей чуть ли не через год, уже не молчал, не дышал в трубку, а вызвал ее к телефону, сказал:
– Это я, как ты? – И тут же сам поспешил ответить: – Я знаю, скажешь, нормально.
Надежда невольно усмехнулась. Если бы он знал! Как раз в это самое время на нее в институте навалились бесконечные замены, а тут еще ее выбрали председателем месткома, и Надежда уже забыла, когда в последний раз проспала больше четырех часов в сутки.
Но она не сказала ему ни о своих перегрузках, ни о постоянной усталости. К чему говорить?
Он сказал:
– Я проездом, еду в Альметьевск.
– Счастливого пути, – ответила она и, не дожидаясь его ответа, первая положила трубку.
– Все-таки хорошо, что ты не живешь в отдельной квартире, – сказала как-то Надеждина мать, придя к ней. – Можешь себе представить, что бы было? Я же не могу к тебе часто приходить, а ты в таком состоянии, совсем одна...
– Ничего, переживу, – бодро ответила Надежда.
Она знала, мать недовольна ее разрывом с Артемом.
Вот уж кто никак не походил на бабку Капитолину! Хрупкая, слабенькая, балованная, она, словно лиана, обвилась вокруг Надеждиного отчима, своего второго мужа, многознающего, считающего себя незыблемым авторитетом в области строительства химической промышленности.
Отца своего Надежда не помнила: развелся с матерью, когда Надежде было что-то около двух лет, и уехал, а куда, никто не знал, и он все эти годы не давал о себе знать. С отчимом у Надежды были одинаковые вежливо-холодные и безукоризненно корректные с обеих сторон отношения.
Впрочем, Надежда была довольна, что мать пристроена и вроде бы счастлива.
Мать выглядела на диво моложавой: кукольно-голубые глаза ее постоянно щурились, умело намазанные розовой помадой губы были пухлые, свежие, она была всегда хорошо причесана, к лицу одета. Никто бы не поверил, что у нее взрослая дочь, да и еще такая рослая, решительно не походившая на свою хрупкую хорошенькую мать...
Случалось, мать пыталась наставлять Надежду уму-разуму:
– Женщина должна уметь прощать, пойми, кто без греха? Назови мне хотя бы одного человека... – Поднимала кверху тоненькие русые брови. – Думаешь, мой Лев Витальевич святой?
– Ничего я не думаю, – отвечала Надежда.
– Но я всегда делаю лишь то, что мне необходимо, – продолжала мать.
– Выгодно, – поправляла ее Надежда.
– Пусть выгодно, – соглашалась мать. Крохотными белыми ладонями прикрывала глаза. – Чего не надо, того не вижу...
– Понимаю, – говорила Надежда.
– И дома у нас тишь и благодать...
– И мир во всех отношениях, да? – спрашивала, улыбаясь, Надежда.
Но мать не обращала никакого внимания на то, что дочь улыбается. Ей смешно? Пусть будет так. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. И она повторяла серьезно:
– Да, мир во всех отношениях.
Если со стороны послушать их разговор, можно было подумать, что мать – младше, легкомысленней.
Надежда так и относилась к матери, словно к младшей сестренке, ласково-снисходительно, никогда ни о чем важном, значительном не говорила, не советовалась и страшилась ненароком хотя бы какой-то мелочью огорчить ее.
И мать спрашивала, как дела у дочери, всегда довольствовалась словами Надежды, что все в порядке, и не пыталась допытываться, так ли все в порядке...
В сущности, обеих устраивало такое положение дел: мать берегла свои нервы от различного рода стрессов, Надежда не желала перекладывать на мать свои заботы и тревоги. Однако, узнав, что Надежда разошлась с мужем, мать огорчилась не на шутку. Она не могла уделять своей взрослой дочери много внимания, ей достаточно было сознавать, что дочь устроена, что у нее все хорошо, потому любой непорядок с Надеждой выводил ее из равновесия.
Надежда, может быть, впервые в жизни пожалела, что у нее такая вот мать, которая не понимает и никогда не захочет понять ее. Она была довольна, что занята, много работает, тогда оставалось меньше времени вспоминать об Артеме. Иногда ей и в самом деле удавалось в течение целого дня ни разу не вспомнить о нем.
Но все-таки лицо его часто представало перед нею в мелькании отдельных черт – то возникали его карие, с голубыми белками глаза, на веке правого глаза едва заметная родинка, то губы, чуть припухлые, очерченные неясно и в то же время женственно-нежные, круглый подбородок, темные волосы и первые седые пряди в них...
Надежда злилась на себя за то, что разрешала себе все время оглядываться назад, в прошлое, а прошлого, она это знала лучше других, даже если бы и пожелала, все равно не решилась бы вернуть.
Но помимо воли Надежды мысли ее упрямо поворачивали назад, в ту недоступную уже пору, когда они с Артемом были вместе и казалось, ничто на свете не в силах разлучить их.
Ей представлялся шумный, заполненный голосами людей зал аэродрома, где она просидела однажды целых три дня, ожидая самолет, чтобы лететь к нему, да так и не дождалась.
И тесное купе в ленинградском поезде «Стрела», в котором они ехали вместе в Ленинград на октябрьские праздники.
Он спрашивал ее:
– Ты бы хотела спрыгнуть с поезда и отправиться куда глаза глядят, вон в тот лес хотя бы...
– С тобой хотела бы, – отвечала она.
Он откровенно и не без самодовольства смеялся.
– Это ясно. А не испугалась бы?
– Чего пугаться?
– Как чего? Ночи, темноты, неизвестности...
– Нет, нисколько.
– И тебе не казалось бы, что за каждым деревом кто-то стережет тебя, кто-то вдруг как бросится на тебя...
Он вытягивал свои припухшие губы.
– Скажи по правде, не казалось бы?
– Да нет, Артемушка, не казалось бы, честное слово!
– Это ты потому так говоришь, что едешь под надежной зашитой Министерства путей сообщения, в вагоне, прекрасно знаешь, что нигде тебе не надобно сходить и идти неведомо куда...








