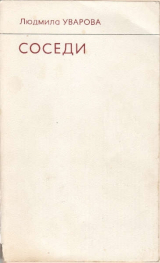
Текст книги "Соседи"
Автор книги: Людмила Уварова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
– Только что не говорит, – сказала Маша.
Семен нагнулся к Плюшке:
– Что, малыш? Домой хочется?
В ответ Плюшка звонко залаяла. Маша испуганно замахала руками.
– Тише, Плюшка! Лелю разбудишь!
– В другой раз, – сказал Семен, – обещаю тебе, Плюшка, в следующий раз я непременно возьму тебя домой...
Уныло опустив хвост, Плюшка снова легла на свою подстилку.
– Вы ее, пожалуйста, не спускайте с поводка, – попросил Семен, – а то она может убежать, мы ее тогда не найдем, и Лена мне ни за что не простит...
– Не волнуйся, – сказала Маша, – мы за твоей Плюшкой в четыре глаза глядим...
Семен еще раз подошел к кроватке, глянул на Лелю, тихо коснулся ее легких волос.
– Спи, девочка, набирайся сил, спи...
Хотя было еще не очень поздно, улицы казались пустынными. Блестел снег в свете фонарей, высокие сугробы высились по обеим сторонам тротуаров. Семен шел очень быстро, подставив лицо холодному, режущему ветру. Но он не чувствовал холода, почему-то сейчас казалось, все будет хорошо, Лена поправится и они снова заживут все втроем, нет, вчетвером, вместе с Плюшкой...
Но пришел домой, увидел пустую комнату, в которой каждая вещь напоминала о Лене. На стуле висел ее халатик, со стены смотрел ее портрет в купальном костюме, смеющаяся, подняв кверху ладонь, она как бы приветствовала или прощалась с кем-то...
Какой же она казалась веселой, счастливой, беззаботной!
Он прижал к лицу ее халат, сердце его снова ужалил страх.
И стало совестно, неловко перед самим собой за то, что совсем недавно он беседовал, даже улыбался, сидел за столом в теплом, уютном доме, в то время как Лена в больнице.
Ночью он часто просыпался и, встав рано утром, решил еще до работы отправиться в Боткинскую, может быть, удастся еще раз поговорить с врачом или увидеть Лену, вдруг за ночь ей стало уже лучше...
Он вышел из своей комнаты, в коридоре столкнулся с Верой Тимофеевной. Старуха была в пальто, на ногах резиновые ботики.
– Вы только пришли или уходите? – спросил Семен.
– Я за вами, Семен, – сказала Вера Тимофеевна, – поедем...
– Куда? – спросил Семен, холодея. Вдруг разом, в один миг понял все.
Лена умерла, не приходя в сознание. И когда Семен в тот же вечер пришел к Маше, к нему бросилась Плюшка, глянула на него и внезапно жалобно взвизгнула, бросилась под кровать. И никакими силами невозможно было извлечь ее оттуда.
Оне не ела, не шла гулять, не отзывалась ни на какой голос, ни на какие просьбы.
Спустя два дня Маша извлекла окоченелый труп Плюшки из-под кровати.
Глава 4. Эрна Генриховна
Несмотря на известное количество немецкой крови, была она решительно лишена какой бы то ни было сентиментальности. Никогда не плакала, не умилялась, терпеть не могла сюсюканья. Правда, любила заботиться о ком-либо более слабом, нуждавшемся в уходе. Особенно хорошо умела ухаживать за больными. Говорила:
– Это у меня наследственность, у нас в роду была сестра милосердия, моя троюродная тетка, по слухам, погибла в прошлом веке, во время осады Севастополя.
С гордостью подчеркивала:
– Кто знает, может быть, ей довелось знать самого Льва Николаевича?
– Какого Льва Николаевича? – спросит иной недотепа.
Эрна снисходительно поясняла:
– Какого? Ну, разумеется, Толстого. Так вот, говорят, я в эту самую свою дальнюю родственницу, люблю и умею ходить за больными. Впрочем, мать тоже была отличной медсестрой, работала в Екатерининской больнице...
В сорок втором году Эрна пошла добровольцем на фронт. Случилось так, что она с первого до последнего дня проработала в одном и том же медсанбате.
Там был главврачом профессор Кучеренко, брюзга и великий ругатель, которого боготворили все – и раненые, и врачи с сестрами.
Изо всех сестер Кучеренко выделял Эрну. Никогда не запоминая ни одного имени-отчества, ни одной фамилии, он, однако, хранил в своей памяти особенности всех своих подчиненных. Об Эрне говорил:
– Вон та длинная дело знает...
Эрна расцветала от удовольствия. Сам главный ее отметил, а его слово дорогого стоит!
После окончания войны Эрна вернулась домой, в свой Скатертный переулок, в свою коммуналку, о которой, случалось, вспоминала на фронте как о самом прекрасном месте на земле. Казалось, нигде в целом мире нет таких дружных, тесно спаянных соседей, которые привыкли делиться друг с другом и радостью и печалью, нигде нет такой удобной и хорошей квартиры, комнат с высоченными потолками, с превосходным старинным паркетом.
Прошло какое-то время, и Эрна устроилась дежурной сестрой в Боткинскую больницу. Завотделением советовал ей:
– Иди в медицинский, учись дальше, на врача, я уверен, ты будешь отличным врачом, ты и теперь умеешь лечить получше любого новоиспеченного лекаря.
Эрна послушалась его. То же самое говорил ей некогда Кучеренко. Сердито морща лоб, жуя губами, бросал отрывистые слова:
– Тебе бы учиться, тогда толк будет...
Было очень трудно, работала и училась, на работе урывками готовилась к семинарам, зачетам, экзаменам, читала учебники, а в это самое время из различных палат раздавались требовательные звонки: «Сестра, утку», «Сестра, лекарство», «Сестра, укол», «Сестра, откройте окно... посидите возле меня... побудьте еще немного... поговорите со мной...».
К утру после ночного дежурства голова ее гудела, как котел. И никуда не хотелось идти, ни в какой институт, одна мысль, одно желание владело ею: спать, выспаться как следует...
Однажды она даже призналась Таше, своей старой подруге:
– На фронте, честное слово, было легче...
Таша удивилась, как же быстро она позабыла обо всем. Ведь сама же рассказывала: случалось, в день бывало по двадцать операций, она ассистировала хирургу, все тому же Кучеренко, а за окнами медсанбата рвались снаряды. Однажды над ними пролетел вражеский бомбардировщик, сбросил бомбу, хорошо, не самую большую, однако зазвенели разбитые стекла, ворвался ветер, мгновенно погасла керосиновая лампа. Кучеренко резко двинул в сторону Эрны колючую седую бровь:
– Свечу зажги, а ну, быстро!..
Да, всякое случалось на фронте, и все-таки Эрне временами казалось: здесь, на гражданке, еще труднее...
Эрна окончила институт, стала врачом-хирургом, осталась работать все в той же Боткинской больнице; к тому времени она раздалась в плечах и в бедрах (у нее была широкая кость), в густых ее волосах появилась первая седина.
Таша советовала ей красить волосы, но Эрна сказала:
– Еще чего! Кого это я обману, тебя, или себя, или еще кого-нибудь?
– Но ведь все красят, – возразила Таша. – В известном возрасте приходится красить.
– А я не буду, – отрезала Эрна. Однако она никому, даже Таше, не призналась бы, что боится старости.
О, как же она страшилась своего будущего! Как не хотела стареть! По утрам, собираясь на работу, подходила к окну, брала ручное зеркало, долго, придирчиво разглядывала свое большое цветущее лицо с твердой косточкой зрачка, чуть желтеющую на висках и возле губ кожу; полуоткрыв крупный, четко очерченный рот, она улыбалась, блестели сплошные белые зубы. Зубы были, как она выражалась, единственное светлое пятно в темном царстве ее наружности, за зубы она была спокойна, они были безукоризненны, все остальное являлось, по правде говоря, спорным.
– Ты, моя милая, не на всякий вкус, – говорила Ирина Петровна. – Надо тебя очень и очень знать, чтобы ты понравилась.
– И на том спасибо, – отвечала Эрна, ни капельки не обидевшись на Ирину Петровну.
Когда ей исполнилось сорок восемь лет, на нее внезапно обрушилась любовь, самая настоящая, самая что ни на есть непритворная.
Разумеется, ей случалось и раньше влюбляться, но это все было так, несерьезно и неглубоко.
Впрочем, она была не одинока, многие врачи и сестры в больнице, молодые и даже пожилые, переживали любовные страсти, ждали телефонных звонков.
Одна сестра, моложе Эрны и тоже не очень красивая, даже клялась покончить с собой, если он не женится.
Говорила о нем:
– Он – вся моя жизнь. Без него я все равно жить не буду.
Как-то Эрне довелось видеть его. Низкорослый, прыщеватый, нос картошкой. Есть кого любить, по ком с ума сходить...
К слову, он женился на той самой сестре. И жили они, словно кошка с собакой, не было дня, чтобы не дрались.
И Эрне вспомнились слова Кучеренко, сказанные уже и не вспомнить по какому поводу:
– Бог тогда наказывает человека, когда исполняет его желания...
«А у меня нет никаких желаний, – думала Эрна, не то радуясь этому, не то удивляясь. – Нет как нет».
Однажды в конце июля она записалась на поезд здоровья. И поехала вместе с другими врачами и сестрами их больницы за грибами под Можайск с ночевкой.
Ей понравился этот поход прежде всего потому, что все было в новинку – туманный рассвет, тихая росистая трава, по которой идешь ранним утром, молчаливые деревья вокруг и под ними желанные коричневые, розовые, серые шляпки грибов.
Она зашла далеко, в самую глубь леса, огляделась, никого поблизости, крикнула:
– Эй, кто здесь есть еще?
Молчание было ей ответом.
Она не испугалась, пошла дальше, где-то вдалеке раздавался шум проезжавших машин, она знала, там шоссе, и побрела в ту сторону. В корзине ее было штук десять сыроежек, один трухлявый белый и два подберезовика.
И тут вышел из-за деревьев он. Казалось, все время стоял тут же, только и ждал, когда она подойдет поближе.
Глянул в ее корзинку, спросил:
– Это все?
– Да, – ответила она.
– И наверное, ходите с самого утра?
– Конечно.
– Не густо, – сказал он; нагнувшись, поднял земли свою корзину, показал ей. – Что скажете?
Корзина была полна доверху, грибы – сплошь белые и еще подберезовики и подосиновики, сыроежки – ни единой.
– Вот это да! – воскликнула Эрна.
– То-то, – сказал он. Сорвал несколько широких, разлапистых листьев папоротника, прикрыл ими свои грибы. – Чтобы никто не завидовал.
– А вы боитесь зависти? – спросила она.
– Нет, не боюсь, напротив, жалею завистников.
– Почему вы их жалеете?
– А им тяжко живется, ведь всегда найдется тот, кому в чем-то повезло больше: грибов ли больше собрал, или потолок в квартире выше, или волосы гуще...
Тут она впервые заметила, что он лысый. У него была круглая, словно шар, красивой, законченной формы, совершенно лишенная волос голова.
На смуглом худощавом лице очки. Глаза добрые, внимательные, и весь он, довольно высокий, с узкими плечами и длинной шеей, производит впечатление очень здорового, уравновешенного, доброго человека. Уже не молод, хорошо за пятьдесят.
– Кажется, я заблудилась, – сказала она.
Он улыбнулся. От улыбки лицо его похорошело. Даже стало как будто бы немного моложе.
– Здесь трудно заблудиться...
– Так я же заблудилась!
– Вам это только кажется.
– Вы здесь живете? – спросила она.
– Отнюдь, приехал из Москвы, как и вы.
– Откуда вы знаете, что я из Москвы?
– Если бы я был Шерлок Холмс, а вы, к примеру, Ватсон, я бы вам объяснил, что прежде всего знаю, по выходным сюда приезжают грибники из Москвы, во-вторых, у вас за ремешком часов билет.
Она глянула на свою руку: в самом деле, за ремешком заткнут обратный билет до Москвы. Улыбнулась, сказала:
– Все ясно.
– Так говорил обычно этот классический тупица и бестолочь доктор Ватсон, когда Холмс объяснял ему все, что следует.
– Ну, не такая уж я бестолочь, – сказала Эрна, ничуть, впрочем, не обидевшись.
– Заранее скажу, совсем вы не бестолочь, – согласился он.
Подошел ближе.
– Давайте познакомимся, хотите?
– Давайте.
– Я – Илья Александрович. Фамилия у меня громкая.
– Какая же?
– Громов.
– Громов? Скорее громовая.
– Может быть, и так, – сказал он. – Меня, кстати, большей частью все зовут по фамилии. Так как-то получилось. Возможно, потому, что короче, пока произнесешь «Илья Александрович», наверняка полсигареты выкуришь, а «Громов» – коротко, лаконично, даже выразительно. Вы не находите?
– Пожалуй, – сказала Эрна.
– Так что называйте меня, пожалуйста, по фамилии. Идет?
– Идет.
– Кстати, – начал он снова, – а вас-то как кличут?
– Эрна Генриховна.
– Солидно, – сказал он.
– Обыкновенно, – сказала Эрна, она не любила, когда к ее имени-отчеству относились, как ей думалось, несколько предвзято.
– Пошли в ту сторону, – сказал он,
– К шоссе?
– Да.
Не торопясь, дошли до шоссе.
– Вот я и вывел вас на дорогу, – промолвил Громов.
– А где же в таком случае вокзал?
– Километров за пять отсюда, только зачем он вам?
– Просто на всякий случай. Мы же с вокзала поедем домой.
– А сперва соберетесь все вместе, будете сидеть вокруг костра и петь песни?
Он сморщил лоб, вдохнул воздух и запел тоненько, жалобно:
Что стоишь, качаясь, тонкая рябина...
– У вас не получается, – сказала Эрна. – Видно, что кому-то подражаете, но выходит как-то ненатурально.
– Может быть, и вправду неестественно, но я до того не люблю эти организованные вылазки на природу!
– А вот мне это все в новинку!
– Вы раньше никогда не ходили в лес за грибами?
– Нет, представьте, как-то ни разу не приходилось.
– Счастливая! – воскликнул он.
Она удивилась:
– Чем же я счастливая?
– Потому что вам все это предстоит узнать в первый раз – ходить в лес, искать грибы...
– Уже искала, – она кивнула на свою корзинку. – Теперь бы еще своих найти.
– Я говорю не о сегодняшнем дне. Потом ночевать в лесу, в палатке, просыпаться на рассвете, и дрожать от холода, и умываться, когда утренний ветер с силой хлещет в лицо, и потом снова ходить по никогда не виданным дорогам...
– Вы говорите, как стихи пишете, – заметила она. – Того гляди в рифму начнете.
Он, как бы опомнившись, улыбнулся, сложил вместе ладони, словно прощения просил.
– Вот что, я назначаю вам свидание. Давайте здесь, на шоссе, ровно в пять, хотите?
Его глаза за стеклами очков смотрели на нее c дружелюбным интересом. Казалось, он давно и хорошо знает ее.
И Эрна ответила с готовностью, слегка удивившей ее самое:
– Хочу.
Она дошла до своих, потом собирала сучья для костра и пекла вместе со всеми картошку и слушала байки, которые неминуемо травят, усевшись вокруг костра, испытанные рассказчики, и слушала песни. Один раз, не сдержавшись, засмеялась тихонько, когда завхирургией, солидная женщина Магда Валерьевна, запела жалобно:
Что стоишь, качаясь, тонкая рябина...
Слово «тонкая» Магда Валерьевна произнесла на французский манер, слегка в нос.
Эрна то и дело поглядывала на часы. А потом незаметно встала, впрочем, никто не удержал ее, да и вряд ли кто заметил ее уход.
Ровно в пять она стояла на шоссе, на том самом месте, где они расстались.
На шоссе никого не было видно, лишь на обочине, в стороне стояла темно-зеленая машина «Жигули», и ни одного человека поблизости.
«Вот дура-то! – с досадой обругала себя Эрна. – Надо было спешить, бежать что есть сил, словно девчонка, на шоссе, тоже мне, разбежалась, а никто не встречает и не встретит!»
Подумала о том, как уютно и защищенно сидеть сейчас у костра, слушать всевозможные рассказы, даже петь всем известные песни тоже, в конце концов, не так уж плохо...
– Чего же вы стали? – донесся до нее голос, ставший уже знакомым. Илья Александрович вышел из зеленой машины. – Давайте-ка сюда...
Она подошла к машине.
– Поедем?
– Куда?
– В Москву. Нечего вам в поезде томиться, я вас быстро домчу.
Она послушно села рядом с ним. На заднем сиденье стояла его корзинка, старательно прикрытая сверху широкими листьями.
– А я свою корзину позабыла, – вспомнила Эрна. – Осталась где-то там, возле костра...
– Ничего, – сказал он, захлопнув дверцу машины. – У вас было столько грибов, сколько примерно у меня волос на голове.
Засмеялся, и она засмеялась тоже.
Глава 5. Леля
Леля училась в первом классе, когда мама взяла ее с собой в деревню.
– Поедем-ка к бабушке, – сказала мама. – Поглядим, как она живет, что такое настоящая русская деревня.
Обычно летом Леля ездила на дачу вместе с детским садом.
Дачу детский сад снимал по Савеловской дороге, в зеленом поселке, который назывался Прозрачный Ручей. Сперва Леле нравилось уезжать на эту дачу, было весело всем вместе бегать по лугу, заросшему густой, высокой травой и разноцветным клевером, играть в прятки и в салки.
А потом она начинала скучать по маме. Папы Леле тоже недоставало, но по маме она тосковала сильнее, особенно в последний месяц. Считала дни, когда уедет домой, капризничала, ссорилась с другими девочками.
Когда мама приезжала навестить ее, плакала, просила:
– Забери меня, хочу домой...
Мама пыталась уговорить Лелю, но Леля твердо стояла на своем, и в конце концов мама сдавалась, забирала Лелю в Москву.
Леля ликовала, а мама сокрушалась, особенно, если выпадал жаркий и пыльный август:
– Девочка будет мучиться от жары...
Но Леля была очень довольна прежде всего тем, что сумела добиться того, чего хотела.
Когда Леле исполнилось семь лет, папа с мамой вдвоем привели Лелю в первый класс. Леля шагала посередине между ними, в руках большой букет гладиолусов, косы по плечам, на коричневом форменном платье белый передник.
Мама растроганно шептала папе:
– Лучше нашей нет никого...
– Разве? – насмешливо возражал папа. – Уж так уж нет никого? Кто-нибудь, может быть, и найдется...
Он был ироничней мамы, к тому же стеснялся открыто восхищаться дочкой. В конце концов, пусть женщины откровенно демонстрируют свои чувства, мужчинам это вовсе не к лицу.
Но когда Леля приблизилась к школьным дверям, где ее встретил плечистый десятиклассник и по установившейся в школе традиции взял Лелю за руку, повел за собой, у Лелиного папы глаза вдруг налились слезами, и он отвернулся от мамы, чтобы она ничего не заметила, а мама, само собой, все заметила, но решила не подавать вида, чтобы не смущать папу.
В мае Леля окончила первый класс.
Папа спросил:
– Устала учиться?
– Вот уж ни капельки, – ответила Леля.
– Отдохнешь в деревне, – сказал папа, а мама добавила:
– У нас в деревне.
Леле деревня почему-то представлялась большим лесом с огромными деревьями, под деревьями растут вперемежку ягоды и грибы; бабушка, приезжая к ним в Москву, всегда привозила банки варенья, маринованных грибов, соленых огурчиков, говорила:
– Что ягод, что грибов, всего в нашем лесу полным-полно...
Мама не походила на бабушку, бабушка была выше ростом, чем мама, глаза у нее были яркие, не то, что мамины, совсем небольшие, и волосы у мамы были коричневые, коротко стриженные, а у бабушки белые, длинные. Утром, когда она начинала расчесывать их пластмассовой расческой, волосы ее, словно полотенце, окутывали плечи, Леля окунала лицо в прохладные густые пряди, говорила:
– Бабушка, ты у нас красивая...
– Тоже мне нашла красавицу! – смеялась бабушка.
Каждый раз, уезжая домой, бабушка приглашала Лелю:
– Приезжай погостить к нам в деревню...
Но мама все никак не могла поехать вместе с Лелей, а одну ее отпустить не решалась. И только лишь тогда, когда Леля стала школьницей, мама согласилась наконец отправиться вместе с нею к бабушке в деревню...
Сперва они ехали поездом. Леля стояла у окна вагона, смотрела, как мелькают мимо поля, перелески, леса, поминутно спрашивала маму:
– Скоро деревня?
– Скоро, – отвечала мама. – Еще немножко проедем и доберемся...
Но «скоро» все не наступало, и Леле уже наскучило спрашивать маму, когда доберемся, а мама по-прежнему терпеливо поясняла:
– Еще немножко... Вот теперь самую капельку осталось...
Наконец и в самом деле добрались до станции Огородское.
Поезд постоял минуту и помчался дальше, а Леля с мамой вышли из вагона.
Был прекрасный летний день, светило солнце, цвели яблони за свежепокрашенным забором, окружавшим зеленый одноэтажный домик, на котором крупными буквами было написано: «Почта. Телеграф. Телефон».
– Мама, – спросила Леля. – Здесь живет бабушка? В этом самом домике?
– Нет, нам до бабушки еще километров двадцать, – сказала мама. Приложила ладонь к глазам козырьком и вдруг стала махать рукой. И тогда к ним приблизился коренастый парень, на голове твердый оранжевого цвета шлем, какой обычно носят гонщики, в руках большие кожаные перчатки с крагами.
– А я уже заждался вас, тетя Маша, – сказал он.
– Да ты что, Слава, – удивилась мама. – Поезд же пришел минута в минуту...
Обняла Славу за шею, поцеловала в щеки, сперва в одну, потом в другую.
Он нагнулся, поднял с земли чемодан и рюкзак.
– Гостинцы тете Луше везете? – спросил.
– А как же, – ответила мама.
Леля тихо спросила маму:
– Что такое гостинцы? Это маленькие гости?
– Это подарки, – так же тихо ответила мама.
Леля знала, и в чемодане, и в рюкзаке полно подарков. И не только для бабушки, но и для всех родичей, их у мамы видимо-невидимо, какие-то неведомые Леле двоюродные тетки, внучатые племянницы, третьеюродные братья, одним словом, как говорил папа, десятая вода на киселе. И оказывается, все эти подарки называются гостинцами, интересное слово. Надо бы его запомнить...
В тени под старым дуплистым деревом – Леля подумала, что там, в дупле, наверно, живет белка или какая-нибудь большая лесная птица вроде филина – стоял мотоцикл с широкой коляской.
– Прошу, – сказал Слава, привязал чемодан и рюкзак к багажнику, а сам уселся на седло, мама с Лелей сели в коляску.
Леля спросила:
– Откуда ты этого Славу знаешь?
– Как же не знать, – сказала мама. – Он же наш, деревенский, его бабушка с твоей бабушкой вместе на ферме работают...
Мотоцикл мчался все вперед и вперед, встречные поля и леса сменяли друг друга. Ветер гудел в ушах, время от времени мотоцикл подпрыгивал, попадая на ухабы, и каждый раз Леля смеялась: очень смешно было глядеть на Славу, казалось, его что-то подбрасывает вверх и обратно, в седло.
Потом мотоцикл круто развернулся и разом стал на месте, как бы замер.
– Приехали, – сказала мама, вылезая из коляски.
За ней вылезла Леля, оглядываясь кругом. Неширокая улица, поросшая травкой, по обе стороны деревья; в ряд, один возле другого стоят дома, окруженные заборами. В пыли прямо на дороге роются куры, одна стала напротив Лели, уставилась на нее и вдруг раскудахталась что есть сил. Леля засмеялась:
– Что за смешная курица! Погляди, мама!
Но курица мгновенно, как бы услышав и поняв Лелины слова, повернулась, побежала прочь.
– Вот это и есть Олсуфьево, деревня, в которой живет бабушка, – сказала мама.
Из дома наискосок навстречу к ним бежала бабушка. Позади бабушки переваливалась с боку на бок толстая белая собака, махала пушистым, загнутым в колечко хвостом.
Леля кинулась бабушке навстречу.
– Наконец-то, – воскликнула бабушка. – А я все глаза проглядела, когда, думаю, дорогие наши гости прибудут?
Крепко обняла Лелю.
– Какая же ты большая стала, не узнать...
Мотоциклист Слава донес чемодан и рюкзак до бабушкиного дома, поставил на крыльцо.
– Ну, я пошел, – сказал.
– Приходи ужо, – сказала бабушка, а мама повторила:
– Приходи непременно...
– Я, бабушка, с зимы на целый сантиметр выросла, – сказала Леля. – Мама отмечает на дверях красным карандашом, вот приедешь к нам – увидишь, как я выросла...
Белая собака терпеливо стояла, глядя на Лелю выпуклыми темными, похожими на сливы глазами.
– Какая замечательная собака, – сказала Леля. – Как ее зовут?
– Альма, – ответила бабушка. – Мы с ней вроде бы две подруги, живем вместе...
Леля знала, что бабушка живет одна, что, кроме мамы и ее, Лели, у бабушки никого нет. Значит, ей с Альмой веселее.
Она нагнулась, погладила Альму по голове, и Альма стала быстро-быстро махать хвостом, как бы приветствуя Лелю.
Весь день до самого вечера не закрывалась дверь в бабушкином доме. Приходили бабушкины соседи поглядеть на Лелю и на ее маму, ведь мама давно уже уехала из деревни и за эти годы ни разу не приезжала сюда.
Каждый, входя в горницу, первым делом кланялся бабушке:
– С радостью тебя, Лукинична...
А бабушка в ответ приглашала:
– Прошу, заходите, садитесь за стол...
На столе, у Лели разбегались глаза, чего-чего только не было: кипел самовар, огромный, бокастый, золотого цвета, Леле еще ни разу не приходилось видеть такой большой самовар, в тарелках лежали розовые толстенькие кубики сала, соленые огурцы, помидоры, квашеная капуста, румяные пышки, на противне разлеглись упоительно пахнущие пироги с капустой и грибами.
И еще бабушка выложила на стол московские гостинцы (теперь Леля уже хорошо запомнила это слово): сыр, копченую колбасу, шоколадные конфеты.
Гости пили чай, ели пироги, хвалили московские гостинцы, и все наперебой расспрашивали Лелину маму о московском житье-бытье. Леля слушала и думала о том, что, наверно, они все любят ее маму и жалеют, что она уехала из деревни.
Больше всех Леле понравилась красивая, светловолосая, улыбчивая женщина. Она долго целовала Лелину маму, потом погладила Лелю по голове.
– До чего ж ты у нас раскрасавица, – певучим, протяжным голосом пропела она. – Глаз от тебя не оторвешь...
– Будет тебе, Настя, как бы девчонку не испортила, – недовольно заметила бабушка. – Ничего в ней такого особенного нет, девочка как девочка...
– Вот уж нет, – возразила Настя. – Уж никак про нее такого не скажешь, что девочка как девочка...
Нагнулась к Леле, поцеловала ее в щеку.
– Что, верно говорю? Как думаешь?
– Не знаю, – сказала Леля.
Но Настя уже глядела на Лелину маму.
– А ты, Маша, вроде бы с лица спала. – Голос Насти казался словно бы озабоченным, но Леле подумалось, что, наверно, она притворяется, а на самом деле вовсе ей не грустно. – Не болеешь, часом?
– Нет, – ответила мама, – не болею.
– А дочка вся как есть не в тебя, – продолжала Настя, губы ее тронула чуть заметная усмешка. – Должно, в мужа твоего, не иначе?
– Угадала, – согласилась мама. – В него.
«Должно быть, мама не очень любит эту самую Настю, – подумала Леля. – И Настя, наверно, тоже не очень хорошо относится к маме. А почему так, интересно? Надо бы после спросить у мамы».
Все молчали, бабушка сказала первая:
– Чего ты, Настя, Машу пытаешь! Садись-ка лучше, я тебе чаю налью...
– Чай не водка, сколько его выпьешь? – спросила Настя, села против Лели, подмигнула ей веселым карим, в густых ресницах глазом. – Чай пить – не дрова рубить, верно, дочка?
– Верно, – ответила Леля.
Хотя Леле казалось, что Настя не нравится маме, она ей все равно нравилась, потому что Леле нравилось все красивое, а Настя была красивая, к тому же веселая, веселее всех.
Она первая затянула песню (Леле еще не приходилось ни разу слышать такие слова):
Ой, родимая ты моя матушка.
Да родимый ты мой батюшка,
Вы почто со мной расстаетеся?
На чужую сторону провожаете?
В чужую семью да в немилую.
Вы дитя свое отдаете кровное...
Мотив был протяжный, грустный, слова тоже были печальные, не только Настя, но и бабушка тоже тянула слабым, тонким голосом:
На чужую сторонку провожаете?
В чужую семью да в немилую...
Вдруг Настя оборвала песню, вскочила из-за стола.
– Да что же это! – воскликнула. – Что же мы, бабоньки, про печаль-горе к чему поем? Лучше давайте повеселее что вспомним...
И пошла притопывать ногами, поводя плечами, выкрикивая задорно чуть хрипловатым голосом:
Возьму ножик, возьму вилку
Да зарежу свою милку.
Пусть тогда ее ревет.
Никто замуж не возьмет!
Все заулыбались, оживились. Мама до того сидела скучная, ни с кем не разговаривала. Леле еще не приходилось видеть маму такой скучной. Бабушка, любуясь, глядела на Настю:
– Ну, девка! Огонь...
А Настя все плясала, все сыпала частушками, одна другой хлеще и смешней. И мама смеялась вместе со всеми.
Леля не помнила, когда в тот день ее положили спать. Мамин голос произнес над самым ее ухом:
– Она у нас привыкла рано ложиться... И Леля словно бы мигом нырнула в теплую темную пустоту.
А рано утром бабушка разбудила ее:
– Давай, Леля, вставай, грех спать в такую погоду...
Леля приподнялась на постели. В раскрытое окно виднелось голубое, чистое небо, на яблоне, которая росла возле самого окна, сидела большая черная птица, смотрела на Лелю в упор немигающим черным глазом; Леля подбежала к окну, хлопнула в ладоши, птица сорвалась и улетела.
Вошла со двора мама, держа в руке глиняный горшочек с молоком.
– Иди, Леля, умойся, я тебе парного молочка налью...
Молоко было необыкновенно вкусное. Леле казалось, она никогда еще не пила такого густого, вкусного молока.
Солнце обливало все вокруг ласковым, сияющим светом, листья дерева, чуть колеблемые легким ветром, были ярко-зеленые, словно бы омытые дождем, в палисаднике стояла Альма, белая шерсть ее как бы светилась. Леля позвала ее:
– Альма, иди сюда...
Альма замахала пушистым хвостом и подбежала к окну.
– Она у нас умная, – сказала бабушка, кинула в окно Альме кусочек московской колбасы. – Она меня каждый день на ферму провожает...
– Возьми меня с собой на ферму, бабушка, – попросила Леля.
– Ну что ж, – сказала бабушка, – изволь...
Ферма находилась на краю села. Леля увидела два длинных, с узкими окнами дома, стоявших друг против друга. В одном доме находились взрослые коровы, в другом – телята.
Бабушка привела Лелю в хлев для взрослых коров, подвела к стойлу в самой середине, показала на толстую, с раздутыми боками черно-белую корову:
– Это наша рекордсменка, Отрада...
– Почему рекордсменка? – спросила Леля.
– Больше всех молока дает и самый высокий процент жирности, – ответила бабушка.
Похлопала корову по жирной, в складках шее.
– Как, Отрадушка, поедем с тобой на Выставку?
Пояснила Леле:
– Мы с Отрадой три года подряд в Москву на Выставку ездили, мне за нее Большую золотую медаль присудили.
Отрада посмотрела на бабушку, глаза у нее были овальные, темно-шоколадного цвета. Красивые, задумчивые глаза.
– Мне кажется, что она все понимает, – сказала Леля.
– Как есть все, – убежденно сказала бабушка.
Бабушка и вообще-то считала, что все животные понимают наши слова. Она не только с Отрадой, но и с Альмой, даже с бестолковыми курами разговаривала на равных.
– Ты, Альма, никуда не годная девчонка, – укоряла бабушка собаку, если видела, что Альма не выпила налитого в мисочку молока. —Такое молоко хорошее, а ты нос воротишь. Заелась?
Альма ложилась на брюхо, подползала к бабушке, норовя лизнуть ее руку.
Леля слышала, как бабушка уговаривала кур:
– Что же это вы, милые, ленитесь? Давайте неситесь как водится, хоть по яичку в день, слышите?
И Леле казалось, что куры понимающе переглядываются друг с дружкой.
В ту пору у Лели появилось много новых друзей, все они жили по соседству – и Вера, и Катя, и братья-близнецы Сережка с Костей, и Аля, дочка красивой Насти.
Ближе всех Леля сошлась с Алей. Аля была всего на год старше Лели, но выглядела чуть ли не на все двенадцать лет, сильно вытянувшаяся в длину, с большими руками и ногами. Бледное, трудно загоравшее лицо ее было миловидно, она походила на мать красивыми, крупно вырезанными глазами, розовым пышно-губым ртом. И волосы у нее были такие же, как у Насти, светлые, слегка кудрявившиеся на висках и на затылке.
Аля научила Лелю многим интересным вещам: отличать съедобные грибы от ядовитых, искать лечебные травы, угадывать с вечера, какая будет погода на следующий день.








