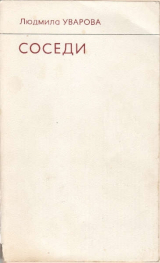
Текст книги "Соседи"
Автор книги: Людмила Уварова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
Надежда то и дело поглядывала на часы, обманывала себя, старалась думать о чем-либо постороннем, потом снова бросала взгляд на часы, казалось, прошло минут двадцать, не меньше, а на самом деле набежало едва семь-восемь...
Она выскакивала в коридор на телефонные звонки, может быть, это он звонит, что у них в школе собрание, вечер, какое-то неожиданное чепе.
Обычно он всегда приходил вовремя. А если и случалось, что он являлся поздно, то он предупреждал Надежду, перед тем как уйти, или же звонил по телефону. А на этот раз – полная неопределенность и неизвестность.
«Самое страшное, это когда решительно ничего не знаешь, – думала Надежда. – Москва – большой город, огромный город, с невероятно оживленным движением транспорта. Мало ли что могло случиться?»
Всевозможные картины, одна другой страшнее и чудовищнее, проходили перед ней. И чтобы хотя бы немного отвлечься, чтобы как-то обмануть саму себя, она пошла в ванную, начала стирать. Однако то и дело прерывала стирку, потому что звонил телефон, и она бежала к нему, снимала трубку, потом голос ее угасал, и она снова уходила стирать, пока вновь не раздавался звонок.
И она слышала, как Леля капризным тоном спросила:
– Почему у нас трубка такая мокрая?
Надежда долго развешивала белье на общем балконе, потом поминутно стала выходить на лестничную площадку, выкурила по крайней мере с десяток сигарет.
Когда она закурила одиннадцатую, явился Валерик. Еще сверху, со своего шестого, Надежда увидела, он бежит через две ступеньки на третью, насвистывая и напевая что-то про себя. Неожиданно замолчал, нос к носу встретившись с нею.
– Тетя Надя! Вот не ждал. Почему вы не спите?
Надежда несколько мгновений молча глядела в его простодушно улыбающиеся глаза: каков молодчик, мало того, что заставил ее волноваться черт его знает как, буквально места себе не находила, а он себе улыбается и невинно вопрошает, почему это тетя Надя не ложится спать?
Она не стерпела, схватила Валерика за вихор, легкомысленно торчавший надо лбом, хорошенько дернула несколько раз.
Он изумленно отпрянул от нее, а ей сразу же стало легче. Прежде всего наконец-то она видит его, живого, невредимого. И потом, потом утоленная месть всегда сладко успокаивает сердце.
– Неужели нельзя было хотя бы позвонить, чтобы я не волновалась? – спросила Надежда, когда они вошли в комнату.
– Я звонил, – сказал Валерик. – Честное слово, один раз позвонил из автомата, было занято.
Он не лгал. Она знала, что он не лжет, она уже привыкла ему верить.
Однако как бы наперекор самой себе сказала:
– Можно было бы еще позвонить или две копейки пожалел?
– Слушайте, тетя Надя, – начал Валерик, – невероятно хочу есть.
Надежда встала было со стула, он ринулся к ней, почти насильно усадил обратно.
– Нет, я все сам, к тому же я лучше вас знаю, что у нас есть.
Открыл дверцу холодильника, вынул яйца, кусок колбасы, масло.
– Сейчас соображу яичницу из четырех яиц.
– Давай из пяти, – сказала Надежда. – На мою долю останется одно яйцо.
Он засмеялся:
– Пусть будет из шести, вам и мне по три.
Потом они сидели за столом, дружно уплетали яичницу, на редкость вкусно приготовленную Валериком. Надежда как-то призналась, что такую яичницу, какую готовит Валерик, ей не приходилось есть. Это было пухлое, в то же время нежное, словно бы воздушное чудо кулинарного искусства, необыкновенного золотистого цвета, распространявшее упоительный аромат.
«Может быть, в этом и заключено счастье – думала Надежда, время от времени поглядывая на Валерика. – Это счастье, когда рядом тот, кого любишь, и знаешь, что можешь сделать для него хорошее, обрадовать его, даже осчастливить. Я же вижу, что он счастлив, что ему нравится, что я о нем тревожусь».
– Когда мы переедем на новую квартиру, я оборудую холодильник в стене, – сказал Валерик. – Вырежу кусок стены и вставлю туда холодильник, словно шкаф.
«Очень важно, чтобы человек чувствовал себя необходимым и, кроме того, хозяином. В нем сильно развито чувство ответственности, которое присуще далеко не всем взрослым, должно быть, это потому, что он рос без отца...»
– А я так и не знаю, – сказала она, – где это ты так поздно задержался. Может быть, теперь, насытившись наконец, удостоишь меня информацией?
Он кивнул.
– Я только что сам собирался это сделать, но вы, тетя Надя, опередили меня. Я был в машиностроительном техникуме, там у них день открытых дверей, ребята из нашего класса пошли, и я с ними. Вот тогда, по дороге, я позвонил вам, только не дозвонился...
– Это я уже слышала, – сказала Надежда.
– Я там был все время, – продолжал Валерик.
– Тебе понравилось?
Он ответил не сразу.
– Нет, не очень. Сначала педагоги выступали, потом мы говорили со студентами.
– И что же?
– Не по мне это.
– Почему?
– Сам не знаю. Только, по-моему, мне там будет очень непросто.
– А остальные ребята из вашего класса, они как решили? Пойдут туда?
– Пожалуй, один только Коля. Ну ему и карты в руки, у него и отец и брат машиностроители, что не поймет, все всегда ему разъяснят, помогут...
Может быть, против воли Валерика, или это просто показалось Надежде, в его голосе послышались завистливые нотки.
А почему бы ему и не завидовать Коле? Надежде как-то довелось видеть этого мальчика, он показался ей балованным, чересчур самоуверенным. И немудрено: вырос в благополучной интеллигентной, очень дружной семье, а семья – это все-таки самое главное в формировании характера ребенка.
– Разве я тебе не помогу, не разъясню? – спросила Надежда.
– Само собой, тетя Надя, я знаю, но все-таки...
Валерик замолчал, опустил голову.
– Что все-таки? – неподкупно спросила Надежда.
– Вот мы кончаем восьмой класс, – сказал Валерик, – надо выбирать, что делать дальше. Закончить ли десятый, или пойти в техникум, или в ПТУ, или еще что-то...
– Что именно?
– Я решил сегодня, когда шел домой.
– Что же ты решил?
– Пойду в ПТУ. Меня как-то Илья Александрович взял с собой на завод, там пэтэушников в рабочие посвящали...
Надежда невольно улыбнулась:
– И тебе это зрелище понравилось?
– Да, очень, – просто ответил Валерик. – Я представил себя на месте этих ребят, и мне тоже захотелось сперва учиться в ПТУ, потом поступить на завод, и чтобы на меня тоже надели красную ленту через плечо, и чтобы меня фотографировали, и музыка чтобы играла...
Валерик внезапно оборвал себя, взглянув в смеющиеся глаза Надежды.
– Тетя Надя, почему вам смешно?
Надежда не ответила ему.
«А он еще совсем ребенок, – подумала она. – Только ребенок мог бы сказать вот так, не стесняясь, открытым текстом...»
Она смотрела на мальчика, сидевшего напротив за столом, на его оживленное лицо с высокими скулами и добрым, большим ртом, на его крепкие мальчишеские ладони. Ее радовало, что он откровенен с нею, откровенен и как будто бы искренен, а это уже немало. Ведь далеко не все сыновья искренни и откровенны с родителями.
Ей хотелось приласкать его, прижать к себе эту вихрастую, свободно посаженную на неширокие плечи голову, сказать ему какие-то добрые, нежные слова, но она не привыкла открыто выражать свои чувства. Еще Артем некогда говорил, что она сухарь, именно тогда, когда она сгорала от любви к нему.
– Я тебе рубашку купила, – сказала Надежда. – Не знаю, понравится ли...
Встала со стула, взяла с тахты рубашку, показала ему.
– Нравится?
– Еще бы! Только, тетя Надя, я хочу померить, вдруг не мой размер?
– Размер твой, – сказала Надежда. – Но все равно, давай померь.
Он быстро надел рубашку. Она сидела на нем как влитая.
– Тютелька в тютельку угадали, тетя Надя, – сказал он.
– Ты еще сомневался, твой ли размер, – сказала Надежда. – Неужели ты думаешь, что я не знаю?
Глава 16. Эрна Генриховна
– Эрна Генриховна, миленькая, умоляю, одолжите двадцать пять рублей, – сбивчиво затараторила Леля. – Только маме не говорите, мне очень, очень нужно!
Она догнала Эрну Генриховну возле подъезда, когда та возвращалась домой из больницы.
Стояла, схватив ее за рукав, розовая, хорошенькая, глаза горят, губы полуоткрыты – хоть картину пиши с нее!
– Зачем тебе двадцать пять рублей? – спросила Эрна Генриховна, поймав себя на том, что невольно любуется Лелей, до чего все-таки хороша! – Новую тряпочку захотелось?
Леля не дослушала ее.
– Очень нужно, уж поверьте, Эрна Генриховна!
– А зачем? – не отставала Эрна Генриховна.
Леля поняла, что Эрна Генриховна не успокоится, пока не узнает правды.
– Говорят, в Марьинском мосторге не то французские духи выбросили, не то бельгийские сумочки...
– А чего тебе больше хочется – духи или сумочку?
Леля помедлила, мысленно выбирая.
– И то и другое, – призналась чистосердечно. – Если бы вы знали, до чего хочется!
– Знаю, – сказала Эрна Генриховна. – Сотни хватит на все про все?
Леля взвизгнула от радости:
– Спрашиваете!
Потом мгновенно стала серьезной.
– Только я буду отдавать по частям, не сразу. Ладно?
– Как хочешь.
– И не раньше чем через два месяца.
– Я на все согласна, – сказала Эрна Генриховна. Пользуйся моей добротой...
Обернулась, поглядела вслед Леле. Бежит, крепко зажав в ладони заветную сотню. Должно быть, помчалась в этот самый Марьинский мосторг, где будет сражаться с другими модницами не то за французские духи, не то за бельгийскую сумочку.
И будет вся лучиться радостью, если сумеет урвать хотя бы одно из мосторговских сокровищ.
Как мало, в сущности, нужно человеку для счастья. Флакон духов? Или колготки? Или нарядная косынка? Или еще что-нибудь в этом роде?..
«Илюша сказал бы: чего это ты, старуха, чем свои мысли занимаешь», – подумала Эрна Генриховна и стала решительно подниматься по лестнице – лифт привычно бездействовал.
Она открыла дверь, обвела взглядом комнату. Все кругом блестит, все чисто, надраено от пола до потолка. Ломкая белоснежная скатерть на столе, цветы в вазе, сервант и стулья протерты особым, принесенным Илюшей составом. Паркет сиял, хоть глядись в него. Илюша говорил: «Мне бы матросом быть, никто бы меня не перещеголял!»
Она сняла пальто, глянула на себя в зеркало. Усмехнулась не без горечи: «Старая? Во всяком случае, достаточно пожилая...»
Смотрела на свои гладко, волосок к волоску, причесанные волосы, на лоб в морщинах, на маленькие твердые глаза.
Да, ничего не скажешь, пожилая, даже старая. Подумала о том, что, когда умрет, на похоронах о ней будут говорить: «Старейший врач», «Самый старый наш работник».
К чему думать о смерти? Вот уж чего нельзя никоим образом предотвратить, думай о ней или не думай...
Впрочем, она понимала, почему ей в голову пришли нынче такие вот мысли. Обычно она никогда не думала о смерти. Во всяком случае, даже мысленно не желала представить себе тот час, который неминуемо придет когда-нибудь.
Когда-нибудь. Это может случиться очень не скоро, и так может быть, разве нет?
Но сегодня мысли о смерти все время приходили в голову. И она понимала: это из-за Скворцова.
Скворцов, старый ее пациент, неожиданно умер. Ровно три недели назад ему сделали операцию. Все прошло хорошо, даже лучше, чем можно было ожидать. Скворцов носил камни в желчном пузыре около десяти лет. Время от времени являлся к ней на консультацию, спрашивал с притворной небрежностью.
– Ну, как там мои алмазы, не просятся наружу?
Она отвечала каждый раз одинаково:
– Пока вроде все спокойно, но помните, вы носите в себе бомбу...
– Замедленного действия, – подхватывал он. Она говорила по-прежнему серьезно:
– Бомба есть бомба, этого забывать нельзя!
Он успокоенно смеялся:
– Вы пугаете, а мне не страшно. Вот так именно Лев Толстой говорил о Леониде Андрееве: он пугает, а мне не страшно...
– Все-то вы знаете, – шутила она, а он соглашался не без горделивого тщеславия:
– А как же! Мы люди шибко начитанные...
Был он осанистый, седоголовый, с большим белокожим лицом, сероглазый, отлично воспитанный. Даже сестрам и нянечкам целовал руки и, если просил что-либо: утку, стакан воды, лекарство, – постоянно извинялся и не уставал повторять:
– Пожалуйста, простите, вам не трудно?..
Три недели назад во время дежурства Эрны Генриховны его привезли в больницу. Эрна Генриховна спустилась к нему в приемный покой. Он полулежал на стуле, рядом стояла дочь, держала его за руку. Завидев Эрну Генриховну, он попытался было привстать, но внезапно резко побледнел и рухнул обратно на стул.
– Сидите, – строго приказала Эрна Генриховна. – Сейчас определю вас.
Он слабо улыбнулся, попробовал пошутить:
– Видать, мои алмазы тронулись с места...
Эрна Генриховна не ответила ему, позвонила завотделением, дежурному анестезиологу, провела короткое совещание. И было решено, не откладывая на утро, оперировать.
Оперировал завотделением доктор Высоцкий, она ассистировала ему. Высоцкий, хмурый, желчный, бросил ей через плечо:
– Камней уйма...
– А вы ожидали монгольскую пустыню? – не могла не съязвить Эрна Генриховна.
Все прошло нормально. И сердце не отказало ни разу, и давление оказалось на уровне.
На следующий день к вечеру Эрна Генриховна явилась к Скворцову, раскрыла ладонь. В ладони горсть камней серовато-желтого цвета.
– Вот они, ваши алмазы, любуйтесь...
Скворцов только-только начал приходить в себя, Изумленно вгляделся в камни:
– Неужто это они и есть, мои мучители?
Потом попросил отдать их ему, он отполирует их как следует и сделает четки, будет перебирать четки, вспоминать о том, что было.
– Вам сейчас не о четках следует помнить, а пить боржом, – строго сказала Эрна Генриховна.
И когда на следующее утро к ней пришла его дочь, она повторила еще раз:
– Ему нужен боржом!
Дочь Скворцова, худощавая, рано увядшая блондинка с прозрачной, желтоватой кожей и бледно-голубыми глазами, похожая на постаревшего ангела со старинной открытки, слушала ее и кивала:
– Да, да, понимаю...
Он уже поправлялся, уже ходил по коридору, кутаясь в чересчур широкий для него застиранный фланелевый халат. Иногда присаживался в коридоре возле телевизора, с интересом смотрел различные передачи, но в то же время строил из себя пресыщенного эстета, небрежно цедил:
– Нет, друзья мои, как хотите, а это не искусство...
Очень хотел, чтобы к его словам прислушивались, чтобы ценили его мнение. Был несколько честолюбив, ну и что в том такого?
Был... Странное дело, только что вышагивал по коридору, отпускал не всегда смешные остроты, как он называл их, «мо», вынимал из холодильника бутылку боржома, наливал боржом в стакан, умоляюще поглядывал на Эрну Генриховну: «Голубушка, домой хотца, когда?» – садился за стол в палате, со вкусом разворачивал свежую газету. Он любил читать газеты первый, потом уже давал читать другим.
«Странное дело, – размышляла Эрна Генриховна, по-прежнему стоя у зеркала, глядя в него, но уже не видя себя. – Казалось бы, за долгие годы и на фронте, и здесь, на гражданке, можно было бы привыкнуть к смерти. Я же врач, скольких мне пришлось провожать в последний, как говорится, путь! Разве я переживала когда-нибудь так, как сейчас? Можно подумать, что Скворцов был мне близким человеком? Что он, мой родственник или я дружила с ним давно? Нет, нет и нет! А вот, поди ж, казалось бы, еще один летальный исход, еще один среди остальных, но не могу примириться. Не могу, и все тут!»
Ей вспомнилась дочь Скворцова, ангелок с бледно-голубыми глазками. На этот раз глазки были красные, опухшие.
– Как же так? – спрашивала она. – Папа был уже совсем хороший... – Губы ее дрожали, по щекам катились слезы.
Нянечка Домна Петровна, дольше всех работавшая в больнице, сказала, глядя на нее:
– Как ни говорите, дороже отца у нее никогошеньки на всем белом свете...
– А вы откуда знаете? – удивилась Эрна Генриховна.
Домна Петровна взглянула на нее светлыми, утонувшими в морщинах глазами.
– Откуда? Откуда. От разговора.
– Какого разговора? – не поняла Эрна Генриховна.
– Самого простого. Говорила с дочкой, все как есть поняла...
Домна Петровна вздохнула от глубины души и поплелась по коридору в угловую палату, откуда уже доносился чей-то настойчивый, долгий звонок.
«Она говорила, а вот я ни разу не удосужилась, – подумала Эрна Генриховна, провожая глазами старуху. – Я всегда как-то сверху вниз смотрела на эту поблекшую худышку, а ведь у нее своя жизнь, свой мир, дорогой и нужный лишь для нее, и свои какие-то печали, и радости, и горести. Домна Петровна поговорила с нею и все узнала о ней и поняла ее так, как следует понимать другого человека, а я, а мне до нее не было дела, не было и нет...»
Эрна Генриховна еще раз посмотрела в зеркало и увидела свои тугие, хорошо промытые щеки, маленькие в коротких ресницах глаза.
«У Илюши тоже короткие ресницы, – подумала она. – Но на этом наше сходство кончается, он другой, с ним легко. Как это Валерик сказал о нем? Рукастый мужик. Он не только рукастый, он теплый. И он всех жалеет...»
Она провела ладонью по своим волосам, нахмурилась, потом лицо ее прояснилось. Подумала о том, что как ни говори, а ей повезло: встретила, пусть даже и поздно, хорошего, прекрасного человека, который любит ее, немолодую, некрасивую, по правде говоря, жестковатую, неженственную. А он любит. Он сказал ей однажды:
– Мы будем стареть вместе.
Таша, старая фронтовая подруга, как-то спросила:
– Он в самом деле искренний?
И она, Эрна Генриховна, ответила уверенно, непоколебимо:
– В самом деле, безусловно.
Он оказался легок на помине. Вдруг вырос рядом с ней.
– Вот и я, – сказал, – привет!
Она изумленно воззрилась на него:
– Это ты? Неужели?
– Собственной персоной. А что в том такого, позволительно спросить, поразительного для тебя?
– Я не слышала, как ты вошел.
– Ты о чем-то задумалась. О чем же?
– Ни о чем, а о ком. О тебе.
– И что же? – спросил он. – К какому в конце концов пришла выводу?
– В общем, к положительному.
Он засмеялся, но тут же разом оборвал смех.
– Что с тобой, Эрна?
– Со мной ничего.
– Ну, я-то вижу, говори, что случилось.
– Со мной ничего, – повторила она. – Умер Скворцов, сегодня ночью, как раз в мое дежурство.
Его лицо мгновенно стало серьезным.
– Скворцов? Это тот, кто лечился у тебя чуть ли не в течение десяти лет?
– Он самый. Лет восемь подряд бывал у меня, недавно мы его оперировали, и вот...
Он взял ее руку в свои ладони, поднес к губам, но не поцеловал, а стал тихо дуть, словно пытаясь согреть с мороза. Она глянула на его озабоченно склоненную голову, и на миг стало словно бы легче.
– Пойдем сядем, – сказал он. Обнял ее, осторожно усадил на диван. Сам сел рядом с нею. – Что было, то было. Не мучайся, не грызи себя.
Эрна Генриховна заплакала, прерывисто повторяя сквозь слезы:
– Пойми, я думала, что все самое страшное позади... Все позади... все, все...
Он молчал, только гладил ее по голове и по плечу.
Глава 17. Рена и Симочка
Первой принесла эту новость Ирина Петровна. Правда, давно уже ходили слухи, что дом забирают под гостиницу, а всех жильцов переселят кого куда, но, как это часто случается, слухи то разгорались, то снова гасли, и тогда о них быстро забывали.
Но на этот раз, кажется, все уже было определено и досконально решено: к весне всех жильцов выселят в различные районы Москвы, а в доме, которому надлежит стать гостиницей, начнется капитальный ремонт.
– Все получат отдельные квартиры, – сообщила Ирина Петровна. – Это мне сказал инспектор жилуправления, я с ним случайно познакомилась, он в нашу фирму приходил договориться насчет няни, так вот он сказал, что это абсолютно точно. Конечно, на центр рассчитывать не приходится, наверно, будем жить в разных Свибловах и Медведковах, зато в отдельных квартирах...
Кто радовался этому известию, кто слегка даже огорчался. Семен Петрович был, в сущности, и рад и не рад. Он сильно постарел в последнее время, его частенько мучил радикулит, и не хотелось думать, чтобы не расстраиваться, о том, как-то придется добираться из какого-нибудь отдаленного района до редакции.
Леля тоже не была в восторге: на первых порах в новой квартире, наверно, не будет телефона, а при ее сложной личной жизни, как она выражалась, ей без телефона зарез.
– Я буду начисто отрезана от жизни, – жаловалась Леля Марии Артемьевне. – Без телефона – это хуже, чем без рук.
Мария Артемьевна, неунывающий оптимист, старательно успокаивала Лелю:
– В конце концов, поставят телефон, не могут же не поставить. Ты читала в «Вечерке», как много новых АТС вводят в строй?
Леля не выдержала, улыбнулась.
– Меня радует, – сказала, – твоя бесспорная вера в печатное слово, иногда, мама, ты мне кажешься даже моложе меня...
Мария Артемьевна не стала с нею спорить. Моложе? Что ж, пусть будет так...
Впрочем, ни к чему было размышлять о том, кто моложе, кто старше. Теперь предстояли большие хлопоты: в скором времени, наверно, придется ездить смотреть и выбирать новые квартиры, потом укладываться, паковаться. Ведь недаром говорят: один переезд стоит двух пожаров...
Для Надежды эта новость не играла особой роли: так и так она должна была весной вместе с Валериком переехать в новую квартиру, которую предоставил ей институт.
Как ни странно, меньше всего обрадовалась предстоящему переселению Ирина Петровна, больше всех нуждавшаяся в новой квартире и имевшая право на первую очередь в районе. Она ни за что не соглашалась ехать куда-нибудь дальше Пушкинской или площади Восстания, да и житье в коммунальной квартире не угнетало ее: было на кого оставить Рену, с кем посоветоваться. Правда, в исполкоме ей пообещали квартиру в капитально отремонтированном доме, на худой конец за выездом. Но квартиру отдельную, с изолированными комнатами, ей и Рене.
Обе намеренно не упоминали о Севе. Сева выписался, прописался к Симочке. Что же, все вполне понятно и объяснимо.
Зато, живи он вместе с ними, они получили бы не двух-, а трехкомнатную квартиру.
Рене часто думалось:
«Ведь может же так случиться, что Сева вернется обратно, домой. Или Симочка его выживет, или он наконец разберется, какова она на самом деле».
Рена ничего не могла с собой поделать: она еще никогда, ни к кому не испытывала ненависти, но Симочку ненавидела исступленно.
Ей казалось, что вся мелкая, хищническая сущность Симочки, вся, как есть на виду, только слепому не ясно, какая она в действительности, несмотря на все ее улыбки, сладкие слова, ласковые взгляды...
Она силой заставляла себя слушать разглагольствования матери о том, как необыкновенно повезло Севе.
Ирина Петровна иногда навещала Севу с Симочкой, возвращаясь оттуда, не уставала рассказывать, какая Симочка замечательная хозяйка, какая она милая, щедрая, великодушная...
Порой Рена, не выдержав, спрашивала мать:
– В чем ты видишь Симочкину щедрость и великодушие?
– Во всем, – отвечала Ирина Петровна. – Если хочешь, спроси Севу, он тоже скажет, что вполне счастлив...
Сева бывал нечасто. Поначалу Рена обижалась, что он редко приходит, потом постепенно привыкла, заставила себя не обижаться, не ждать его.
Зато звонил он каждый день. Илья Александрович – несравненный умелец – провел к Рене в комнату параллельную трубку от общего аппарата, висевшего в коридоре, и теперь Рена могла беседовать с Севой у себя, не выкатывая свое кресло в коридор к коммунальному телефону.
Каждый раз Сева подробно объяснял, как он сильно занят – им предстоял ремонт Симочкиной дачи в Тарасовке, а ремонт, Рена должна была понять, дело далеко не простое и до ужаса мытарное.
Потом Симочка поступила на курсы кройки и шитья, занятия там кончаются поздно, она боялась одна возвращаться вечерами домой, и он встречал ее. Сам Сева рассчитывал с осени начать учиться на вечернем факультете МАДИ – Московского автодорожного института.
– Можешь себе представить, сколько у меня дел? – спрашивал Сева Рену.
«К чему ты так? Я же тебя не упрекаю, я знаю, что ты занят. Ты очень занят, я понимаю тебя, только не оправдывайся, не нагромождай одни объяснения на другие», – думала Рена.
– Представляю, – говорила она, – и, пожалуйста, не рвись, мы с мамой превосходно управляемся вдвоем.
А ночью просыпалась, вспоминала о том, что почти не видится с Севой, и тихо, чтобы не разбудить мать, плакала.
В последнее время Сева стал приходить чаще. Он казался оживленным и в самом деле довольным жизнью, снова, не переставая, рассказывал о том, как он сильно занят и как много дел у Симочки.
Как-то Рена оборвала его в тот самый момент, когда он описывал Симочкин день, заполненный до конца, буквально ни одной свободной минуты.
– Хватит! – отрезала Рена. —Я уже и так все поняла. Ты что, хочешь уговорить меня, что она до того занята, что не может прийти к нам?
– В общем, ты понимаешь, – начал Сева, но она снова не дала ему продолжать.
– Уверяю тебя, я нисколько не обижаюсь на нее. Я все понимаю.
– Вот и хорошо, что понимаешь, – обрадовался Сева.
«Ты веришь мне, потому что хочешь верить, – думала Рена, глядя на его довольное, успокоенное лицо. – Так тебе уютней, легче...»
– Ну, само собой, – согласилась она.
– Симочка к тебе относится очень хорошо, – сказал Сева. – К тебе и к маме. Она вас обеих любит...
– А почему бы ей нас не любить? – удивилась Рена. – Мы же ни во что не лезем, не вмешиваемся, не надоедаем. – Почти против своей воли, невесело добавила: – Особенно я не надоедаю...
– Да-да, – рассеянно отозвался Сева.
«Какой же ты стал дубокожий, отстраненный, – с горечью подумала Рена. – В другое время ты не дал бы мне говорить так. Ты бы стал уверять, что скоро я начну ходить, что со мной все в порядке».
– Кланяйся Симочке, – сказала Рена.
Сева расцвел мгновенно:
– Непременно передам твой привет. Она тоже каждый раз напоминает: позвони Рене, привет ей, как она там...
– Скажи ей, что у меня все хорошо.
– Скажу, – ответил Сева.
Уходил он в самом лучшем расположении духа и потом говорил Симочке:
– Рена тебя очень любит.
– И я ее тоже люблю, – вздыхала Симочка.
Порой прибавляла:
– Надо бы поехать навестить ее...
– Это ты хорошо придумала, – одобрял Сева.
Но у Симочки каждый раз, когда она решала поехать повидаться с Реной, возникали все новые неотложные дела, и свидание с Реной приходилось переносить на следующий раз.
– Честное слово, я ужасно огорчена, но так вышло, – говорила Симочка, а Сева утешал ее:
– Ничего не поделаешь. Рена умная, все поймет, значит, как-нибудь потом...
– Непременно, – обещала Симочка, – как-нибудь потом..
И снова обилие различных дел не давало Симочке возможности прийти к Рене.
Первая ссора между Симочкой и Севой произошла вскоре после того, как к ним пришла Ирина Петровна, рассказала, что дом забирают под гостиницу, а жильцов переселят кого куда.
Симочка с обычным доброжелательным вниманием выслушала Ирину Петровну, пожелала ей получить хорошую квартиру в приличном районе, но, когда Ирина Петровна ушла, сказала Севе:
– Обидно, что ты выписался от них!
– Ты же сама хотела этого, – ответил Сева.
– Я не все до конца предусмотрела, – откровенно призналась Симочка и пояснила: – Но еще ничего не поздно.
– Думаешь? – усомнился Сева.
– Уверена, – сказала Симочка, – все будет вполне о’кэй, если мы разведемся.
– Что? – спросил Сева, ему показалось, что он ослышался. – Что ты сказала?!
– Мы должны развестись, – терпеливо повторила Симочка, – по закону, так, как полагается, и как можно скорее. Ты снова пропишешься к матери, куда же тебе деваться, как не обратно на старую квартиру? И вы тогда, когда вас выселят, получите большую квартиру, каждому по комнате.
– Как хочешь, но я ничего не понимаю, – сказал Сева, он все еще не мог опомниться от Симочкиного предложения: – Ты это серьезно?
– Вполне, – ответила Симочка, она вообще не любила бросать слова на ветер, – абсолютно серьезно. Пока мы будем считаться супругами, тебя никогда не пропишут обратно, надо именно развестись, тогда все будет в порядке!
– Погоди, – сказал Сева, – но мы же сейчас живем в хорошей квартире...
Симочка замахала на него руками:
– О чем ты говоришь? Мы живем в квартире моих родителей, а тогда будем жить в своей, собственной, отдельно от всех!
– Ну, это как сказать, – заметил Сева, – ведь мы тоже не стали бы жить в совершенно отдельной квартире, а с Реной и с мамой...
Симочка сказала уклончиво:
– Там будет видно.
У нее были далеко идущие планы, но она не намеревалась делиться ими с Севой. По ее мнению, он еще не созрел, чтобы воспринять и, главное, правильно понять ее замыслы.
Симочкино заветное желание было – жить отдельно, не со своими родителями и, разумеется, не с Ириной Петровной.
У родителей Симочки хорошая квартира? Пусть они так и живут, как жили, а у Симочки и Севы, надо полагать, не за горами время, когда их семья разрастется, вот потому-то следует жить только своей семьей, обособленно от всех...
Симочка была отнюдь не из болтливых, однако и ее порой тянуло на откровенность.
Самая подходящая кандидатура была Леля, эта не проболтается, слишком занята своими переживаниями. Так что у нее поистине в одно ухо войдет, в другое выйдет.
Как-то Симочка похвасталась Леле:
– Ирина Петровна у меня в ладошке, – сжала и снова разжала свою розовую энергичную ладонь. – Что захочу, то и сделает.
– А что ты хочешь? – поинтересовалась Леля.
Симочка неопределенно улыбнулась:
– Мало ли что. Вот, например, я наметила себе начать исподволь приучать ее к одной мысли.
– К какой? – не поняла Леля.
– Чтобы она сама заставила Севу развестись со мной, получить трехкомнатную квартиру, а потом разменять ее. – Симочка тряхнула кудрявой челкой. – Впрочем, с разменом можно и обождать, как оно все будет‚ – многозначительно сузила фиалковые глаза.
– Почему можно обождать? – спросила Леля.
– Жизнь идет своим чередом, – продолжала Симочка, как бы отвечая каким-то своим, одной ей известным мыслям. – Помнишь, я тебе как-то привела японскую поговорку? Если не можешь победить врага, поцелуй его.
– Не помню, – призналась Леля.
– А что ты помнишь? Ты же вся в своих мыслях об этом самом Грише...
Леля обиженно свела брови:
– Ну и в мыслях. Ну и что с того? А поговорка твоя мне ужасно не нравится. Гадость какая-то!
– Ладно, – примирительно заявила Симочка, – не ершись, это я так, между прочим. Каждый живет, как хочет и как ему удобно.
Леля невольно вздохнула. Даже Гриша, и тот признавал, что им обоим трудно. Да чего там трудно? Мучительно, порой непереносимо. И не только им двоим, а четверым – его жене и даже сыну.
– Слушай сюда, – сказала Симочка, она была уже не рада, что невольно заставила Лелю вспомнить обо всех сложностях ее жизни. Симочке нужен был внимательный слушатель, ей необходимо было высказать свои соображения, как бы еще раз проверить их на слух. – Слушай сюда, я считаю, что жизнь идет своим чередом.
– Я тоже так считаю, – отозвалась Леля.
– Не отвлекайся, напряги свой мыслительный аппарат, – приказала Симочка.
– Уже напрягла, что из этого?
– Стало быть, ты тоже считаешь, что жизнь идет своим чередом? Прекрасно. Значит, всяко может случиться...








