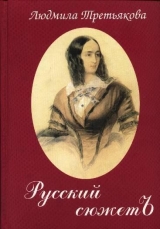
Текст книги "Русский Сюжетъ"
Автор книги: Людмила Третьякова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 18 страниц)
Увы! – история не сохранила нам писем Петра Петровича жене. Несомненно, они бы еще больше убедили, какой счастливый фант вытянула Наталья Николаевна в союзе с Ланским. За годы совместной жизни с ней он, вероятно, передумал, перечувствовал многое. И вел себя безукоризненно. При частых и долгих разъездах ему, конечно, порой было одиноко без нее и всякое лезло в голову. Ведь Наталья Николаевна почти всегда отказывалась сопровождать мужа, боясь оставить детей одних. И Ланской понимал: у него есть счастливые соперники в лице двух молодых людей и пяти барышень. Отношения с женой принимали вид почтового романа. Наталья Николаевна писала письма в форме дневника, а он, одаривая ее признаниями и ласковыми словами, ждал от нее того же. Между тем она была сдержана, убеждая, что им уже не к лицу предаваться пылким чувствам и излияниям: «Ко мне у тебя чувство, которое соответствует нашим летам; сохраняя оттенок любви, оно, однако, не является страстью».
Ланского, вероятно, не слишком радовала такая рассудительность. В разлуке особенно важны словесные подтверждения сердечных чувств, и даже холодный человек может впасть в тоску в отсутствие их. Петр Петрович о всяком думал. В том числе и о том, что, как не крути, его божественно красивую жену повсюду преследуют мужские взоры.

Все дети – и Ланские, и Пушкины – знали, что Саша, старший сын от первого брака, – любимец матери. Да и Александр Александрович относился к ней совершенно исключительно. Вспоминали, что Наталья Николаевна «была предельно откровенна с Александром, вот почему он знал об отие гораздо больше, чем другие дети поэта». Благодаря его женитьбе на племяннице отчима Пушкины и Ланские породнились.
И мы можем только догадываться, как после шести лет супружеского союза огорчился Ланской, когда заприметил возле Натальи Николаевны увивающегося француза. Опять француз! Можно себе представить, что он написал своей Наташе об этой окаянной нации, словно взявшей за правило смущать русскую семейную жизнь. Каналья! Болтун, конечно, краснобай. И этот мерзавец, наверное, недурен собой!
В ответ Наталья Николаевна послала мужу прелестное и многозначащее письмо, которое, по счастью, дошло до нас. Мы имеем удовольствие его читать в переводе двух людей, сделавших неизмеримо много для восстановления доброго имени вдовы Пушкина, жены Ланского. Это пушкинисты И.М.Ободовская и М.А.Дементьев.
Вот что писала генеральская жена своему «повелителю», как иногда она именовала мужа.
«...Будь спокоен, никакой француз не мог бы отдалить меня от моего русского. Пустые слова не могут заменить такую любовь, как твоя. Внушив тебе с помощью Бо-жией такое глубокое чувство, я им дорожу. Я больше не в таком возрасте, чтобы голова у меня кружилась от успеха. Можно подумать, что я понапрасну прожила 31 лет. Этот возраст дает женщине жизненный опыт, и я могу дать настоящую цену словам. Суета сует, все суета, кроме любви к Богу и, добавляю, любви к своему мужу, когда он так любит, как это делает мой муж. Я тобою довольна, ты – мною, что же нам искать на стороне, от добра добра не ищут».
После прочтения этих строк хочется сделать паузу и вспомнить картины былого... Влюбленный красавец Дантес, неотступный, как наваждение... Молоденькая Натали, и польщенная, и смущенная «такой великой страстью». Обезумевший от ярости Пушкин. Но, это он такой сейчас. А раньше? Куда он убегал от своей «мадонны»? Для чего заставлял ревновать, плакать и давать ему пощечины? К чему все это? Он – гений, она – божество. Четверо детей. «От добра добра не ищут...» Забери их и уезжай в Михайловское, где нет наглых красавцев, гораздых кружить головы молоденьким дурочкам. Запри ее там – пусть растит детей, взрослеет. А главное – плюнь на француза. Он не стоит твоих невероятных мук, безумных глаз Наташи, скорого сиротства четверых маленьких детей. Но нет! Все будет не так. А как – мы знаем.
Через этот ад, в котором повинны оба, ей придется пройти, заплатив непомерную цену за прозрение и, ничего не забыв, через двенадцать лет написать совсем другому человеку: «Будь спокоен... От добра добра не ищут...»
* * *
Два сына – подростка, – это ли не головоломка для матери: как их учить, куда определить? Хорошо, что возле Натальи Николаевны был надежный, опытный человек. По его совету Наталья Николаевна забрала старшего Сашу из 2-й Петербургской гимназии, где он «вольноопределяющимся» проучился три года. Петр Петрович, возможно, понимал лучше Натальи Николаевны, каким образом обеспечить в будущем ее сыну и положение в обществе, и верный кусок хлеба. Да и могла ли слабохарактерная мать дать юноше закалку, необходимую для жизни, от которой, как известно, всегда можно ждать подвоха? Ланской считал, что ему легче будет позаботиться о карьере сына Пушкина, если он выберет стезю военного, и убедил жену определить Сашу в Пажеский корпус. По тем временам это было самое привилегированное учебное заведение: туда принимали родовитых отпрысков из традиционно военных семейств.
Потребовалось специальное распоряжение Николая I, благоволившего к Ланскому, чтобы пятнадцатилетнего Александра Пушкина приняли в «пажи».
В Пажеском корпусе воспитатели знали свое дело, а хорошие задатки юного Александра Пушкина были залогом успеха. Он был выпущен офицером в гвардию с такой записью в послужном списке, которая должна была бы очень обрадовать Наталью Николаевну: «В уважении примерной нравственности признан отличнейшим воспитанником и в этом качестве внесен под № 5 в особую книгу».
Ланской внимательно присматривал за Сашей Пушкиным, особенно тогда, когда Наталья Николаевна уезжала лечиться. Все потребности молодого человека, еще не имевшего пока самостоятельного заработка, учитывались отчимом. Не случайно он пишет жене, что Саша уже достаточно взрослый, чтобы иметь карманные деньги, а потому решил пока выдавать ему «жалованье».
Забегая вперед, скажем: старший сын поэта, словно исполняя молодую мечту родного отца, желавшего надеть мундир, дослужился до звания генерала. Успешно сложившаяся карьера принесла ему и уважение в обществе, и материальное благополучие. Трудно сказать, случилось бы это без вмешательства в его судьбу умного, дальновидного отчима.
Петр Петрович обещал жене, что выведет сыновей на путь истинный – он и сдержал слово. В 1853 году с присвоением чина корнета окончил Пажеский корпус и младший сын Пушкина Григорий.
И Александра, и Григория Ланской взял служить в свой полк. Это приносило Наталье Николаевне полную уверенность в том, что «мальчики не расшалятся» и под началом строгого, но справедливого командира они будут успешно продвигаться по службе.
Григорий Александрович Пушкин дослужился до чина подполковника. Мягкий, очень спокойный, «характером в Гончаровых», он уже после смерти Натальи Николаевны поменял военную службу на гражданскую и имел чин статского советника.
Оба сына Пушкина, и Александр, и Григорий, нашли в Петре Петровиче родного человека, искренне к нему были привязаны и отдавали ему должное. Старший сын поэта по-военному четно обрисовал отношения, сложившиеся в семье: «Мы любили нашу мать, чтили память отца и уважали Ланского».
* * *
Случались у Ланских и размолвки. Не будем забывать, что Наталья Николаевна была вспыльчива, да и за Петром Петровичем водились недостатки, как, вероятно, и за ней. Не обходилось и без принципиальных разногласий.
Однажды Наталья Николаевна имела неосторожность сообщить мужу, что Маша, старшая дочь, кокетничала в обществе с молодым человеком. Ланской крайне неодобрительно отнесся к этому известию. Он укорил жену в том, что из-за желания поскорее «пристроить» дочерей, она закрывает глаза на их вольности. Ему вообще казалось, что ничего страшного не случится, если дочери и не найдут себе пары. Что ж, останутся жить в семье, можно быть счастливой и не будучи замужем. Он приводил примеры, когда их знакомые дамы совсем не грустили о затянувшемся девичестве.
О! Какую же головомойку устроила мужу Наталья Николаевна! Во-первых, Машино кокетство было «самого невинного свойства», а молодой человек казался ей «вполне подходящей партией».
Но главное – ее возмутили взгляды мужа на любовь и брак, так неосторожно высказанные им. И тут «его сокровище» сделало жесткий выпад. Наталья Николаевна напомнила ему о его «страстном увлечении» Идалией Полетикой. И даже намекнула на то, что, не встречая ответного чувства, он и влюбился в нее, бедную вдову. Человек не может жить один и для себя – такова главная мысль отповеди Натальи Николаевны своему «славному Пьеру». Здесь она как на ладони со своими мыслями о «союзе двух сердец» и желании молодых людей найти себе пару, о предназначении женщины, о тяжелейшем кресте одиночества. Невозможно устоять, чтобы не процитировать эти строки:
«Ты мне называешь многих старых дев, но побывал ли ты в их сердце, знаешь ли ты, через сколько горьких разочарований они прошли?» – понятно, что эти слова навеяны впечатлениями о бесцветно прошедшей молодости родной сестры Александрины.
«А сам ты помнишь, как ты был холостяком? Я называю холостяцкой жизнью тот период, когда ты был один после твоего страстного увлечения, твое сердце было ли удовлетворено, не искало ли оно другой привязанности?» – Наталья Николаевна наверняка еле удерживается от ответа на его же заданный вопрос: «Искало, еще как искало. И нашло. Это – я».
«Союз двух сердец – величайшее счастье на земле, – выговаривает Наталья Николаевна, – а вы хотите, чтобы молодые девушки не позволяли себе мечтать; значит, вы никогда не были молодыми и никогда не любили. Надо быть снисходительным к молодежи.
Плохо то, что родители забывают, что они сами когда-то чувствовали, и не прощают детям, когда они думают иначе, чем они сами. Не надо превращать мысль о замужестве в какую-то манию и даже забывать о достоинстве и приличии, я такого мнения, но предоставьте им невинную надежду устроить свою судьбу».
Впрочем, дав отповедь мужу, Наталья Николаевна тут же остывала: супруги, ссорясь, быстро мирились. У них, по словам Натальи Николаевны, было так заведено. И под горячую руку настрочив ему сердитое послание, в следующем же она каялась и извинялась:
«Я только что получила твое доброе, прекрасное письмо, и мне стало стыдно, дорогой Пьер, за нехорошее письмо, что я тебе послала на днях. Пожалуйста, прости меня, но я в плохом настроении, а ты как раз тот человек, которому я высказываю все свои жалобы. Я знаю твое прекрасное сердце и то, что в тебе очень много снисходительности».
Никогда, ни в одном письме нет ни малейшего намека или сомнения в преданности и любви мужа. Очень, очень была уверена Наталья Николаевна в своем положении «сокровища», обожаемой супруги – редкая удача для женщины.
...По правде, Петр Петрович зря убеждал жену быть построже с дочерьми. Воспитанная деспотичной матерью, Наталья Николаевна не следовала ее примеру, но и не спускала им ни малейшего нарушения правил хорошего тона. У них с дочерьми был уговор, что, общаясь с кавалерами, они должны поглядывать на матушку. Если она подносила к глазам лорнет – это являлось условным знаком: следовало как можно скорее принять спокойный вид и прекратить беседу.
Кто знает, может быть, именно постоянный надзор Натальи Николаевны и привел к тому, что Маша Пушкина явно переходила в невестах. Пожалованная во фрейлины, что давало возможность постоянно бывать при дворе и к тому же получать немалое денежное вознаграждение, она так и не смогла найти себе пару среди богатой и знатной молодежи, на что Наталья Николаевна, вероятно, надеялась.
...Весной 1860 года уже двадцативосьмилетней Мария Александровна Пушкина вышла замуж за своего ровесника, офицера-конногвардейца Леонида Николаевича Гартунга, впоследствии генерал-майора. Молодые уехали жить в имение Гартунга под Тулой, а Ланские остались один на один с драмой, которая уже семь лет терзала их благополучную до того момента семью.
Все началось с Наташи Пушкиной, Таши, как ее привыкли называть. Квартиру Ланских посещал молодой князь Николай Орлов. Молодые люди полюбили друг друга. Орлов готов был предложить Таше Пушкиной руку и сердце, но его отец воспротивился этому. Брак не состоялся.
Легко предположить, какой тяжелый осадок оставила эта история в семействе Ланских и, в первую очередь, конечно, в сердце Таши. И оно, это сердце, желало залечить нанесенную рану. Чем же? Конечно, новой любовью.

Молоденькая Наташа Пушкина так похожа на своего отца и внешне, и характером. Ее драматическая судьба отняла у Натальи Николаевны много сил и душевного спокойствия. О том, что У Натальи Александровны е конце концов все сложилось благополучно, матери узнать уже не довелось.
Таша увлеклась флигель-адъютантом Михаилом Леонтьевичем Дубельтом, сыном управляющего Третьим отделением Л.В.Дубельта. Умный, напористый, умевший красиво и убедительно говорить, какое-то время он, кажется, очаровал и Наталью Николаевну. Даже четырнадцать лет разницы между ними как будто говорили в пользу того, что у слишком молоденькой Таши будет серьезный и основательный муж.
Однако Ланской придерживался иного мнения о Дубельте. Хорошо осведомленный обо всем, что происходит в среде военных, Петр Петрович знал, что тот знаменит как азартный картежник и как человек необузданного, бешеного нрава.
Да и Ланская могла убедиться, что у дочери с Дубельтом, еще даже не помолвленных, одна ссора сменяет другую. Ведь и Таша отличалась строптивыми характером. Недаром мать называла ее «бесенком», а роман с Дубельтом «ребячеством». Так что же ждет их дальше?
Целый год сопротивлялась Наталья Николаевна слезам, упрекам дочери и заверениям Дубельта, которые, несмотря на наметившиеся нелады, желали пожениться. Что оставалось делать Петру Петровичу? «Будь Наташа родная дочь, отец никогда не дал бы своего согласия, предвидя горькие последствия, – описывала напряженную обстановку в семье Александра Ланская. – Но тут он мог только ограничиться советом и предостережениями».
В начале 1853 года свадьба состоялась. Как и следовало ожидать, почти с первых дней между молодоженами обнаружился разлад. Из Подольской губернии, где служил Дубельт, Наталья Николаевна стала получать горькие письма. Таша описывала безобразные сцены, которые устраивает ей муж, его ревность, грубость, неуемную картежную игру. У нее родился сын Леонтий, в следующем году дочь Наташа. Появление детей ничего не изменило.

Наталья Николаевна многое сделала, чтобы брак между ее сыном Александром Пушкиным и Соней Ланской состоялся. Это было счастливое супружество, прерванное смертью Софьи Александровны. Александр Александрович завещал похоронить его рядом с нею.
Наталья Николаевна представляла себе одинокую в своем семейном несчастье дочь, которая от нее так далеко. И нет способа помочь, ободрить в тяжелых испытаниях. Эта тяжелая драма, мучившая ее дитя где-то далеко, отозвалась на Наталье Николаевне самым роковым образом. Она, по выражению Александры, «стала таять, как свечка».
...Надежды Ланского на то, что вот вырастут дети и они с женой заживут тихо, спокойно, для себя – не оправдались. Как говорит пословица: маленькие детки – маленькие бедки. И когда стало известно, что Дубельты решили пока разъехаться, а там видно будет, то Наталья Николаевна совсем пала духом, но все же надеялась, что супруги опомнятся. К этому времени у них было уже трое детей. Как и чем Таша будет жить, если останется одна?
Ничего кроме беспокойства не вызывал у Ланских и младший сын Пушкина Григорий. Его совершенно поработила любовная связь с некоей француженкой. О женитьбе речь не шла, а Наталья Николаевна, как всякая мать, хотела для него основательного семейного благополучия: добропорядочной жены, детей, прочного дома. Нет! Все рвалось, расползалось из рук, шло наперекосяк.
Единственным лучом надежды на беспокойном фоне личной жизни детей Пушкина стало решение старшего сына Александра жениться на Сонечке Ланской. Наталье Николаевне, возле которой осиротевшая девочка выросла, казалось, что в ней он найдет «простую, тихую жену». Тем более, что Саша и Соня еще подростками почувствовали друг к другу симпатию. Детский роман перерос в любовь.

Этот карандашный портрет Натальи Николаевны сделан рукою непрофессионального художника, одного из племянников П. П. Ланского. Но как выразительно переданы классически правильные черты немолодой уже женщины, чье здоровье подтачивает болезнь. Еще прелестное, но словно истаявшее лицо, тонкие, как у ребенка, запястья.
Но и тут возникли, казалось, непреодолимые препятствия. Сын в отчаянье бросился к ногам матери: их с Соней отказываются венчать из-за близкого родства. Формально это было справедливо: Соня доводилась племянницей Петру Петровичу, а так как Саша Пушкин считался ему приемным сыном, то выходило, что молодые люди – двоюродные брат и сестра.
И вот тут-то Наталья Николаевна, никогда ничего не умевшая просить для себя, буквально грудью стала за счастье влюбленных. Не найдя снисхождения у духовных чинов, она добилась личной беседы с императором по этому вопросу. И тот использовал свое влияние на церковь: «Обвенчать...»
* * *
...«Мой прекрасный муж», «дорогой Пьер», «душа моя», «мой славный Пьер»... Сколько милых слов, сквозь которые так чувствуется взаимная любовь супругов.
Часто, очень часто им приходилось расставаться. Ланской тосковал, забрасывал жену письмами, в которых жаловался на свое одиночество, и – терпел. Она уверяла его: «Поверь, что не ты один страдаешь от нашей разлуки».
Им казалось, что жизнь – длинная штука, впереди еще много времени. И его хватит, чтобы насладиться близостью друг с другом и наговориться всласть – уже не в письмах.
Однако Петр Петрович видел, что жене становится все хуже и хуже. Он доставал какие-то новые лекарства, приглашал новых врачей. Каждый раз Ланской ждал чуда – хоть небольшого улучшения здоровья жены, а она тихо уходила от него.
Он делал все, что от него зависело, чтобы замедлить этот уход. Недавнее долгое лечение жены за границей не дало никаких результатов, потому что у нее была цель не столько поправить здоровье, сколько показать дочерям Европу. Вместо тщательного выполнения всех предписаний врачей – поездки, экскурсии, развлечения для молодежи. Хватит! Теперь с женой поедет он сам и, безотлучно находясь возле нее, заставит серьезно лечиться.
Весной 1861 года Ланской на год попросил отпуск. Получив его, он увез Наталью Николаевну в Германию, которая славилась в то время и врачами, и курортами.
Однако состояние больной не улучшалось. Ланские переехали в Швейцарию, а зиму провели в Ницце. И вот здесь Наталья Николаевна стала поправляться. Врачи посоветовали закрепить успех и вместо русских холодов провести еще одну зиму в теплом климате.
Наталья Николаевна настаивала на возвращении в Россию. Причина состояла в том, что старшей дочери Ланских вот-вот должно было исполниться восемнадцать лет – ей предстояло выезжать в свет. И, как всегда, интересы дочери были поставлены на первый план. Никакие уговоры мужа не помогали.
По возвращении в Россию Наталья Николаевна продолжала чувствовать себя хорошо. Они с мужем устраивали новую квартиру в Петербурге. Девочки Ланские гостили у брата Саши в Бронницком уезде. И мать, скучая по ним, приезжала в усадьбу села Ивановское.
В этом селе сохранился пруд, заросший по берегам такими огромными кустами сирени, что к воде трудно подобраться. Над ним когда-то стоял помещичий дом. Место это до сих пор называется барщиной. Не исключено, что по здешнему приволью гуляла Наталья Николаевна, которая всем европейским красотам предпочитала тишину, безлюдье, чуть печальную прелесть родных краев.
Сашина жена Софья Александровна, Сонечка, ожидала четвертого ребенка. Первые трое были девочки. Счастливое известие о том, что наконец-то родился мальчик, застал Наталью Николаевну в Петербурге. Его в честь деда и отца его решено было назвать Александром. Сын написал матери, что очень хотел бы видеть ее на крестинах. Уже стоял октябрь, холодало, и Петр Петрович в который раз упрашивал жену поберечь себя, заочно крестить, малыша, но Наталья Николаевна уже видела себя с маленьким Александром Пушкиным на руках. Во время возвращения в Петербург она простудилась.
Снова врачи, постельный режим и такая слабость, что не хватало сил оторвать голову от подушки. Ночью больная хрипела, металась от жара. Ланской не отходил от постели жены. Так прошли шесть суток, пока врачи не сказали ему, что часы его жены сочтены. Александра Ланская писала, что «отец как-то весь содрогнулся, ужас надвигавшегося удара защемил его сердце».
Вызванные телеграммами все дети, кроме Таши, Натальи Александровны, собрались возле умиравшей матери. Наталья Николаевна была в полном сознании. Понимая, что времени у нее остается совсем немного, она попросила дочь Машу, которой, как старшей,'были завещаны письма Пушкина, передать их сестре Наташе. Образ несчастной дочери с тремя малышами на руках стоял перед Натальей Николаевной. Она понимала, что письма Пушкина – это большая ценность, в том числе и материальная, а потому хотела, чтобы на черный день у Таши было что продать.

«Прослужив трем государям, Ланской ничего не просил себе или своим», – писали о Петре Петровиче. Счастье его жизни состояло в возможности служить верой и правдой императору, жене, детям, внукам. Прямой и честный, он заслужил привязанность и благодарность всех знавших его. «Мой добрый Пьер», – обращалась к мужу Наталья Николаевна. И этим сказано все.
День 26 ноября выдался унылым и серым, когда кажется, что на земле больше не будет ни солнца, ни зелени, ни голубого неба. И этот день был последним в жизни Натальи Николаевны. Ей шел 52-й год...
Дети склонились над нею – ежеминутно уходившей от них все дальше и дальше – Пушкины, Ланские, ее дети. Слабым, но твердым голосом мать наставляла, как надобно жить, чтобы хоть там, откуда нет возврата, ее душа не болела за них.
А Ланской стоял рядом, не решаясь и на мгновение привлечь внимание умиравшей. Он всегда боялся лишь одного – стать причиной огорчения жены. И сейчас ничего не хотел менять, даже если ему хватит несколько мгновений, чтобы проститься с нею.
Но когда Наталья Николаевна, с усилием чуть повернув голову, нашла его глазами, он рванулся к ней благодарный, что она не забыла его и обратилась к нему последнему, чтобы унести его взгляд с собой.
– Наташа, Наташенька! Погоди... Да как же это так, Наташа?! А?!
– Спасибо, мой Пьер... Спасибо тебе... За все спасибо...
Еще она уже тихо прошептала: «Дети... Не оставь». Он понял, сжав губы, кивнул головой, с усов крупными каплями упали слезы. И, сдерживая плач, чтобы не расстраивать ее, каким-то изменившимся голосом повторял обычное: «Только не беспокойся. Все будет, как ты скажешь...»

Петр Петрович Ланской отказался от чести быть похороненным в престижном месте, предпочтя лечь в могилу рядом с обожаемой женой. Он и тут оказался верным ей.
Когда Наталья Николаевна умерла, Ланскому было 64 года. Об отставке он и не думал, поскольку требовались деньги и немалые: у него остались три дочери-барышни. Правда, довольно быстро они оставили родительский дом, выйдя замуж за офицеров-кавалергардов.
Уехала искать счастья за границу падчерица Ланского Наташа Пушкина, оставила Петру Петровичу двоих старших детей от брака с Дубельтом. Этим внукам Пушкина, девятилетней Наташе и восьмилетнему Леонтию, «дедушка Ланской» заменил родителей, которые в 1868 году развелись.
Леонтия Петр Петрович определил в Пажеский корпус, Наташу – в женское учебное заведение. Но все каникулы и праздники дети проводили дома у Ланского.
Неприятная, стоившая Петру Петровичу больших треволнений история, приключилась с Леонтием. Трудные характеры матери и уж тем более вспыльчивого, неуравновешенного отца – не назовешь благим наследством. Однажды поссорившись с товарищем по Пажескому корпусу, Леонтий в порыве ярости всадил ему в бок перочинный нож.
Решив, что стал убийцей, он покинул корпус и прибежал домой. К несчастью, «дедушки Ланского» не было. В его кабинете Леонтий нашел револьвер и выстрелил себе в грудь.
Рана оказалась не смертельной. Леонтия спасли, но извлечь пулю не удалось. С момента этого страшного случая у него начались эпилептические припадки. Разумеется, на Пажеском корпусе пришлось поставить крест. Ланской, однако, устроил его учиться в Морской корпус, по выходе из которого тот получил звание мичмана и дослужился до капитана 2 ранга.
Наташа Дубельт, окончив институт, стала жить у замужней дочери Ланских, своей тетки Елизаветы Петровны в провинции. Там в нее влюбился земский врач. Наташа отвечала ему взаимностью. Тогда Елизавета Петровна написала своей сводной сестре Наталье Александровне в Германию, прося разрешения племянницы на брак.
Но та, видимо, посчитав эту партию неподходящей для дочери, попросила прислать дочь к ней в Висбаден, где выдала замуж за отставного капитана.
Судьба самой Натальи Александровны, чьи жизненные перипетии, по общему мнению, окоротили жизнь ее матери, за границей сложилась в высшей степени удачно. Вот что значит энергия и вера в себя! В Германии на младшей дочери Пушкина женился немецкий принц Николай Насаусский. Наталья Александровна получила титул и фамилию графини Меренберг. Но, возможно, такому счастливому завершению всех треволнений послужило и то, что Наталья Александровна не была обременена детьми: все заботы о них пали на Ланского и родню Дубельтов, где воспитывалась младшая дочь Анна.
...Годы шли, чередуя радостные и печальные события. Праздники и невзгоды дети Пушкина и родные дети Петра Петровича переживали вместе, не на словах, а на деле приходя друг другу на помощь в тяжелые минуты жизни. Когда из-за ложного обвинения покончил жизнь самоубийством муж старшей Пушкиной Л.И.Гартунг, Мария Александровна нашла теплоту, понимание и приют у родни своего отчима. Здесь «тетю Машу» очень любили, и это скрасило жизнь одинокой и материально нуждавшейся Марии Александровне.
Сам Петр Петрович, когда он лечился от ревматизма, гостил в немецком семействе Натальи Александровны Пушкиной-Дубельт-Меренберг. Наташа, ставшая за границей матерью еще троих детей, по-прежнему оставалась для Ланского родной дочерью, один звук имени которой возвращал его к незабвенному, образу.
Наташа! Наталья Николаевна. Покинувшее его сокровище. Окруженный ее портретами, Ланской ложился спать, глядя на ее прекрасное, нестареющее лицо. И поутру, открыв глаза, снова встречался с ней взглядом.
Все годы вдовства Петр Петрович неизменно ездил к дорогой ему могиле в Александро-Невской лавре. Много лет назад он отказался от большой чести, предложенной ему императором когда-нибудь найти вечный покой в пределах построенного при нем Благовещенского собора. Командир Конного полка Ланской много сил отдал возведению этого храма. Но относительно того, где ему быть похороненным, у него сомнений не было – там, где покоится его жена.
Смерти Ланской не боялся. Близкие слышали, как он, отходя ко сну, с облегченным вздохом говорил:
– Одним днем ближе к моей драгоценной Наташе!
Там, за гранью земного бытия, он мог смело явиться перед ней и по-солдатски четко заявить: все завещанное ею он по мере своих сил выполнил. Ей не в чем упрекнуть его. Уж она-то знает, как он любил ее. Поверят ли другие? Пусть судят как хотят.
И что они знают о любви?..








