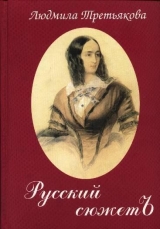
Текст книги "Русский Сюжетъ"
Автор книги: Людмила Третьякова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц)
Князь Федор Петрович Шаховской, отставной майор лейб-гвардии Семеновского полка, тридцати трех лет, нашел свой последний приют на арестантском кладбище, где хоронили колодников и арестантов, содержавшихся в монастырской тюрьме.
Княгине по описи передали вещи, оставшиеся после покойного, и среди них узкое золотое кольцо, внутри которого было вырезано: «Ноябрь 12 – 1819 г.». Это была дата их с Федором Петровичем свадьбы.
1829 год принес княгине Шаховской еще одно горе: на Кавказе умер любимый брат Иван Дмитриевич. Разжалованный по приговору суда в рядовые, он безудержной храбростью незадолго до смерти вернул себе офицерские погоны.
* * *
Шли годы и, казалось, время должно было притупить страдание тоскующей по мужу Якушкиной. Родные Анастасии Васильевны, которых она уже давно не посвящала в свои переживания, наверное, так и думали: Настя, при ее, как они говорили, «неосновательном» характере, поплачет, погорюет и смирится.
Полной неожиданностью для них было то, что спустя почти семь лет ожиданий, надежд, которые неизменно рушились, их тихая Настя снова подала прошение на Высочайшее имя.
Воодушевленная тем, что муж после бесконечных отказов теперь определенно настроен на ее приезд, Анастасия Васильевна писала в сентябре 1832 года: «Что касается моего отъезда, то он еще не назначен, мой милый друг... О, конечно, если бы это зависело от меня одной, меня давно уже не было бы в России... Но что я могу сделать? Ждать, страдать и покоряться...»
А в это время за спиной Якушкиной плелась интрига, навсегда разрушившая ее счастье. Родственники Шереметевы, преследуя свои интересы, и правительство, по-прежнему не желавшее разрешать поездки к «преступникам», оказались той силой, с которой Анастасия Васильевна справиться не смогла.
На запрос Бенкендорфа, как смотрят Шереметевы на просьбу их родственницы, один из них написал, что Анастасию Васильевну принуждает к переселению в Сибирь «ее мать, женщина странная. Она выдала ее замуж за Якушкина; на эту поездку заставила занять 20 тысяч рублей своего сына Шереметева, который и без того много должен. Если можно воспрепятствовать этой поездке, то оказана будет милость всему семейству».
Разумеется, «милость всему семейству» была оказана немедленно. На прошении Якушкиной Николай I начертал: «Отклонить под благовидным предлогом».
...Все было кончено. Анастасия Васильевна это понимала. В особняке на Воздвиженке она больше оставаться не хотела – уехала с сыновьями жить в Сергиев Посад. Возможно, к этому ее подтолкнула мысль, что в маленьком провинциальном городке обучение сыновей будет стоить не так дорого. Ведь на столичных учителей средств у нее не было. Но если это и причина отъезда, то наверняка не главная.
В письмах мужу Якушкина говорит с ним робким, нежным голосом бесконечно любящей женщины. Но Анастасия Васильевна была далеко не тем человеком, с которым можно поступать, как угодно. Впоследствии ее сын писал: «С независимым характером, какие встречаются редко, она при всей своей снисходительности никому не позволяла наступать себе на ногу, да и редко кто на это и отваживался, потому что ее тонкая, но острая насмешка сейчас же заставляла человека отступить в должные границы».
Поначалу во всем подвластная родне, от всех ждущая поддержки, растерянная и неуверенная в себе, Анастасия Васильевна постепенно обрела силы. А потому, независимо от того, прознала она о кознях родственников или нет, жизнь среди них стала невыносимой. По-видимому, Якушкина «высказалась горячо и прямо», как впоследствии делала всегда, когда речь заходила о любом насилии, прямом или духовном, о «неправде».
Горести надломили Анастасию Васильевну. Она умерла, не дожив до сорока лет, двадцать два года оставаясь «соломенной вдовой».
В преданиях Шереметевых причиной ее безвременной кончины называли какую-то невыясненную хворобу. Однако известно, что остуда сердца, разочарование в святом чувстве, служившем путеводной звездой, порой сводят в могилу вернее, чем болезни.
Трудно отказаться от мысли, что дала себя знать обида на мужа. Сама-то Анастасия Васильевна была готова на все, чтобы преодолеть роковые обстоятельства судьбы. И если этого не случилось, то не по ее вине.
Молчаливым знаком той трагедии, которую испытала душа Анастасии Васильевны, является тот факт, что последние года она уже в Сибирь не писала. Иван Иванович Пущин, верный друг и товарищ Якушкина по многим сибирским годам, почувствовал чужую сердечную беду: «Наши монашенки привезли ему (Якушкину. – Л.Т.) письмо от тещи, жена даже не хотела писать. Тоска все это, но мудрено винить ее. Обстоятельства как-то неудачно тут расположились, в ином виноват сам Якушкин. Теперь они совершенно чужие друг другу».
Впрочем, Якушкину не обошло материнское счастье: оба сына выросли такими, какими хотел видеть их отец. Мало того, что они были умны, благородны, красивы, независимы в суждениях, прекрасно образованы – Анастасия Васильевна оставила мужу детей, воспитанными в любви и почитании к отцу, которого они знали только по материнским рассказам.
Рассказы же сыновей дополняют чарующий облик Якушкиной, знакомый нам по портретам.
«Я не встречал женщины лучше ее, – писал Евгений Иванович Якушкин. – Она была совершенная красавица, замечательно умна и превосходно образована. Ее разговор просто блистал, несмотря на чрезвычайную простоту ее речи. Но все это было ничего по сравнению в душевной ее красотой. Я не встречал женщины, которая была бы добрее ее.
Она готова была отдать все ,что у нее было, чтобы помочь нуждающемуся... Она одинаково обращалась со всеми, был ли это богач, знатный человек или нищий...»
...В 1853 году, когда Анастасия Васильевна уже шесть лет покоилась на Новодевичьем кладбище Первопрестольной, 27-летний Евгений Иванович Якушкин, младший сын супругов, посланный по делам службы в Сибирь, впервые встретился со своим отцом. Ивану Дмитриевичу было тогда 60 лет.
В его квартире из двух комнат, блиставших чистотой и порядком, Евгений увидел «артистической работы бюст» и признал в нем свою покойную мать. Над письменным столом висели их с Вячеславом, старшим братом, детские портреты. Этого недолгого свидания было достаточно, чтобы понять: окружающие не просто любят Ивана Дмитриевича, а благоговеют перед ним «за чистоту его безупречной жизни и безграничную любовь к ближнему».
...Манифест 1856 года освободил от ссылки Якушкина и его товарищей, тех, кто еще остался жив. Иван Дмитриевич возвратился на родину, но находиться в столице права не имел. Он скончался на чужих руках в имении Новинки Тверского уезда в августе 1857 года.
Из всех участников этой истории самый длинный век был послан княгине Наталье Дмитриевне Щербатовой -Шаховской. Она умерла в девяносто лет в родовом щерба-товском доме, который помнил ее еще девушкой, ожидавшей приезда из поверженного Парижа двух гвардейцев, Двух Иванов Дмитриевичей – Щербатова и Якушкина.
II. «Золотая рыбка» Ольги Калашниковой
О «крестьянской любви» Пушкина экскурсоводы особо не распространяются. Наверное, считают, что крепостная девушка Ольга Калашникова не выдерживает никакого сравнения с возлюбленными, воспетыми поэтом в его стихах.
Но скорее всего, во всем, что связано с Ольгой, есть некое неудобство. Поневоле придется вспомнить, что Александр Сергеевич был не только великим поэтом, но и барином, имел крепостных. Пусть немного, но все же... А мы из школьных учебников знаем, как зачастую складывались отношения барина с красивой молодой невольницей. Но что делать, во времена Пушкина так было. Другое дело – как было…
* * *
Пушкин недаром не любил лето – не исключено, что из-за печального лета 1824 года, когда его выслали в Михайловское. Сейчас мы говорим о псковском селе как о благословенном месте, где им было создано множество шедевров. Однако поэт испытал здесь не только муки творчества.
Причин для крайнего уныния в том году у поэта было предостаточно. Пушкина не только сослали в псковскую глухомань под полицейский надзор, что было крепким ударом по самолюбию, но к тому же и уволили с государственной службы. Это означало бесперспективность и безденежье. Терзало одиночество. Темпераментная натура поэта плохо переносила затворничество.
Конечно, рядом хлопотала няня Арина Родионовна, а в Тригорском поэта обожало все семейство П.А.Осиповой. Однако няня есть няня, а угнетенное состояние духа не позволило поначалу Пушкину оценить тригорских обитательниц, и он называл их «несносными дурами».
Жили в Михайловском и родители. Но отношения с ними никогда не отличались теплотой. Пушкин писал: «Пребывание среди семьи только усугубило мои огорчения... Меня попрекают моей ссылкой...» От раздраженного поэта досталось всем. Даже окружающей природе: «Небо у нас сивое, а луна точно репка».
Было еще одно обстоятельство, которое отравляло Пушкину жизнь в сельской глуши. Сотоварищи-лицеисты говорили о нем: «Вспыльчивый до бешенства, с необузданными африканскими страстями». «Огонь мучительных желаний» стал тревожить Пушкина куда раньше, чем товарищей-подростков.
В начале жизни мною правил
Прелестный, хитрый слабый пол...
«От одного прикосновения к руке танцующей во время лицейских балов взор его пылал, – пишет однокашник Пушкина Сергей Комовский. – И он пыхтел, сопел, как Ретивый конь среди молодого табуна».
Однако в Михайловское Пушкин приехал уже не мальчиком, а мужем, вполне познавшим восторги плотских страстей, всю «прелесть наслаждения», и не представлявшим без них жизни. Поэтому легко понять, как рвалось его мужское естество туда, где
Сорок девушек прелестных,
Сорок ангелов небесных,
Милых сердцем и душой.
Что за ножка – Боже мой...
Царь знал, как наказать. «Пылкость и сладострастие африканской крови» стало истинным мучением для поэта. И ничто не мило – природа требовала своего.
От чуткой Родионовны едва ли могло укрыться подавленное состояние ее любимца. Прожив при барах долгую жизнь и отлично понимая, что к чему, возможно, именно няня и постаралась, чтобы рядом с поэтом появилась пригожая девушка.
По воспоминаниям известно, что Родионовна командовала всем бытом Михайловского дома. Поблизости от кабинета Александра Сергеевича находилась комната, где вверенные ей господские девушки под долгие россказни няни вечерами занимались рукоделием. Естественно, михайловский затворник навещал эти девичьи сборища и заприметил Ольгу Калашникову.
Была ли она хороша собой? Портрета ее не сохранилось, но все же с уверенностью можно сказать – да. Недаром Иван Пущин, приехавший из столицы проведать ссыльного друга, первым делом обратил внимание именно на Ольгу.
В разговоре друзья, конечно же, коснулись этой темы. В ту зиму 1825/26 года роман поэта был в самом разгаре. Пущин в своих «Записках» дает понять, что его удивила и покорила та серьезная интонация, с которой Александр Сергеевич говорил о девушке.
...Ольга Михайловна Калашникова родилась в 1806 году, следовательно, в момент встречи с поэтом ей было девятнадцать. Отец ее служил управляющим у Пушкиных и был мужиком грамотным и смекалистым. Он довольно беззастенчиво пользовался хозяйской безалаберностью, но к нему привыкли, потому и терпели.
Глубокой осенью, когда все обитатели Михайловского съехали в город, а Пушкин остался в доме совсем один, и началась его связь с Ольгой. Особой тайны из этого Пушкин не делал. Он писал сестре, что в Тригорском бывает редко, и та понимала, что брату в Михайловском не скучно. Тут же приписал шутливые строчки:
Смеетесь вы, что девой бойкой
Пленен я, милой поломойкой.
Случайных слов – ради рифмы у Пушкина нет. Ольга, по всему, и впрямь была бойкая, проворная и веселая. Слово «милая» – значительное у поэта. Он употреблял его тогда, когда кто-то был очень по сердцу, приятен глазу.
О привлекательном облике «поселянки» говорит прелестная повесть Пушкина «Барышня-крестьянка». Там юная дворяночка не без опаски решает поменять платье на только что сшитый сарафан. «Лиза примерила обнову и призналась перед зеркалом, что никогда еще так мила самой себе не казалась». Да и не только себе. Молодой светский щеголь Алексей Берестов, встретивший мнимую крестьянку в лесу, «был в восхищении, целый день думал он о новой своей знакомке; ночью образ смуглой красавицы и во сне преследовал его воображение». Вот вам и завязка истории, окончившейся свадьбой.
Не отзвуки ли радостных встреч самого Пушкина с Ольгой звучат в «Барышне-крестьянке»? А в «Евгении Онегине» он пишет о «младом и свежем поцелуе» «черноокой селянки». Как знать, может, и здесь сказано об Ольге – блондинке с темными глазами. А это редкое сочетание, и Александр Сергеевич, тонкий ценитель красоты, особенно подчеркивает это.
...Меж тем «крестьянский роман» Пушкина шел своим чередом. Будь это случайная связь, все сошло бы на нет быстро и Ольгу сменила бы другая сельская Психея. Но «утехи Купидона» с ней продолжались более полутора лет.
Весна 1826 года принесла Пушкину тревогу – Ольга была беременна. Отца ее к тому времени Сергей Львович Пушкин перевел управителем в другое свое поместье, Бол-дино. У поэта появилась мысль отправить Ольгу к родителям. Но он, видимо, хотел избавить девушку от переживаний, которые принесла бы встреча с отцом и любопытными болдинскими жителями.

Няня Пушкина Арина Родионовна была крепостной бабки Александра Сергеевича, МА.Ганнибал. В год рождения своего любимца Саши в 1799 году она получила от своих господ вольную, но покинуть их не захотела. Все маленькие Пушкины были выращены ею. «Крепостной роман» Александра Сергеевича, без сомнения, развивался на ее глазах. Подобные барские забавы в то время были Делом обыкновенным.
Как всегда в затруднительных случаях Пушкин обратился к Вяземскому с просьбой приютить Ольгу на время родов в Москве. И прибавлял: «...при сем с отеческою нежностью прошу тебя позаботиться о будущем малютке, если то будет мальчик. Отсылать его в воспитательный дом мне не хочется, а нельзя ли его покамест отдать в какую-нибудь деревню?»
Даже из этих кратких строк видно, как обескуражен, расстроен Пушкин, сколько вариантов перебрал он в голове, дабы ситуация разрешилась менее болезненно.
Но, вероятно, Вяземскому не слишком хотелось брать на себя малоприятные хлопоты, и он с присущим ему умением убеждать посоветовал Пушкину сразу разрубить гордиев узел, а не затягивать дело. Тут лучше, рассуждал Вяземский, написать отцу Ольги «полулюбовное, полураскаятельное, полупомещичье письмо, во всем ему признаться, поручить ему судьбу дочери и грядущего творения, но поручить на его ответственность, напомнив, что некогда волею Божьей ты будешь его барином и тогда сочтешься с ним в хорошем или худом исполнении твоего поручения».
Александр Сергеевич послушался Вяземского. В июле 1826 года в Болдине появилось на свет его «крепостное чадо».
Один из самых известных пушкинистов, В.В.Вересаев, выпустил в 1937 году двухтомник «Спутники Пушкина», написанный на основании скрупулезно собранных материалов. Но он все-таки не смог удовлетворить любопытство читателей. «О судьбе ребенка Пушкина от Ольги Калашниковой, – замечает автор, – нам ничего неизвестно». Исследователи, естественно, не могли с этим смириться. И вот из книги Л.М.Аринштейна «Пушкин. Непричесанная биография», увидевшей свет в 1998 году, можно узнать, что у Ольги Калашниковой родился сын и назвали его Павлом. «Особой заботы о нем никто не проявлял, и два месяца спустя мальчик умер. Мы не знаем, – пишет автор, когда дошла до Пушкина эта печальная весть, но, оказавшись в Болдине в четвертую годовщину смерти сына, в такой же, вероятно, ненастный осенний день, он посвятил этому события одно из самых грустных своих стихотворений».

«Вечером слушаю сказки моей няни», – писал Александр Сергеевич друзьям. Мы-то знаем, что помимо няниных сказок его увлекала «свободная любовь». Чего только не бывает в жизни: романтический сюжет крепостных времен доставил немало хлопот барину, совершенно изменил жизнь хорошенькой холопки.
Процитируем из него всего лишь четыре строки:
Вот, правда, мужичок, за ним-де бабы вслед.
Без шапки; несет под мышкой гроб ребенка
И кличет издали ленивого попенка,
Чтоб тот отца позвал да церковь отворил.
Что и говорить: невозможно отделаться от впечатления, что перед Пушкиным, стоило ему появиться в Болдине, вставала мучившая его картина убогих похорон его бедного мальчика: Ольга с матерью да сам Калашников с гробиком внука под мышкой.
В книге «Поэтическое хозяйство Пушкина» В.И.Ходасевич высказал мысль, что сюжет «Русалки», где дочь мельника Наташа, родив дочь от князя, бросилась в омут, не выдержав обмана, навеян Пушкину реальными событиями: Ольга-де утопилась с горя.
На самом деле события развивались как раз самым жизнеутверждающим образом, снова и снова доказывая: вовсе не трагические коллизии, а отношение к ним определяет поведение людей. Пережив, безусловно, черные дни, Ольга Калашникова взялась за устройство своей судьбы. Она сделала ставку на бывшего возлюбленного и не проиграла: по ее просьбе Пушкин дал ей вольную.
Проходит некоторое время, и Ольга просит «зделать милость брату Василию», то есть отпустить на волю и его. Калашниковы же принадлежали родителям Пушкина, и, чтобы распорядиться их судьбой, поэт должен был сначала приобрести право на владение ими. Безусловно, при прохладных семейных отношениях Пушкину едва ли хотелось заниматься этим. Однако Ольга прекрасно чувствовала отношение Пушкина к ней и его желание каким-то образом искупить вину. Что ж! – она решила предоставить ему такую возможность. «Вы можете упросить матушку взять нашу всю семью к себе и тогда зделаете свою великую милость, за что вас и Бог наградит...»
Едва получив вольную, Ольга выходит замуж. Михайло Калашников написал Пушкину, что выдал дочь «с великим трудом». Однако дело того стоило: Ольга стала женой не абы кого, а дворянина, титулярного советника Павла Сергеевича Ключарева. Надо признать, что такая партия для крестьянки, даже и барином «порченной», достойна удивления. Ключарев служил дворянским заседателем в земском суде, по тому времени был для округи начальством, а кроме того, имел имение с тридцатью душами крестьян. Таким образом, Ольга сама стала дворянкой, барыней и владелицей крепостных.
В начале января 1833 года Пушкин получил письмо – «кудрявое», как он выразился, – уже от ее супруга. Тот от имени Ольги просил две тысячи рублей на выкуп заложенного имения. Требуемую и, надо сказать, очень существенную по тем временам сумму Пушкин не дал, но написал Ольге письмо.
В ответе, видимо, чувствуя, что немного переборщила в своих притязаниях, госпожа Ключарева сообщает Пушкину, что недовольна своим супружеством. Муж – «пьяница и самой развратной жизни человек... У меня – вся надежда на вас, милостивый государь», – пишет она. Вдоволь поплакавшись, бедная жена обращается с просьбой. Во-первых, она снова беременна и просит, чтобы Пушкин был крестным. Во-вторых, чтобы он защитил ее отца, продолжавшего воровать, от Пушкина-старшего, Сергея Львовича. Видимо, того мошенник управляющий допек, и он посадил над ним белорусского дворянина Пеньковского. Тем не менее просьбы Ольги за отца были успешны. Недаром Пеньковский с некоторым намеком сообщает Пушкину весной 1834 года: «Ольга Михайловна с большою уверенностью утверждает, что она меня, как грязь с лопаты, с должности сбросит, только бы приехал Александр Сергеевич в Болдино, тогда что она захочет, все для нее сделает Александр Сергеевич».
«Сбросить Пеньковского, – пишет пушкинский биограф В.В.Вересаев, – ей не удалось, но своего «блудного тестя», грабителя и мошенника Калашникова, Пушкин до конца своей жизни продолжал держать в качестве управляющего в принадлежащем лично ему Кистиневе».
Проворная и хваткая дворянка Ключарева не стала терпеть «беспечного человека», как она называла мужа. Стоило тому разориться, как она развелась с ним на весьма выгодных по всему условиях. Ибо, жалуясь Пушкину, что останется, видимо, «без куска хлеба», купила-таки себе не только удобный дом в уездном городишке Аукоянове, но и для престижа – несколько крепостных.
Сходство Ольги с пушкинской героиней, замучившей золотую рыбку просьбами, очевидно. Однако «крестьянская любовь» поэта сумела остаться отнюдь не у разбитого корыта.
III. Второе замужество Натальи Николаевны
...Генералу Петру Петровичу Ланскому уже перевалило за сорок – возраст весьма почтительный по меркам XIX века. Однако семьей он так и не обзавелся.
Такому застарелому холостячеству имелась своя причина. Ланской очень давно, молодым, пленился одной замужней дамой. Он – любил, она – позволяла любить себя. Ему приходилось довольствоваться лишь ее снисходительностью. Мужу своему она изменяла легко, со многими, и генерал понимал, что предмет его воздыханий, в сущности, бездушное, испорченное создание.
Время шло, и ему казалось, что искоренить эту страсть сможет лишь его смерть. Видя, что его красавица заводит все новые и новые романы, Ланской не раз пытался порвать с мучительной связью. Но ничего не выходило – красавица не выпускала его из маленьких цепких ручек: так иногда не хотят расстаться с совершенно ненужной вещью, полагая, что когда-нибудь она еще пригодится.
В характере Ланского имелась черта, которая мешала ему быть счастливым любовником. Эта черта, которая называется верностью, составляла суть его натуры.
Петр Петрович не понимал, что увлекательного находят другие, бросаясь от одной привязанности к другой. Этот импозантный, мужественного вида, уже начинавший седеть генерал каким-то образом ухитрился сохранить в себе романтические представления о тех узах, которые должны соединять мужчину и женщину. Просто беда!
Его возлюбленная потешалась над такими старомодными взглядами. Она отлично усвоила, что Ланской не вертопрах, человек щепетильный в вопросах мужской порядочности, а к тому же терпеливый, как мул, и никуда от нее не денется. Однажды, когда Петр Петрович уж особенно допек ее упреками в непростительном пренебрежении к его чувствам, жестокая дама в очередной раз посмеялась над ним:
– С сентиментальностью вашего ума и верностью привязанностей, соперничающей с плющом, во всем мире существует только одна женщина, способная составить ваше счастье, – это Наталья Пушкина, и на ней-то вам следовало бы жениться!
О Наталье Пушкиной тут было помянуто не случайно.
Идалия Полетика – так звали мучительницу Ланского – доводилась Наталье Николаевне родней, хоть и дальней, а кроме того, подругой, хоть и коварной. На совести этой дамы осталось преступное желание сблизить Натали с Дантесом, и тем насолить Пушкину, которого по причинам, так и невыясненным, Идалия ненавидела. В кровавой развязке драмы, сделавшей жену поэта вдовой, она, увы, сыграла весьма неблаговидную роль. Этого Наталья Николаевна не могла не понимать. Она сначала отдалилась, а потом вовсе прервала всякие связи с бывшей подругой.
Едва ли верный рыцарь Идалии так уж интересовался подробностями истории, закончившейся дуэлью на Черной речке. Ланской по своему характеру не принадлежал к тем, кто любит всяческие слухи и сплетни, которых в том черном январе 1837 года ходило множество. Между тем среди добрых знакомых Ланского был любимый брат Натали – Иван Николаевич, поэтому известие о несчастье, переживаемом в семье Гончаровых, отложилось в сознании Ланского. Но, возможно, для него смертельный поединок, лишивший Россию Пушкина, не выходил за рамки финала достаточно банальной истории: ревнивый муж, настырный поклонник, кокетливая жена. Слава бесподобно красивой Натали Пушкиной оставляла его равнодушным: он был целиком во власти многолетнего чувства к Идалии. Прямой и честный, он, ненавидя свое положение тайного любовника, считал, что эта страсть – его крест по гроб жизни. И не мог допустить даже мысли, что может что-то измениться, а слова его легкомысленной подруги окажутся пророческими...
* * *
Наталья Николаевна овдовела в двадцать четыре года. Пушкин оставил ей свое великое имя, долги, которые взял на себя царь, и четверых рожденных ею за шесть лет супружества детей. Старшей – Маше – было неполных пять лет, младшей – Наташе – восемь месяцев.
Александра Сергеевича не стало 29 января 1837 года, а 16 февраля его вдова покинула дом на Мойке, где так страшно, мучительно он умирал. Уезжала она спешно, ничего не собирая, ничем не распорядясь. Их с Пушкиным квартира в доме на Мойке – последнее семейное гнездо – оставалось не разоренным. Уже после отъезда Натальи Николаевны друзья поэта позаботятся о том, чтобы сберечь обстановку квартиры и драгоценную пушкинскую библиотеку. Все будет сдано на двухлетнее хранение на склад.
... По зимней дороге вдову с детьми лошади везли в родовое гончаровское имение Полотняный Завод. Здесь, вместе с сестрой Александриной, Наталья Николаевна предполагала не только переждать тяжелое для себя время, опомниться от удара, но и остаться на постоянное житье. Мысль о Петербурге была ей невыносима. Подальше от людей! Среди родных стен, книг, которым она с радостью предалась, в окружении детей, еще не осознававших своего сиротства, ей было легче.
Дети, дети!.. Именно они заставили Наталью Николаевну спустя почти два года затворничества принять решение о возвращении в Петербург. Болезни ее малышей каждый раз заставляли Наталью Николаевну страшно волноваться. Где в этой глухомани найти хороших врачей? От одной мысли, что помощь могла опоздать или оказаться недостаточной, она теряла самообладание. А учение? Маленьким Пушкиным, считала мать, нужны хорошие учителя. Кроме того, оставшись одна во главе немалого семейства, Наталья Николаевна понимала, что жизнь на отшибе лишит ее общества тех людей, на помощь которых она могла рассчитывать. Теперь ей приходилось думать и волноваться о том, раньше лежало на муже, – откуда брать деньги. – Это оказалось, пожалуй, самым главным – надо было прояснить материальное положение – на что жить, на что надеяться.
И вот в ноябре 1838 года вдова снова появилась в Петербурге. Правда, обосновалась она теперь уже не в прекрасной квартире на Мойке, в самом центре столицы, а уже подальше, на Аптекарском острове. Жизнь здесь пошла совершенно не сравнимая с той, что была прежде. И дело не только в том, что с гибелью мужа многое для Пушкиной стало недоступным. Сама Наталья Николаевна была уже не та, что два года назад.
Это, конечно, не диво. Горечь потери опоры в жизни знакомо многим. У того, кто прошел через горнило внезапного жестокого испытания, словно какая-то пелена спадает с глаз. Все видится в другом свете. И человек поневоле, если уж не ради себя, то ради близких, должен искать и находить в себе силы решать вопросы, к которым раньше не знал как и подступиться.
Когда Наталье Николаевне опекунский совет вручил деньги за посмертное издание произведений Пушкина, то она не взяла оттуда ни копейки на свои нужды, считая, что эта значительная для нее сумма – 50 тысяч рублей – принадлежит детям.
А деньги были очень нужны. Недаром Александр Сергеевич словно предчувствовал: случись с ним недоброе – семью ждет крах: «Жена окажется на улице, – как он писал, – а дети в нищете». Не многим лучше и вышло.
Первое, с чем пришлось столкнуться вдове, – это материальные трудности. Наталье Николаевне очень хотелось выкупить у родни мужа Михайловское, находившееся в общем владении, и оставить этот любимый пушкинский уголок за собой. Но денег не было не только на это. Их не хватало на самую скромную жизнь, и не было дня, чтобы Пушкину не посещали горькие мысли.
Со стороны своих родных она, вдова с четырьмя детьми, не получала сколь-нибудь упорядоченной помощи, хотя и имела на то законное право: определенная часть доходов с гончаровских предприятий принадлежала и Наталье Николаевне.
Ее письма к братьям переполнены просьбами и сетованиями на отсутствие средств, за которыми чувствуется настоящая безысходность. Не из-за жадности или бессердечности те то и дело задерживали с выплатами причитавшегося. Мужчин Гончаровых, как, впрочем, и Пушкиных, отличали непрактичность и неумение прибыльно хозяйничать. И помощь, на которую рассчитывала Наталья Николаевна, под благовидными предлогами все оттягивалась, приходила нерегулярно. Это ставило иногда осиротевших Пушкиных на грань настоящей нужды.
«Мне очень стыдно снова возвращаться к деловой теме, – пишет «дорогому и добрейшему братцу» Наталья Николаевна из Михайловского, напрасно надеясь передохнуть от наседавших забот, – попытаюсь кратко и точно изложить тебе состояние моих дел, чтобы извинить в твоих глазах мою настойчивость... Итак, вот каково мое положение. При отъезде, как я уже тебе раньше писала, я заняла 1000 рублей у Вяземского без процентов, без какого-либо документа. Срок возврата был 1 июля. Я знаю, что он в стесненных обстоятельствах, и мне было очень тяжело не иметь возможности с ним расплатиться. Позднее плата за новую квартиру, которую мне подыскивают в П., требовала отправки такой же суммы. Мне были необходимы две тысячи рублей, а где их взять?.. При таком положении вещей я была вынуждена обратиться к свекру. Он согласился одолжить мне эту сумму, но при условии, что я верну ему деньги к 1 сентября».
Как много странного и страшного узнаешь из строчек этих писем-прошений. Значит, вдове Пушкина кто-то из ближайшего круга поэта одалживал под проценты? Под долговые расписки? А свекор Сергей Львович? Известно, что человек он был небогатый, сам подчас сидел без копейки. Но как-то неловко читать письмо вдовы, из которого узнаешь, что, желая подстраховаться от неуплаты долга вовремя, старик Пушкин заручился бумагой, в которой значится: в этом случае у вдовы будут вычитать деньги из ее пенсии, пока вся сумма не окажется погашенной.
Обычно мы по-иному представляем себе нравы и отношения людей пушкинского века, благороднее которого, кажется, и не было! И до ужаса ясно представляешь себе положение женщины, которая смирилась с тем, что теперь она всего лишь «вдова Пушкина», назойливая просительница у родных и неаккуратная должница у друзей.
...Наступала осень – самое любимое покойным мужем время года, которое дарило его покоем, умиротворенностью. В эту пору были написаны самые лучшие произведения. Наталья Николаевна о покое могла только мечтать: у нее на руках оставалось четверо маленьких детей. Понятно, что душевные силы ей изменяли. Она уже не видела проку в бесконечных просьбах. Тогда ее сменяла сестра Александрина.
«...Я думаю, ты не рассердишься, – писала она брату Дмитрию Гончарову, – если я позволю себе просить тебя за Ташу... Я умоляю тебя взять ее под свою защиту. Ради Бога, дорогой брат, войди в ее положение и будь так добр и великодушен – приди ей на помощь. Ты не поверишь, в каком состоянии она находится, на нее больно смотреть».








